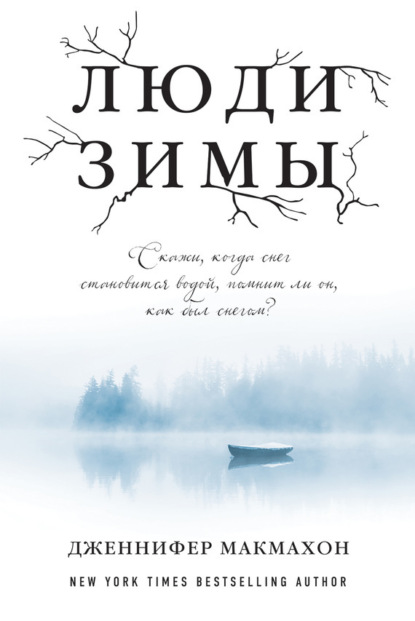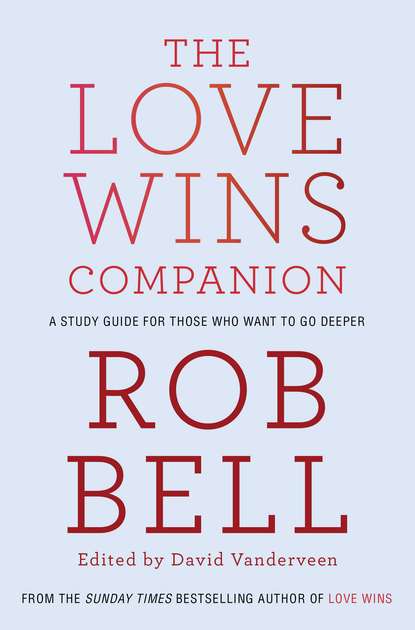- -
- 100%
- +
Всадник уже повернулся к старосте, доставая из складок плаща деревянную табличку с печатью. «Через три дня на перекрестке к северу от деревни будет караван. Будешь готов – иди. Нет – твое дело.»
Голос был безразличным, как скрип несмазанных ворот. Судьба была предложена и тут же обесценена. Его будущее, которое только что перевернулось, было объявлено никчемным, но все равно единственным шансом.
Ли медленно опустил руки. Он не смотрел ни на кого. Он смотрел себе под ноги, на утоптанную землю, на которой он играл ребенком, на которую проливал пот, работая рядом с отцом. Эта земля была реальной. А все, что только что произошло, казалось дурным сном. Он был все тем же Ли. Но теперь он был Ли с клеймом. С тусклой, почти угасшей искрой внутри, которая вдруг стала его проклятием и его единственным билетом в неизвестность. Он сделал шаг назад, потом другой, отходя от Камня Души, чувствуя, как тяжелый, смешанный взгляд всей деревни провожает его. Ему нужно было воздуха. Ему нужно было остаться одному. Чтобы понять, что только что случилось. И что же он теперь такое.
***Тишина длилась одно сердцебиение. Всего одно. А потом ее разорвали звуки, которые впивались в Ли острее любых криков.
Где-то сзади фыркнула лошадь всадника, брякнула упряжь. Кто-то из стариков громко, с облегчением крякнул. Женщина прошептала: «Слава богам, мой-то не показал…» И этот шепот, полный низменного, животного успокоения, был самым страшным. Потому что означал, что его, Ли, участь была хуже, чем участь ее сына. Участь остаться.
Он стоял, не в силах сдвинуться с места, все еще чувствуя на ладонях призрачный холод Камня Души. Вокруг него началось движение, жизнь возвращалась в свое привычное, убогое русло, но он был островком, вокруг которого все обтекало. Взгляды, которые на него бросали, были быстрыми, украдкой, и отскакивали прочь, словно обжигались. Он ловил в них не радость, не гордость, а неловкость, растерянность и туповатое любопытство, какое испытывают к уроду на ярмарке.
«Ну, Ли… Поздравляю, значит…» – пробормотал староста Ло, похлопав его по плечу с такой же неискренней бодростью, с какой хоронили покойников. Его рука была тяжелой и липкой. Ли не ответил. Он не мог оторвать глаз от земли у своих ног.
Потом он увидел мать. Она шла к нему через площадь, и ее лицо было мокрым от слез, но это были не слезы счастья. Она шла, обняв себя за плечи, словно замерзая, хотя день был не холодным. Ее пальцы впивались в ее же собственные руки, костяшки побелели. Она подошла и, не говоря ни слова, обняла его. Ее объятие было отчаянным, дрожащим. Она прижала его голову к своему плечу, и он почувствовал запах дыма, больного тела и той особой, горькой грусти, которая была фоном всей их жизни.
«Мама…» – прошептал он, и голос его сломался.
«Мой мальчик… Мой маленький…» – ее слова были едва слышны, они тонули в ткани его куртки. Она гладила его по волосам, и ее рука дрожала. «Куда они тебя заберут… Что они с тобой сделают…»
Ее страх был густым и осязаемым, как туман. Он не видел в ее глазах гордости за сына, удостоенного «чести». Он видел лишь ужас матери, теряющей ребенка в непонятном и, без сомнения, жестоком мире.
И тогда пришел отец.
Он подошел медленно, его тяжелые, налитые грязью башмаки громко стучали по утоптанной земле. Он остановился в двух шагах, не приближаясь, не протягивая рук. Его лицо оставалось маской, но маской, под которой клокотала лава. Его глаза, обычно ясные и определенные, метались, не находя точки для остановки. Он смотрел на Ли, но словно не видел его. Видел что-то другое. Проблему. Невозможный выбор. Горечь.
«Низкого качества… – наконец произнес он. Его голос был хриплым, слова выходили с трудом, будто он давился ими. – Поврежденный… Так и сказал.»
Ли почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Эти слова отца ранили больнее, чем от чужака-всадника.
«Я… я не знаю, что это значит, батя», – выдавил он.
«Значит, ты не первый сорт, сынок, – отец грубо провел ладонью по лицу. – Значит, взяли тебя, как берут подгнившую картошку – лишь бы заполнить меру. Из жалости, что ли.»
«Отец!» – мать оторвалась от Ли, ее глаза вспыхнули. «Не говори так!»
«А как говорить, а?» – голос отца внезапно сорвался, став громким и резким. Он ткнул пальом в сторону, где только что стоял всадник. «Слышал? „Почти угасший“! Это не дар, жена! Это насмешка! Шанс, да. Но шанс на что? На то, чтобы быть посмешищем среди тех, у кого корни золотые? На то, чтобы сломаться в первую же неделю и быть выброшенным как мусор?»
Он шагнул к Ли, вплотную. От него пахло потом, землей и гневом.
«Ты думаешь, они там, в своих школах, ласковые? Думаешь, будут нянчиться с тобой из-за твоего „тусклого“ корня? Нет! Сожрут. Выбросят. А здесь… здесь ты хоть свой. Здесь ты знаешь, за что браться. Здесь ты будешь жив.»
Ли слушал, и каждая фраза отца была как удар камня. Но странным образом, эти удары не ломали его. Они закаляли. Внутри него, там, где таилась та самая угасшая искра, что-то шевельнулось. Не тепло, не свет. Упрямство.
«Он сказал – „формально соответствует“, – тихо, но четко произнес Ли. – Значит, возьмут.»
Отец замер, изучая его с новым, незнакомым выражением. Гнев медленно стекал с его лица, сменяясь чем-то вроде усталого изумления.
«Возьмут, – согласился он, и его плечи опустились. Вдруг он показался Ли очень старым. – Значит, такова воля Небес. Раз судьба дала шанс…» Он сделал паузу, ища нужные слова, слова, которые давались ему тяжелее, чем любая работа. «…Иди.»
Это было не благословение. Это была констатация. Приговор.
Он повернулся и пошел к их хижине, его спина, всегда такая прямая, сейчас сгорбилась под невидимой тяжестью.
Мать снова заплакала, тихо, безнадежно. Потом вытерла лицо краем платка и потянула Ли за руку. «Пойдем, сынок. Пойдем домой.»
Они пошли через деревню. И снова – взгляды. Но теперь Ли поднял голову и смотрел прямо перед собой. Он видел зависть в глазах ровесников – тупую и неосознанную. Они видели лишь «удачу», магию, полет на мече. Они не слышали слов «тусклый» и «поврежденный». Он видел жалость в глазах стариков. И видел странное, уважительное отчуждение. Он был еще здесь, но его уже не было. Он уже принадлежал другому миру. Миру, который, возможно, действительно сожрет его. Но это был его выбор. Его шанс.
В хижине пахло тем же – дымом, травами, болезнью. Но теперь этот запах казался ему прощальным. Он сел на свою лежанку, а мать засуетилась у очага, пытаясь растопить печь, хотя в этом не было необходимости. Ее движения были резкими, нервными.
Отец стоял у сундука, он открыл крышку, и Ли увидел внутри аккуратно сложенные запасы – мешочек с зерном, несколько корнеплодов, тряпичный узелок. Отец достал оттуда маленький, зашитый кусок кожи. Разорвал нитку зубами. Внутри лежало пять медных монет. Он взял одну, самую старую, почти стертую. Подержал в ладони, словно взвешивая.
«На, – он протянул монету Ли. – На удачу.»
Ли взял. Монета была холодной и гладкой. Он сжал ее в кулаке, чувствуя, как металл впивается в кожу.
Потом отец достал свой дорожный нож в самодельных деревянных ножнах. Лезвие было коротким, широким, идеально подходящим для бытовых работ, а не для боя. Рукоять была темной от пота и времени.
«И это, – он протянул нож. – Может, пригодится.»
Ли взял и его. Тяжесть оружия в руке была непривычной и тревожной.
Он сидел, сжимая в одной руке монету, в другой – нож, и смотрел, как мать бесцельно переставляет горшки у очага, а отец, упершись руками в сундук, смотрит в пустоту. Они были рядом, но уже отдельно. Пропасть, которую проложили между ними слова всадника, была уже не просто словами. Она стала осязаемой, как стена.
Ли закрыл глаза. Он чувствовал не боль, не страх, не радость. Он чувствовал тяжесть. Тяжесть медной монеты. Тяжесть ножа. Тяжесть взглядов всей деревни. И тусклую, упрямую тяжесть в самом низу живота, которая теперь была его единственным спутником в неизвестность. Он рожден в грязи. Но, возможно, это не приговор, а начало. Пусть и самое уродливое, самое трудное начало, какое только можно себе представить.
***Монета вдавилась в ладонь так, что на коже остался круглый след. Ли разжал пальцы, посмотрел на оттиск – тусклое пятно, похожее на клеймо. Он переложил монету в другую руку, где уже лежал отцовский нож. Две тяжести. Два дара. Один – на удачу, которой, судя по всему, у него отродясь не было. Другой – для защиты, против врагов, о которых он знал лишь из пугающих сказок.
Три дня. Всего три дня.
Они текли густо и тягуче, как испорченный мед. Каждое утро Ли просыпался с одним и тем же вопросительным уколом под сердцем: «Сегодня?» – и тут же вспоминал, что нет, еще нет. Он выполнял свою работу – таскал воду, чинил плетень, ходил за травами для матери. Но теперь все движения были будто затуманены, отделены от него тонкой, но неразрывной пеленой. Он смотрел на знакомые поля, на изгиб реки, на лица соседей, и все это казалось ему уже чужим, уходящим, как берег отплывающей лодки.
Отец почти не разговаривал. Он молча работал рядом, и его молчание было громче любых слов. Иногда Ли ловил на себе его тяжелый, оценивающий взгляд. В нем не было ни гнева, ни одобрения. Была лишь глубокая, невысказанная тревога. Как будто он провожал сына на верную смерть, и единственное, что ему оставалось – научить его хоть чему-то напоследок.
На второй день, когда они ворошили сено, отец внезапно остановился, оперся на вилы и сказал, глядя куда-то вдаль:
«Там, говорят, свои порядки. Не наши. Не лезь первым. Смотри. Слушай. Умный силой не кичится.»
Ли кивнул, не зная, что ответить. Эти слова были похожи на те, что отец говорил ему, когда он впервые пошел помогать в кузню – не суйся, обожжешься. Только теперь масштаб был иным.
«И еще… – отец помолчал, подбирая слова. – Не жди справедливости. Ее нет. Есть сила. И есть выгода. Запомни.»
Он снова взялся за вилы, и разговор окончился, так и не начавшись по-настоящему.
Мать, наоборот, говорила без умолку. Ее слова лились беспокойным, бессвязным потоком, пока она готовила еду или штопала его единственную запасную рубаху. Она рассказывала ему старые деревенские истории, давала советы, как ухаживать за одеждой, как определить съедобный корень… Все, что могло, по ее мнению, пригодиться ему там, в мифической школе бессмертных. Ее забота была тёплой и удушающей, как слишком толстое одеяло. И каждый ее взгляд, каждая слеза, которую она украдкой смахивала, говорили об одном: «Останься».
Вечер накануне отъезда был самым тяжелым. Они сидели за ужином – простая похлебка и лепешки. Мать положила Ли в миску самый большой кусок вяленого кролика, хотя мясо они ели раз в несколько месяцев. Отец молчал, уставившись в свою тарелку. Тишину нарушало лишь потрескивание углей в очаге и тихий, подавленный кашель матери.
После ужина мать подошла к своему сундучку, тому самому, где хранились самые ценные вещи. Она достала оттуда маленький, зашитый лоскуток. Разорвала нитки дрожащими пальцами. Внутри лежала засушенная веточка полыни и маленький, грубо обработанный камешек с дырочкой посередине.
«Это… это от сглаза, сынок, – прошептала она, протягивая ему этот незамысловатый амулет. – Носи с собой. Материнское благословение… оно… оно защитит.»
Ли взял его. Камешек был гладким, натертым за долгие годы. Он пах домом. Травой, дымом и материнскими руками. Он не верил в защиту от сглаза, но сунул амулет в карман, чувствуя, как у него перехватывает горло.
Ночь он провел почти без сна. Лежал на своей лежанке и слушал, как с другой стороны занавески ворочается отец и как мать тихо плачет в подушку. Он смотрел в темноту, на знакомые трещины на потолке, и пытался представить себе школу «Восходящий Поток». Летающие мечи. Сияющие дворцы. Людей, для которых перемещение камней было детской забавой. Но воображение рисовало лишь туманные, пугающие образы. И на фоне этих фантазий проступало лицо всадника – холодное, безразличное. «Корень низкого качества».
Под утро он все же задремал, и ему приснилось, что он снова пытается сдвинуть камень в поле, но камень превратился в тот самый Камень Души, и он не мог оторвать от него ладоней, а камень тянул его вниз, в холодную, безвоздушную темноту.
Он проснулся от прикосновения. Отец стоял над ним, уже собранный.
«Вставай. Пора.»
Больше ничего. Ни напутствий, ни просьб написать. Просто – пора.
Они позавтракали молча. Мать не плакала, она лишь смотрела на него такими глазами, словно пыталась запечатлеть каждую черточку его лица навсегда. Потом она собрала ему узелок – две лепешки, кусок сыра, немного сушеных ягод. Еда в дорогу. Все, что они могли дать.
Когда он вышел из хижины, первые лучи солнца только начинали золотить верхушки деревьев. Воздух был чистым и холодным. Деревня еще спала.
Они молча дошли до края деревни, до старого вяза, где кончалась их земля и начиналась чужая. Здесь тропа расходилась – одна вела к полям, другая, северная, уходила в лес, к перекрестку.
Отец остановился. Он повернулся к Ли, и в его глазах было что-то, чего Ли раньше не видел. Не тревога. Не гнев. Суровая, мучительная гордость.
«Иди, – сказал он снова, как тогда на площади. Но на этот раз в этом слове был не приговор, а напутствие. – Покажи им. Даже с твоим… корнем. Покажи им, что парень из Устья-Реки чего-то да стоит.»
Он резко кивнул, повернулся и пошел обратно, не оглядываясь. Его фигура быстро растворилась в утренних сумерках.
Мать не выдержала. Она бросилась к Ли, сжала его в объятия, прижала его голову к своей груди.
«Возвращайся, сынок, – шептала она, и ее слезы текли ему за воротник. – Если будет тяжело… если… просто возвращайся. Мы здесь. Мы всегда здесь.»
Он обнял ее, чувствуя, как хрупки ее кости под тонкой тканью. Потом осторожно освободился.
«Я вернусь, мама. Обязательно.»
Он не знал, врал он или нет. Но сказать нужно было именно это.
Он повернулся и сделал первый шаг по северной тропе. Потом второй. Он не оглядывался, зная, что если обернется, то не сможет уйти. Он слышал за спиной сдавленное рыдание матери, которое постепенно затихало, пока не слилось с утренним щебетом птиц.
Он шел, чувствуя в кармане тяжесть медной монеты, ножа и материнского амулета. В другой руке он сжимал узелок с едой и деревянный пропуск с печатью. Его шаги были твердыми. Внутри было пусто и странно спокойно. Страх никуда не делся, он был тут, холодным комком в желудке. Но был и азарт. Любопытство. И то самое упрямство, которое заставляло его снова и снова толкать неподдающийся камень.
Он поднял голову. Впереди, за лесом, лежал незнакомый мир. Мир, который, возможно, с презрением отвергнет его. Но он уже сделал свой выбор. Он рожден в грязи. Но он шел навстречу своему небу. Каким бы оно ни было.
Глава 2: Дорожная пыль
Древесная плитка с шершавой печатью «Восходящего Потока» жгла грудь сквозь тонкую холщовую ткань, будто раскаленный уголь. Ли неотрывно сжимал ее в потной ладони, как утопающий – соломинку. Каждый шаг по щебенистой тропе отдавался ноющей болью в босых подошвах, привыкших к мягкой глине деревенских полей. Воздух, еще вчера наполненный дымом очага и запахом мокрой после дождя земли, сегодня был пустым и безликим, пах лишь пылью да горькой полынью.
Он не оборачивался. Спиной он чувствовал тот самый взгляд – пронзительный, влажный, растворенный в утреннем тумане. Взгляд матери. Их хижина, их поля, вся его прежняя жизнь осталась там, за поворотом, скрытая рыжим склоном холма.
*«Школа „Восходящий Поток“…»* – мысль обжигала изнутри, смешиваясь со стыдом за свой «тусклый» корень и жалкий узелок с двумя лепешками. Он пытался вообразить парящие в облаках нефритовые павильоны, бессмертных в развевающихся шелковых ханьфу, скользящих на сияющих мечах. Но реальность была куда прозаичнее: пыль, налипающая на вспотевшую кожу, заноза в пальце от деревянного пропуска и холодок страха в глубине живота.
Дорога понемногу расширялась, сливаясь с другими тропами. Под ногами захрустел не знакомый мягкий щебень, а острый, колючий гравий, привезенный неизвестно откуда. Ли попытался ступать на пятки, как учил отец для долгой ходьбы, но камни впивались в подъем, оставляя красные следы. Каждый шаг был прощанием. Прощанием с упругой землей под босыми ногами, с шелестом рисовых полей, с тишиной, нарушаемой лишь криками птиц.
Он дошел до старого корявого вяза на развилке, где их деревенская тропа упиралась в широкую, укатанную колесами дорогу, уходящую на север. Ли остановился, оперся ладонью о шершавую кору. Прямо на дороге лежал большой, плоский камень, и он с внезапной ясностью вспомнил тот день в поле. Неподдающуюся глыбу, упрямо вросшую в землю. И то странное, мимолетное тепло в самом низу живота, тот миг единения с миром, когда ему казалось, что он чувствует дыхание земли. Он сжал кулак. *Это* было реально. Его корень, пусть «тусклый» и «поврежденный», существовал. И это знание давало ему хрупкую, но надежную опору.
Собрав волю в кулак, он перевел дух и ступил на большую дорогу. Пыль, взметнувшаяся из-под его босых ног, была другого оттенка – более серая, безжизненная. Он шел, и с каждым шагом родная деревня отдалялась не только в пространстве, но и внутри него. Он больше не был тем мальчиком, что чинил плуг и собирал травы для больной матери. Он был… кем? Пока лишь путником с пылью на ногах и неизвестностью в сердце.
Он посмотрел на север, где дорога терялась за холмом. Оттуда потянуло новым ветром – не знакомым сухим и пыльным, а влажным, с примесью хвои и чего-то металлического, может быть, далеких рудников или просто ожидания перемен. Ли расправил плечи, чувствуя, как на них ложится невидимая тяжесть предстоящего пути, и зашагал вперед, навстречу этому новому ветру.
***
Шум обрушился на него, как волна. Грохот колес, ржание коней, гортанные крики погонщиков, звон металла. Воздух гудел, как растревоженный улей, и пах десятками чужих жизней: потом, пылью, жареным маслом, пряностями, конским навозом и дегтем. Ли замер на обочине, чувствуя себя букашкой, забредшей на тропу великанов.
Мимо него, поднимая тучи пыли, проползали груженые товаром повозки, скрип колес которых резал слух. Всадники в потертых, но прочных кожаных доспехах с безразличными лицами обгоняли пеших, даже не удостаивая их взглядом. Нищие в лохмотьях протягивали руки, их голоса сливались в один протяжный стон. Ли видел, как другие пешие путники – торговцы с коромыслами, бродячие ремесленники – ловко встраивались в этот поток, знали куда идти. А он стоял, потерянный, не зная, с какой стороны обойти очередную телегу.
*«На север, к перекрестку у Скалы Двух Орлов»,* – вспомнил он слова безразличного всадника. Но где здесь север? Солнце скрылось за рваными облаками, и без того чуждый мир погрузился в серую, хаотичную мглу.
Собрав остатки смелости, он подошел к группе людей, расположившихся на привале у обочины. Трое мужчин в добротных, но запачканных дорожной грязью ханьфу из простой, но крепкой ткани распивали что-то из дорожных фляг. Рядом грудились ящики с товаром. Приказчики. От них пахло хмельным перегаром и жирным мясом, жарившимся на переносном очажке.
«Простите, благородные господа, – голос Ли прозвучал хрипло и чужим. – Не подскажете, как пройти к перекрестку у Скалы Двух Орлов?»
Мужики обернулись. Их глаза, мутные от хмеля и усталости, с медленным, оценивающим интересом обшарили Ли с ног до головы. Они увидели босые, в пыли и ссадинах ноги, грубые холщовые штаны, слишком короткие и вылинявшие от солнца, робкую осанку и худое, недоедавшее тело.
Один из них, широколицый, с обветренной, потрескавшейся кожей, усмехнулся, обнажив ряд желтых, кривых зубов. «К Скале? А тебе зачем, деревеньщина? Сокровища искать?» – его голос был густым, пропитанным презрением и хмелем.
Ли сглотнул комок, вставший в горле. «Я… я в школу „Восходящий Поток“».
Наступила тишина, и потом они разразились хриплым, громким хохотом, от которого у Ли задрожали колени. Звук был настолько грубым и издевательским, что казалось, сама пыль на дороге взметнулась от него.
«Ты? В „Восходящий Поток“? – фыркнул второй, тощий, с хищным лицом и быстрыми глазами. – Мальчик, да от тебя за версту несет навозом и нищетой».
«Подожди друг, может он не учеником а подтиральщиком бессмертных задниц идет?» – вставил третий, толстый, и его живот затрясся от смеха.
Жар ударил Ли в лицо. Кровь застучала в висках. Руки сами сжались в кулаки. Он хотел закричать, что у него есть корень, что его приняли, но слова застряли комом в горле, отравленные жгучим стыдом.
Широколицый приказчик тяжело поднялся, покачиваясь. Он подошел вплотную, и Ли почувствовал тяжелый, тошнотворный запах дешевого вина, чеснока и пота. «Слушай, паренек, – он говорил притворно-сочувственным тоном, но его маленькие глазки блестели холодной насмешкой. – Не позорься. Иди-ка ты назад, к своим свиньям. Твое место там». Он ткнул коротким, грязным пальцем в грудь Ли. Удар был несильным, но унизительным.
Затем приказчик повернулся к своим приятелям. «Смотрите-ка, будущий бессмертный! Надо его подкормить, а то не долетит до небес!» Он наклонился, схватил с своей тарелки объедок – жилистый, обглоданный кусок мяса и швырнул его Ли под ноги. Пыль взметнулась серым облачком. «На, деревеньщина! Покушай! Это тебе на удачу!»
Новый взрыв хохота покатился по обочине. К ним уже присматривались другие путники. Кто-то смотрел с жалостью, кто-то с таким же презрением, большинство – с полным, всепоглощающим безразличием.
Ли стоял, не двигаясь. Он смотрел на этот объедок, лежащий в пыли. Внутри все клокотало от ярости, унижения и горькой обиды. Он видел перед собой не этих пьяных грубиянов, а лицо отца. Суровое, молчаливое. *«Сила не в мышцах. Сила – в голове. В понимании».*
И это понимание пришло к нему сейчас, холодное и отрезвляющее, как удар лезвием. Его гнев здесь бессилен. Его слова – пустой звук. Его достоинство? Его растоптанное достоинство лежало в пыли вместе с этим куском мяса. Оно не стоило ровным счетом ничего.
Медленно, почти механически, преодолевая дрожь в коленях, Ли наклонился. Хохот вокруг усилился, посыпались новые насмешки. Он не слышал их. Его мир сузился до этого куска грязного мяса. Его пальцы, белые от напряжения, сжались вокруг холодного, липкого объедка. Он поднял его. Медленно, тщательно отряхнул пыль. Не глядя на насмешников, он развернул свой узелок и положил мясо рядом с лепешкой матери.
Он поднял голову и посмотрел на широколицего приказчика. Не с ненавистью. Не со страхом. С пустым, ледяным спокойствием, которое было страшнее любой ярости. Он ничего не сказал. Просто развернулся и пошел вдоль дороги, оставляя за собой застывшую на мгновение от изумления компанию.
*«Отец прав, – пронеслось в его голове, остро и ясно. – Здесь я – никто. Мое достоинство – роскошь, которую я не могу себе позволить. Пока».*
Он шел, сжимая в кармане деревянный пропуск, единственную свою ценность. А все остальное – гордость, обида, жажда справедливости – осталось позади, превратившись в пыль на его босых ногах. Пыль, которую приходилось сносить, если ты хочешь выжить. Этот урок был горше любого удара. Но он был усвоен.
***
Тьма застала его у подножия холма, где ютился постоялый двор «У Старого Дуба». Сквозь щели в частоколе лился тусклый, масляный свет и доносились обрывки чужих разговоров, звон монет, запах дешевого хмеля и жирной пищи. Ли знал, что ему не место внутри, где тепло очага и миска похлебки стоили медяков, которых у него не было. Он обошел двор с тыла, где в клочковатой тени от огромных товарных повозок уже ютились другие безденежные путники – пара оборванных бродяг и старик с пустым, устремленным в никуда взглядом.
Он нашел свободный клочок земли между колесом одной из повозок и штабелем пустых, пропахших потом и солью мешков. Пахло старым деревом, конским навозом, пылью и чужим горем. Земля была холодной и твердой, словно высеченной из камня. Ли снял свой узелок, прижал его к животу и съежился, стараясь занять как можно меньше места, стать невидимым. Отцовский нож в грубых деревянных ножнах он вынул и сунул за пояс, под рубаху. Прикосновение холодного металла к коже давало призрачное, но единственное ощущение безопасности.
Он достал из узелка лепешку матери, испеченную из последней муки, и тот самый, брошенный ему с насмешкой, кусок мяса. Лепешку съел медленно, растягивая удовольствие, смакуя каждый крохотный кусочек, вспоминая тепло домашнего очага. На мясо смотрел долго. Унижение снова подкатило к горлу, горьким комом. Но пустота в желудке, ноющий, сводящий скулы голод были сильнее. Он оторвал маленький, жилистый кусочек, разжевал его – он был жестким, безвкусным, отдавал пылью и чужим пренебрежением. Он заставил себя проглотить. *«Выжить, – сурово напомнил он себе, и голос в его голове звучал как голос отца. – Все, что не убивает, идет впрок. Даже это. Особенно это».*