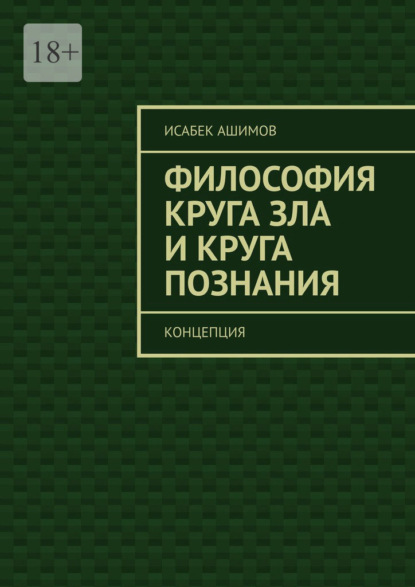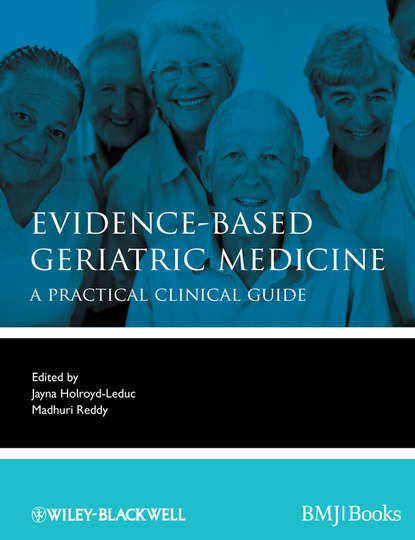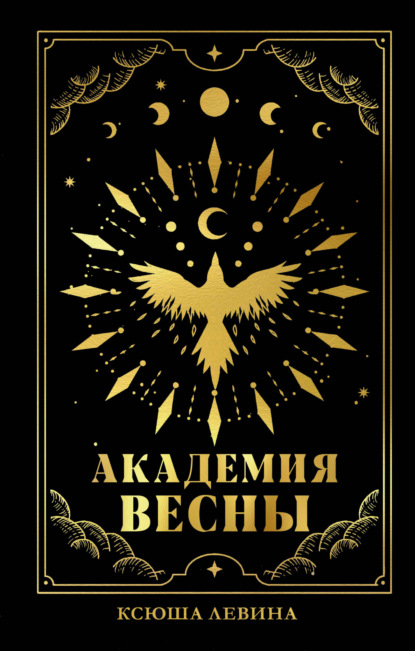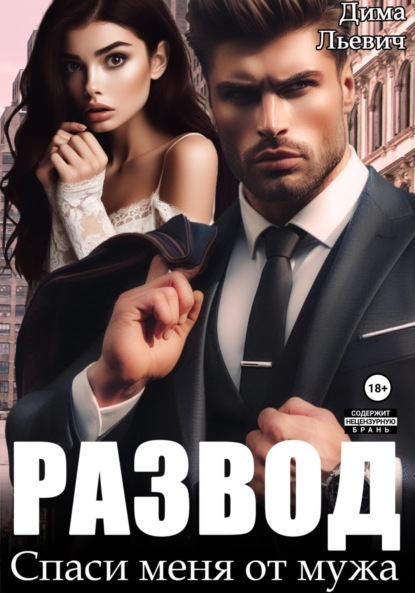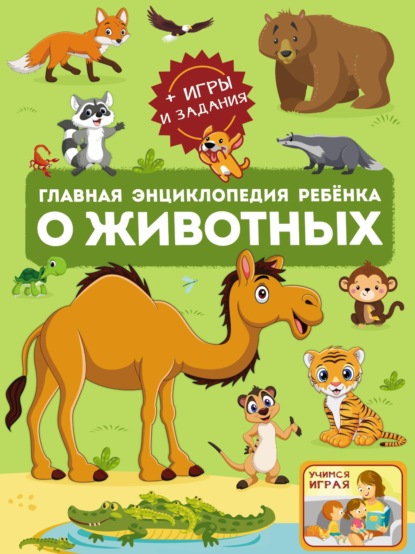- -
- 100%
- +

© Исабек Ашимов, 2025
ISBN 978-5-0067-9637-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
В чем заключается идея и пафос предлагаемого сочинения? Кому оно адресовано? Что хочет сказать или доказать автор? Что он пытается до нас донести? С какими идеями полемизирует автор и какие собственные доводы он приводит в ответ? Прав ли автор в интонациях и акцентах? С подобных вопросов, как правило, читатель начинает обсуждать произведение. Постепенно, в процессе чтения указанные вопросы в той или иной мере снимаются и лишь в конце прочтения читателю, возможно, в той или иной степени удастся сформулировать то, что можно назвать точным обобщением основной идеи автора.
Почему акцент делается на мифологию? В чем заключается скрытый смысл неомифа, как результат деконструкции исходного мифа? Какова значимость современного мифотворчества? Какова нынешняя технология мифопоэтики? Что собой представляет новый жанр роман-миф или роман-предостережение? Какова стратегия научной «верификации» мифа или неомифа? Читатель не может не задаваться подобными вопросами, вникая в суть книги. Постепенно, в процессе осмысления мифа и неомифа вопросы в той или иной мере также будут сниматься и, возможно, лишь теперь, когда читатель понял идею автора, возникает следующий вопрос: что мы сами можем сказать по этому поводу?
В чем заключаются истоки данного труда? В литературе рубежа ХХ-ХХI вв. наблюдается тенденция использования архаичных мифов для изображения современной жизни и делается попытка объяснять происходящее через обращение к мифу. На новом этапе развития и национального сознания нашего общества, безусловно, также возрос интерес к мифу и неомифу. В этой связи, очевидно и то, что возросла актуальность философского их осмысления.
Следовательно, в науке, культуре, обществе актуализировался этот тип дискурса. В этом аспекте, понятна основная причина всплеск интереса к мифотворчеству – творческие люди, несущие в народ духовную пищу, наконец, начали осознавать свою миссию – стать в той или иной мере мифотворцем. «Мифотворчество есть живая, реальная функция цивилизованного человека», – писал Юнг К. Г. По мнению многих исследователей, именно через миф человек пытается отыскать примеры в прошлом, в которое он «погружается», а вынырнув из него по-новому осмысливает настоящее и будущее.
В чем заключается пафос нашего сочинения? Очевидно, природа людей такова, что очень часто они остаются слепым и глухими к мыслям своих предков. Даже если применить современные технологические способы восполнения потери памяти, что-то, а может быть и нечто, будь то важнейшие, галактического значения знания и человеческий опыт, будь то сакральные заклинания наших, в чем-то дальновидных предков к своим потомкам, будут забыты. Мы то знаем, что даже бесценное наследство, дорогие образы, память близких и родных безвозвратно теряются даже в течение жизни одного поколения. А ведь речь может идти о таких феноменах человечества, как Зло, с его проклятьем вечного возвращения.
Здесь следует отметить, что главным предметом книги является проблема Зла: вечность и цикличность Зла, фабрика и конвейер Зла, пути и способы борьбы с его проявлениями. Тысячелетиями оставались актуальными такие вопросы: что такое Зло? В чем заключается его природа и смысл? Как прервать неизбежность Зла?
Литературным нарративом и идейной основой данной книги является эзотерический роман-аллегория «Тегерек» (Ашимов И. А., 2014). В подтексте этого романа – гора-символ Тегерек (в пер. с кырг. – Круг) и символ Зла – Аджыдар (в пер. с кырг. – Дракон, дьявол). Оба этих символа – это схематичное, отвлеченное, многозначное отображение образа интерпретируемого предмета, понятия, дихотомии – «Абсолютное зло», «Добро / Зло», «Дьявол», «Круг».
ВВЕДЕНИЕ
ОТ МИФА К ЛОГОСУ: СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
§1. О жанре философствования и формуле «От Мифа к Логосу. Данная книга написана в жанре литературной философии, ибо, в качестве художественного нарратива или «бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме философского романа-аллегории. Считаем, что схема «нарратив – метафизика – философская импликация» важна для эффективной популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от единичного к общему, через особенное.
Следует отметить, что налет литературности присущ почти любому философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует риторические украшения для удержания внимания своего читателя.
На сегодня сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и литературных философов. Вначале об особенностях рациональной философии.
Во-первых, в текстах рациональных философов всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает последовательность взаимосвязанных мыслей.
Во-вторых, рациональный философ старается аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы.
В-третьих, рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности и т. д.
Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим критериям.
Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают возможность выразить мысль, то для лтературного философа главным становится сам язык, языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль.
Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно этим объясняется широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и прочих литературно-художественных приемов.
В-третьих, невозможность построить критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо то, что формируется «мозаичный» текст, некая бессвязность, расплывчатость, умозрительность.
Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной философии.
Следует подчеркнуть еще одну особенность литературной философии – это то, что текст основывается на символизме. Как известно, символ тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым они связаны. Это касается и понятия «Абсолютное зло».
Что такое само Зло? В чем заключается его природа и смысл? Когда-то В. Розанов в своей книге «Апокалипсис нашего времени» писал: «…Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. В сотворении его «что-то такое произошло», что было неожиданно и для Бога. «Что такое произошло – этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. Бороться или победить это – тоже бессилен Сам Бог. Так и планета наша. Как будто она испугана была чем-то в беременности своей и родила «не по мысли Божьей», а «несколько иначе». И вот «божественное» смешалось с «иначе». Речь то идет об абсолютном зле.
Нужно сказать, что многие мыслители предлагали свою теорию зла, в которых отражена попытка объединить и примирить два древних и, на первый взгляд, противоположных понимания зла: 1) Христианско-боэцианское (зло есть отсутствие добра, соблазн или заблуждение); 2) Северно-героическое (зло – внешняя сила, с которой следует сражаться с оружием в руках). Сплетение этих воззрений в ткани произведения многих авторов порождает логику борьбы со злом на постоянной и сакральной основе, причем, прежде всего, в себя самом. Сегодняшний день определяет лицо завтрашнего – поэтому мы должны помнить о своей ответственности..
Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию – идеальную форму взаимодополнительности Мифа и Логоса.
Формула «От Мифа к Логосу в известной мере подчеркивает сущность генезиса философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению. Во-вторых, это движение от разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их взаимооппозиции. В-третьих, это движение от представления к понятию. В-четвертых, это движение от предмета к образу. В-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.
Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому:
1) Мифогенная теория утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, но выраженная на ином языке.
2) Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и был следствием обобщения реального опыта.
3) Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания.
4) Историко-психологическая теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование его на бытие в целом.
Как отмечалось выше идейной основой данной книги является эзотерический роман-аллегория «Тегерек» (Ашимов И. А., 2014). Гора-символ Тегерек (Круг) и символ Зла – Аджыдар (Дьявол) – это схематичное, отвлеченное, многозначное отображение образа интерпретируемого предмета, понятия или явления. Естественно, что такие понятия и сама тема Зла у многих может вызвать непонимание или отрицание. Мы придаем терминам: «Абсолютное зло», «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более глубинные» значения, беря за основу несколько вариантов:
– Антропоморфный Дьявол – некий зловещий тип, который обладает личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость;
– Дьявол-отступник – это некий поток энергии, порожденный умами людей, и несущий, кому – свободу, а кому – боль и страдания. Это уже более сложная концепция Дьявола, требующая развитого воображения;
– Дьявол – это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в нас, и олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно решает, в какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще всего поток жизни сам бросает нас в то или иное русло, а мы уже ставим на это штамп «Мой выбор».
Как известно, А.Ф.Лосев разработал неклассическое представление о значении символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя тем самым момент тождества означаемого и означаемого как значение символа. Такой подход позволяет увидеть значение символа как неравновесную самотождественность его, результатом которой является конструирование нового значения. Тем самым снимается вопрос о тождественности символа и обозначаемой символом объективной действительности и вводится вопрос о людях, которые через символ воспринимает и выражает действительность.
Все надеются на то, что XXI в. – будет веком духовных научных достижений, которые будут несоизмеримыми по своему значению с материальными открытиями, что духовные открытия полностью перевернут наше мировоззрение и сделают нас лучше. Если в мире существует Абсолютное зло, природа которого не совсем определена, но никто не сомневается в том, что оно вечно, циклично, то естественно возникает вопрос: как познать этот феномен? В чем заключается истинная его природа? Как прервать проклятье Круга Зла? Найдем ли ответ на этот глобальный вопрос, найдем ли его решение?!
§2. О роли мифологии в познании и онтологической недостаточности человека. Приступая к исследованию темы Абсолютного зла мы намеренно обратились к мифологии. На вопрос о том, реальны ли мифы и легенды, мы полагаем, что да. Безусловно. Они больше похожи на древние тексты великих Мудрецов, которые рассказывают нам о нашем прошлом, о настоящем современном мире и даже будущим. Они как символы. Чтобы их понять изнутри, нужно иметь немного другой разум, совсем другие знания. Чтобы понять истинный смысл символов того или иного мифа или легенды, нам нужно пройти сквозь их текст, нужно проникнуть вглубь разума того существа, кто их сочинял. Только так мы сможем понять тот истинный смысл, который они хотели нам передать.
А если такого мифа нет в природе? Тогда нужно его сконструировать – считаем мы. Вот с таким пафосом был сконструирован новый миф – миф о Тегерек, который описан в ряде книг «Тегерек», «Миф о Тегерек», в монографии «Атропофилософия мифа и неомифа». Миф, который изложен в данной книге своими символами дал нам более полное и простое знание как о природе Зла, так и о борьбе с ним. Разве не заложен в этом смысл? Проклятье Круга Зла оказывается для нас самой настоящей реальностью, от которой нам не уйти. То, что в книге осуществлена первая попытка расшифровать символы Круга, это не случайность. Через них удается реально увидеть то, что нас ждёт в нашем настоящем и в будущем. Между тем, это, безусловно, подталкивает нас к смене приоритетов жизни, к развитию духовности в цивилизации.
Итак, нами осуществлена попытка объединить научные знания и простого смысла мифа. При интерпретации природы зла, его историко-эволюционного предназначения, мы использовали методологию оценки интервала абстракции. Это понятие обозначает пределы рациональной обоснованности той или иной абстракции и границы применимости, установленные на базе масштабной информации, касающиеся природы Абсолютного зла и онтологической недостаточности человека, как фабрики его производства. Наша абстракция объединяет эти понятия с понятиями познавательных кругов. Насколько удалось связать интервалы абстракции в единую конфигурацию «зло – противодействие злу» судить читателям.
В данной книге речь также идет об онтологической недостаточности человека, который служит своеобразной фабрикой Зла. В мире, как писал А. Шопенгауэр, одинаковых людей не бывает. Различие людей может быть сведено к трем основным категориям: что за личность? что он имеет? что он представляет собою? Автор убеждает нас в том, что «то, что находится внутри нас, более влияет на наше счастье, чем то, что вытекает из вещей внешнего мира», то есть мир, в котором живет человек, зависит, прежде всего, от того, как его данный человек понимает, а, следовательно, от свойств его мозга. Именно индивидуальность определяет меру возможного для него успеха, благополучия, признания, счастья. Причем, на первом месте стоит духовные силы, а затем образование [цит. Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: Молодая гвардия, 2003. – 367 с.].
Никто не оспорит тот факт, что человек с избытком духовных сил живет богатой мыслями жизнью, сплошь оживленной и полной значения. Именно у такого человека сохраняется потребность учиться, видеть, образовываться, размышлять. Богато одаренный человек живет, наряду со своей личной жизнью, еще второю, а именно духовною, постепенно превращающуюся в настоящую его цель, причем личная жизнь становится средством к этой цели, тогда как остальные люди именно личную жизнь считают целью.
Таким образом, человек гораздо менее подвержен внешним влияниям, чем это принято думать, а потому использовать свои индивидуальные свойства с наибольшей выгодой, сообразно с этим развивать соответствующие им стремления – это и есть истина. Однако, в жизни происходят самые невероятные проявления индивидуальности, характеристиками которой являются определенное соотношение таких психологических феноменов, как природный инстинкт, интуиция, здравый смысл, разум и рассудок, способность к абстрагированию, проницательности, и наконец, таланта и гениальности.
На наш взгляд, все зависит от соотношения этих психологических способностей. К примеру, умственно недалекий человек может добиться впечатляющих успехов в различных сферах деятельности только из-за того, что обладает хорошими природными инстинктами, помогающими ему вовремя сориентироваться в жизненных ситуациях. Напротив, человек с высокими умственными способностями, но не имеющими природных инстинктов, может упустить жизненные возможности. Или взять другой пример. Малообразованный человек от природы с небольшими умственными способностями, но живущий по принципу здравого смысла, может достигнуть в жизни много, тогда как одаренный и интеллектуальный человек испытывает хронические жизненные трудности из-за того, что живет не соблюдая этот принцип.
Однако, в любом случае тупость ума всегда сочетается с притупленностью впечатлительности и с недостатком чувствительности, а эти свойства делают человека менее восприимчивым к страданиям и печалям. Наоборот, нескончаемый поток мыслей, их вечно новая игра по поводу разнообразных явлений внутреннего и внешнего мира, способность и стремление к все новым и новым комбинациям их – все это качество одаренного ума. Литература, искусство показывает, что кому предназначено наложить отпечаток своего ума на все человечество, для того существует лишь одно счастье: иметь возможность развить свои способности и закончить свои труды, и одно несчастье: не иметь этой возможности.
Но, с другой стороны, ум, далеко превышающий среднюю норму, есть явление ненормальное, неестественное. Если же сочетаются материальный достаток и великий ум, то в этом случае счастье обеспечено, такой человек будет жить особою, высшею жизнью, так как он застрахован от обоих противоположных источников страданий – нужды и скуки. Ну, а если он материально не обеспечен? Скольких одаренных от природы людей так и не смогли себя реализовать из-за жизненных трудностей.
Таким образом, следуя вышеприведенной логике, судьба человека зависит от удачного соотношения ряда феноменов: во-первых, природного инстинкта и интуиции; во-вторых, здравого смысла и рассудка; в-третьих, способности к абстрагированию и проницательности; в-четвертых, гениальности и трансцендентного воображения. Не является ли предпосылкой зла именно неадекватное соотношение этих феноменов в том или ином человеке? Ставя такие вопросы, думается, что теперь более, чем когда-либо, нужно обнаружить с наружу всё, что есть внутри, чтобы понять, из какого множества разнородных начал состоит наша природа.
Питаю надежду на то, что интерес к этой проблеме наведет некоторых на мысль о необходимости ликвидации в самом себя онтологической недостаточности через познания, самосознания, что является, по сути, реальным противодействием Злу. Почти у любого из нас, которые не лишены творчества, есть способность, которую называют воображением. Настоящее слишком живо раздражает ее, когда же нужно спокойный и вдумчивый «анализ-синтез» всей массы информации. Иначе говоря нужна аналитика – «больше выводить, чем выдумывать».
Если говорить о генезе нового мифа, что миф о Тегерек является новым. До селе не было такого мифа. Между тем, предпосылки для мифа, наверняка, были [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Тегерек. Философский роман-аллегория. – Б., 2014. – 217 с.]. Для любого существующего рода-племени исключительно для самого себя важен вопрос: Кто мы? Откуда мы? Куда идем? У каждого рода-племени есть та или иная мифологическая история, которая является своеобразной их моделью. А если такая модель глубоко не осмыслена или же утрачена? В этом случае, стоит задача – надо ее осмыслить или воссоздать!
§3. О генезе нового мифа и роли мифоконструкции в познании. Генез мифа – это длинные цепочки удивительных совпадений. Человек, решившийся осмыслить миф или же сформулировать его заново, должен последовательно двигаться в сторону обретения идеи мифа, самого себя, своего «Я» в контексте других «я» своего рода-племени [Лебедева Е. П. О фольклоре нанайцев // под ред. В.А.Аврорина / Материалы по нанайскому языку и фольклору. – Л., 1986. – С.13—15]. Это связано с тем, что человек познает природу и окружающий мир, в том числе самого себя именно в такой последовательности. При этом человек обнаруживает, что душа – это огромная и неизведанная страна, рядом с которой человек осмысливает свое пространство – пространство «Я» [Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. – М., 1982].
Если взять в глобальном масштабе, то при их взаимодействии открывается таинственное пространство коллективного бессознательного, включающие много-много других «я». По К. Г. Юнгу (1875—1961) – это так называемая «мировая душа». В целом из таких вот информационных пространств – «Я»+«душа»+«миф» складывается уникальный, индивидуальный мир Человека [Юнг К. Г. Психология бессознательного. Пер. с нем. – М.: Канон, 1994. – 319 с.]. При формулировке или осмыслении мифа можно выделить два полюса: во-первых, тот или иной тотем с аурой того самого мифа; во-вторых, всевозможностность. Задача стоит в том, чтобы нащупать, осязать его суть и пространство, а затем осмыслить, выразить и проявить. То есть взять во внимание давние события жизни, развязав «узелки памяти» своего рода-племени, спрятанные в подсознания его представителей.
Очевидно, что в те далекие времена, когда были еще в силе родовые принципы жизнедеятельности людей, господствующей формой мировоззрения была мифология. Она является результатом духовной потребности людей как-то объяснить мир, осмыслить непонятные явления природы [Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф / Труды по языкознанию. – М., 1982]. Мысль родового человека пыталась понять те или иные закономерности окружающего мира, но не найдя ответов на свои вопросы, строила догадки, пыталась персонифицировать явления в мифологических образах, перед которыми он испытывал чувства страха, бессилия, преклонения.
Так было, наверняка и в роду кара-кулов. Откуда же тогда взяться таким названиям, как Ажыдар-сай, Кара-камар, Кара-даван, Кара-бахшы, Ак-суу, Ак-киши и пр., которые приведены в романе «Тегерек»? Содержание мифа представлялось человеку вполне реальным, но являлось не формой реального знания, а предметом веры. Пространство мифа, складывается из образов, впечатлений, представлений, воображения, интуиции, иллюзий и предрассудков. К.Г.Юнг (1875—1961) писал: «…Миф – это поиск и труд… порой тяжкая, изнурительная внутренняя работа по поиску в лабиринтах собственной психики знаков собственной же души… В этом плане, миф – это продукт душевного поиска по выработке идеального представления, которое уже потом воплощается в реальность» [Юнг Карл Густав. Об архетипах коллективного бессознательного [Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991].