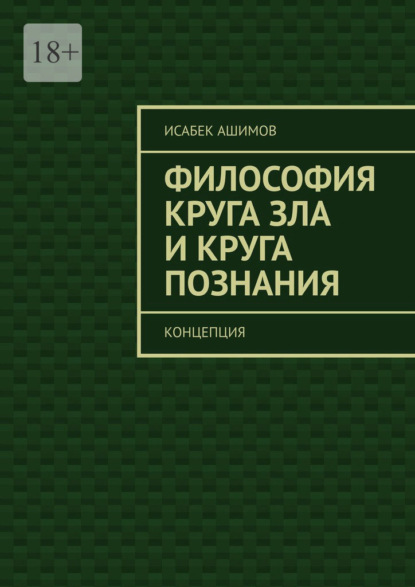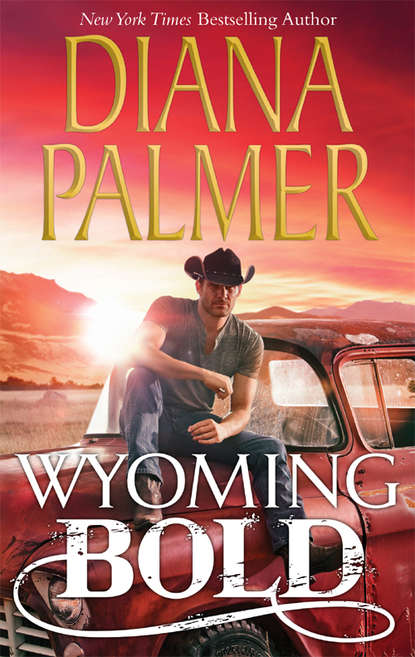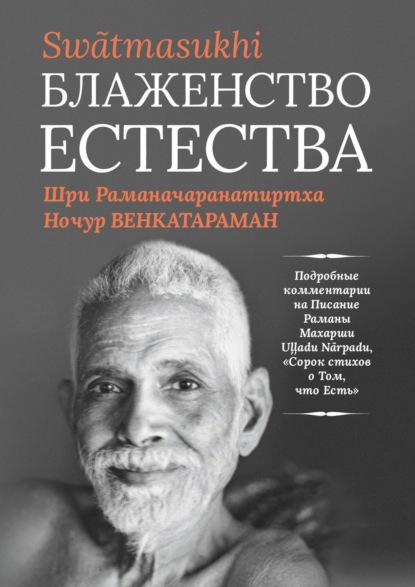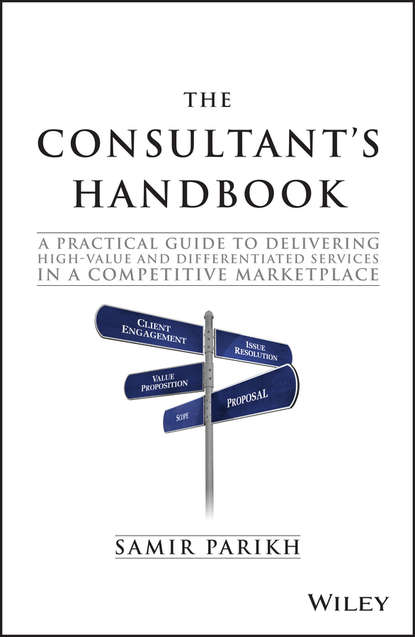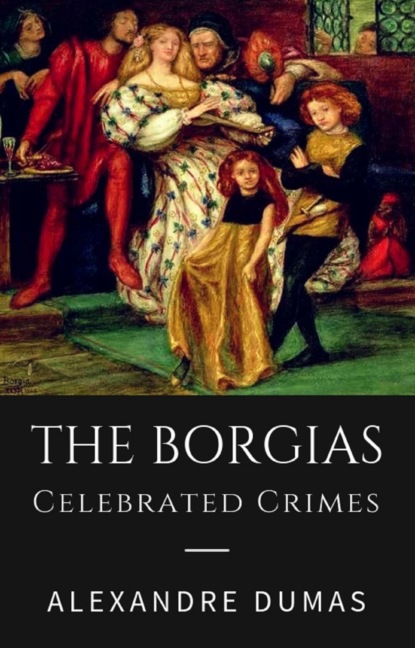- -
- 100%
- +
По Р. Декарту (1596—1650) и И. Канту (1724—1804), «миф немыслимым образом актуализирует абсолютное, восполняя безобразное мышление. Миф не есть только деятельность мышления, воображающего невообразимое, но одновременно он является специфической речевой деятельностью, именующей неименуемое» [Декарт Р. Сочинения: в 2-х томах. (Перевод), -Т.I. / АН СССР, Ин-т философии. – М.:Мысль. – 1989. – С. 220—230.]. В свое время И. Кант (1724—1804) очистил разум от мифа и в результате этого пришел к выводу о закате метафизики.
Как известно, «Чистый» разум, действительно, разрывается в противоречиях, стремясь построить научную систему метафизики. «Быть может, для того, чтобы восстановить права метафизики, необходимо вернуть в разум нечто „нечистое“ – миф как „излишний“ реагент или катализатор, для ускорения и завершения реакции? Сложнее всего узнать, правда, какая необходима дозировка этого фермента», – рассуждал И. Кант.
В свое время И. Кант (1724—1804) провел рациональную дисциплинарную раскладку метафизики. Вслед за кантовской постановкой вопроса об условиях возможности метафизики как науки, конструируемой в виде системы понятий чистого разума, нужно ставить вопрос о возможности метафизики как поэтики мысле-образов. В какой-то идеальной точке оба вопроса сливаются воедино, то есть можно предположить, что миф придать дополнительную динамику и энергетику метафизике [Кант И. Критика чистого разума. – М, 1994].
М. Хайдеггер (1889—1976) онтологизировал воображение, истолковывая кантовское учение о схематизме чистых рассудочных понятий в том смысле, что признал воображение коренной способностью человеческого разума [Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М., Гнозис, 1993. – С. 67 – 68]. Г. Башляр является одним из оригинальных сторонников философско-поэтического описания опыта воображения материальных стихий, одним из зачинателей движения неорационализма. В его творчестве переплелись оба компонента целостного разума – Логос и Мифос [цит. Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра. – М.: ИФ РАН, 1996. – 263 с.].
Имеются философские, филологические, культурологические труды по мифологии российских авторов – А.А.Потебни, П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева, С.С.Аверинцева, В.Н.Топорова, В.В.Бибихина и др., в которых мифологическая тема двуединства Логоса и Мифоса не только сохранилась, а значительно продвинулась в своем развитии. В их произведениях авторы придерживались принципа единства исторического и теоретического [Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. – М., «Советская энциклопедия», 1983].
Понятие «теоретического» включает в себя не только «логическое», но и внелогические компоненты – эйдетику и поэтику, т.е. собственно миф как устойчивую форму продуктивного воображения. Авторы сумели интегрировать миф в философский дискурс без утери смыслового характера последнего. «Миф не вне онтологии, а в ней самой, нужно только дойти до того уровня развития онтологии, когда миф имманентно проявляется в ней, одновременно проявляя ее саму», – писал А.Ф.Лосев [Лосев А. Ф. Философия имени. Из ранних произведений. – М., 1990].
По А. Ф. Лосеву (1893—1988), миф есть предельное развитие образа, выражающего именно бытие. Автор выдвинул гипотезу «абсолютной мифологии», которая вбирает в себя все существовавшие в истории «относительные мифологии», и является «нормой, образцом, пределом и целью стремления для всякой иной мифологии». «Абсолютная мифология панорамно (всеобозримо) выражает творение бытия. Взаимосоотносимость взятых в абсолютном смысле диалектики и мифологии означает личную очную встречу Логоса и Мифоса, в которой чудесно творится, воплощается бытие и преображается естество, в которой диалектические категории представлены как магические имена», – пишет А.Ф.Лосев [Лосев А. Ф. Философия имени. Из ранних произведений. – М., 1990].
Логос – философский термин, фиксирующий единство понятия, слова и смысла, причем слово понимается в данном случае не столько в фонетическом, сколько в семантическом плане, а понятие – как выраженное вербально [Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. – М., «Советская энциклопедия», 1983]. Философ Гераклит (544—483 до н.э.) изображает Логос как то, познание чего требует совершенно особых усилий и предполагает изменение обыденных установок сознания. Как объединить мир и человека, а в человеке – его тело и его дух? Как объединить в понятии первоначала человеческое и природное?
Во времена Гераклита (544—483 до н.э.) надо было найти такой принцип, который объединяет любое тело, в том числе и тело человека, и то, что с телом связано, но ему никак не тождественно, то, что античные мыслители уже назвали душой. Потом трудные поиски универсального единства мира и человека приобретут в философии, да и во всей культуре, более четкие очертания. Они выльются в постановку проблемы бытия. Но у истоков этих размышлений, которые впоследствии станут неотделимыми от философии как таковой, – мысли, парадоксы, загадки, противоречия, сформулированные Гераклитом и элеатами [Фролов И. Т. Философ (Философский словарь. Под ред. И. Т. Фролова). – М., 1991].
Гераклита (544—483 до н.э.) интересует, что такое человеческая душа, а иными словами, что такое человеческие мысли, страсти, волнения. «Человеческая душа – это какой-то невидимый динамичный огонь. „Мы эту душу (т.е. огонь) в вещах не видим“. Но во всех вещах есть огонь, он – всеобщее первоначало, а одновременно и душа мира, душа вещей. В человеческом же теле душа принимает вид страсти, размышления, мысли, страдания и т.д.», – пишет он [цит. Фролова И. Т. Философ (Философский словарь. Под ред. И. Т. Фролова). – М., 1991].
В этих выражениях, прежде всего, находит последовательное развитие идея первоначала. Ведь, действительно, греческие философы так и замышляли себе первоначало: оно управляет всем через все. Это то всеобщее, объемлющее, которое нужно всему – природе и человеку, телу и душе, вещи и мысли. Как найти такое – истинно всеобщее – первоначало? Процесс отделения объективных эмпирических знаний о мире от их мифологической оболочки – это переход «от мифологических представлений к теоретическому мышлению» [Визгин В. П. Эпистемология Гастона Башляра. – М.: ИФ РАН, 1996. – 263 с.]. Для того чтобы от мифологических представлений о мире перейти к научному, античному человеку было необходимо пройти две ступени осмысления:
Во-первых, должен произойти отказ от логики мифа, препятствующей оформлению таких фундаментальных принципов научной идеологии, как универсальность, инвариантность, общность, абстрактность и т. д. Если научное обобщение строится на основе логической иерархии от конкретного к абстрактному, и от причин к следствиям, то мифологическое оперирует конкретным и персональным, использованным в качестве знака. То, что в научном анализе выступает как сходство или иной вид отношения, в мифологии выглядит как тождество.
Во-вторых, нужно было изменить духовное личностное отношение к действительности. Основное отличие современной научной мысли – это различие между субъективным и объективным. На этом различии научная мысль строит критический и аналитический метод, с помощью которых последовательно сводит все индивидуальные явления к типическим событиям, подчиняющимся универсальным законам. Но, а у людей первобытного переживания не было места для критического расщепления восприятий, когда различие между субъективным и объективным знанием лишено для него смысла.
Переход от мифологии к науке был довольно медленным, и на этом пути было сделано много проб и ошибок, но если бы не это, трудно было бы сказать кем, как не древними греками, начавшими развивать первобытную науку, и когда был бы сделан этот первый шаг «от мифа к логосу» [Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М., Гнозис, 1993. – С. 67 – 68]. Как ни странно, но мифологическое мышление не исчезло и по сей день. Мифологическое мышление дает человеку необходимое ему чувство комфортности в мире, так как опирается не только на разум, но и на чувства, эмоции, интуицию, а это более соответствует внутреннему миру человека.
ЧАСТЬ I. АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО КАК СВЕРХКАТЕГОРИАЛЬНОЕ ЦИКЛИЧЕСКОЕ И ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Глава 1
МИФОГЕННАЯ ТЕОРИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЗЛА И ОПЫТ ЕГО СИМВОЛИЗАЦИИ
§4. О проблеме и природе Зла. Безусловно, зло является одним из универсальных категорий философии. Во все времена зло было и остается загадкой, как нарушение причинно-следственных рядов, выстраиваемых для объяснения мироздания [Гайдабрус Н. В. Счастье и страдание как парадигмы человеческой жизни // Тезисы докладов научно-практической конференции. – Пенза: Изд-во ПГПУ, 1999. – С. 19—20]. Человечество издавна задавался вопросами: что такое зло и как оно возникло? Что подразумевается под злом? Каково понимание зла? В чем уникальность проблемы зла? Зло – это то, что люди воспринимают как зло или еще что-то, то есть не просто смутно определенное понятие, вообще нечто, не имеющее внутреннюю согласованность?
В ряде толковых и энциклопедических словарях (Словарь русского языка. – М., 1957. – т.1; Толковый словарь русского языка. – М., 1934. – т.1) зло определяется как: все дурное, плохое, вредное, греховное; беда, напасть, несчастье, неприятность и т. д. По В. С. Соловьеву (1853—1900): – «Зло – в широком смысле этот термин относится ко всему, что получает от нас отрицательную оценку, или порицается нами с какой-нибудь стороны; в этом смысле и ложь, и безобразие подходят под понятие зла. В более тесном смысле зло обозначает страдания живых существ и нарушения ими нравственного порядка». Он писал: «Зло является одной из универсальных категорий человеческой культуры, которая от века врождена нам и будет сопровождать нас до той поры, пока существует хотя бы одно существо, обладающее даром сознания» [цит. Кравченко В. В. Владимир Соловьёв и София. – М.: Аграф, 2006].
Есть определение зла, как опыт гибели, разрушения, предчувствия смерти, наличия силы, оказывающей сопротивление не только нашим планам и чаяниям, но и самому нашему бытию [Кутырев В. А. Культура и технология: борьба миров. – М.: Професс-Традиция, 2001. – 240 с.].. Однако зло – не просто человеческая оценка происходящего с ним или с окружающими. За ним стоит какая-то реальность, требующая нашего внимания, учета, – считают многие исследователи проблемы. Но что за реальность? Какова природа этой реальности? В чем смысл этой реальности?
Считаем нужным привести несколько оригинальных определений природы зла. А. Жиду (1869—1951) принадлежат такие слова: «Вы заметили, что Бог в мире всегда молчит? Говорит только Дьявол… Его шум заглушает голос Бога… Дьявол и Бог – одно, это то же самое, они работают вместе… Бог играет с нами, словно кошка с мышью… Да еще хочет нашей благодарности… Жестокость, вот первичный признак Бога. Дьявол увертлив, непристоен и бесполезен» [цит. – Михайлова А. Д. Жид // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962—1978].
П. Демитриу писал: «Невозможно знать, существует ли Дьявол как независимая личность, но он необходим как символ абсолютного зла, которое бесконечно превосходит человеческое зло, обширно, как вселенная, громадно, как Бог». «Бог противоречив: один его лик – красота, радость и любовь; другой – ужасный Божий лик, допускающий зло, страх, страдание, тревогу, голод и жажду, физическую боль, невыносимое страдание. И хотя естественное зло ужасно, «нет во всем творении ничего превосходящего по жестокости человеческое зло». [цит. – Сидорина Т. Ю. Философия и гуманитарная проблематика Римского клуба в контексте эволюции кризисного сознания в философии XX века // Автореф. дис… док. Филос. наук. – М., 1998. – 40 с.].
Дж. Б. Рассел (1872—1970) пишет: «Современное неверие в абсолютное зло – это бегство от ответственности. Это не просто отказ персонифицировать зло… это отказ от понятия преступного намерения, от понятий виновности и греха» [Рассел Б. Сатана. – Новосибирск: Наука, 2001]. Многие исследователи предупреждают о том, что современное общество склонно объяснять зло наследственностью и средой – но это самообман, так как извинять зло объяснениями его причин – это иллюзия, так же как и проецировать собственное зло на фантомы и отрицать свою ответственность [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
Автор подчеркивает в своих исследованиях проблемы зла: «Мир лежит во зле, и нежелание это видеть искажает правду о мире и, следовательно, правду о Боге. Зла в мире гораздо больше, чем под силу причинить людям, и все попытки усовершенствовать мир без понимания трансцендентности зла обречены на неудачу. Дьявол хочет, чтобы мы поверили в бессмысленность жизни, чтобы мы грешили, даже не получая от этого радости, чтобы жили в тоске, равнодушные к чужим страданиям» [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001].
Находим нужным привести некоторые слова из проповеди известного проповедника – Т. Паркера (1810—1860): «Зло нетрудно овладеть нашим сознанием, потому что мы с готовностью распахиваем перед ним свой разум и волю. Сатана с легкостью справляется с нашим разумом, потому что он величайший логик. Он красноречив, он философ – и убеждает нас, что каждый из нас всего лишь случайное скопление атомов, у нас нет ни достоинства, ни свободы выбора, да и нужды что-то выбирать нет».
Другой проповедник – Никон Оптинский (1888—1931) говорил: «Зло извращает все идеалы: стремление к свободе сводит к анархии и вооруженному бунту; чувство долга – к бездумной покорности; гармонию – к застывшему и насильственному порядку; любовь – к похоти; равенство – к единообразию; смирение – к заурядности; благотворительность – к любопытству». М. Кольбе (1894—1941) пытался объяснить о том, что «Дьявол имеет три различные, но связанные между собой задачи: он восстает против Бога и мирового порядка; он искуситель и враг человечества; но он и сотрудничает с Богом, который не стал бы его терпеть, если бы тот не выполнял какую-то важную функцию во вселенной» [Сидорина Т. Ю. Философия и гуманитарная проблематика Римского клуба в контексте эволюции кризисного сознания в философии XX века // Автореф. дис… док. филос. наук. – М., 1998. – 40 с.].
Общеизвестно, человеческое сознание склонно оценивать все, происходящее с ним, исходя из простейшей шкалы ценностей. Начиная с первобытных времен, мир удваивается, организуясь согласно системе простейших оппозиций: доброе/злое, небесное/земное, хорошее/плохое. Делом мудрости во все времена было примирение этих оппозиций, поиск того, что стоит над ними. «Однако даже самая что ни на есть мудрая способность увидеть оправданность происходящего требует огромного мужества и немалого смирения, – так как все равно это происходит. Происходит то, что мы считаем несправедливым, неправильным, возмутительным. Нечто сопротивляется нашим замыслам и предположениям о принципиальной доброжелательности мироздания, в котором мы пребываем», – писал в свое время В.С.Соловьев [Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. – М.: Мысль, 1988].
Дж. Б. Расселу принадлежит слова: «Наиболее четко неизбывность зла понимали древние люди, наименее же оно явно для нас, людей эпохи материального и душевного комфорта, предоставленного человеку „гуманистической“ цивилизацией, когда изменились многие ценности этого мира. Зло – всегда загадка [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001]. Когда оно свершается, то вызывает протест, затем – удивление и вечно остающийся без ответа вопрос: „Почему со мной?“ Зло представляется нарушением причинно-следственных рядов, выстраиваемых нами для объяснения мира и своего пребывания в нем».
Нужно отметить, что Дж. Б. Рассел является одним из самых последовательных исследователей проблемы Зла. В своих трудах он пишет: «Зло неестественно, ибо оно нарушает то райское единство с мирозданием, которое тщетно надеемся обрести, и надежда на которое стоит за большинством наших житейских планов и расчетов [Рассел Б. Князь тьмы. – Новосибирск: Наука, 2001]. «Зло трансцендентно, оно врывается извне в космос, выстраиваемый нашим сознанием. Даже если причиной зла являемся мы сами, суд совести оценивает и наказывает нас, виноватых, как чужака, которого следует изгнать из мира, где присутствует наше гармоничное с миром и собой «я». Именно поэтому издревле зло было так страшно и, в то же время, притягательно для человека. Оно указывало на что-то иное, на лежащее за пределами изведанного. Человек избегал зла, насколько это было в его силах, но не мог не задаваться вопросом: откуда оно?», – пишет автор [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
Многие исследователи отмечали то, что загадка «зависти богов», занимавшая древнего грека, может быть рассмотрена не только как поиск особой силы, особой персоны, – на каковую можно было бы свалить вину за эту зависть, – но как одно из проявлений несоразмерности человеческому образу мысли сил, создавших вселенную и правящих ею [Роулендс М. Философ на краю Вселенной // Перевод с англ. Н. Лебедеовй, А. Ефаловой. – М.:ООО «София», 2005. – 272 с.]. Тем не менее, человеческое мышление, которому, – по крайней мере, согласно западным философским стандартам, – свойственно различение, разделение мыслимого, обнаруживает двойственность в самой божественной деятельности по созиданию мира [Рассел Б. Мефистофель. – Новосибирск: Наука, 2001].
Таким образом, в древних концепциях появляются такие странные, не имеющие персонификации, но, в то же время, не являющиеся некими механическими природами силы, как «адживы» джайнов или принцип «иного» неоплатоников. И то, и другое являются одним из необходимых условий создания мира, – однако на определенном плане существования они выступают как зло. В указанном ракурсе можно сослаться и на двойственность при описании материи античными неоплатониками: «Зло – материя (одна из ипостасей принципа „иного“), а точнее – низшая форма материи, являющаяся субстратом тел» [Роганов С. В. «Евангелие человекобога. Посмертно. Собственноручно». – АСТ, 2005. – С. 298].
Причину зла неоплатоники помещают в душу, обладающую свободным выбором и возможностью либо склоняться к низшему, либо же восходить к высшему. В первом случае «зло заключается в том, что душа теряет себя, отождествляет свою природу с собственным носителем – телом. Именно поэтому материя (материя тел) и является злом – как объект неправильной установки души. Во втором же случае она равна себе и во время восхождения как бы сворачивает все планы творения, имея дело с совершенно другой инаковостью – инаковостью Творца тварному бытию».
В сущности, и та, и другая трактовка зла не противоречат друг другу, являясь двумя сторонами описания самой сути инаковости: отделяющей нас от высшего начала (особенно в случае «склонности к телу»), но, одновременно, и являющейся знаком присутствия чего-то внеположного нам. В такой инаковости неоплатоники видели «почти небытие», источник разрушения, конечности человеческого существования, опасность морального искуса – то есть возможные формы проявления зла. Однако «иное» было и необходимым моментом восхождения к единому, к абсолютному Иному, любое высказывание о котором является «истинной ложью», – считает Дж. Б. Рассел [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
Автор пишет: «Пожалуй, из всех древних философских школ именно неоплатоники в наивысшей степени выразили загадочность зла. Однако признание загадочности не означает принятия зла [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001]. «Даже признавая его неизбывность, мы не сможем отказать себе в естественном стремлении преодолеть эту разрушительную стихию. Размышление над природой зла, написание книги на тему восприятия зла в различных культурах – один из способов его преодоления, естественно, имеющего психологический, а не онтологический итог», – пишет он [Рассел Б. Сатана. – Новосибирск: Наука, 2001].
В предисловии к своему капитальному многотомному труду, посвященного проблеме зла, Дж. Б. Рассел подчеркивает, что «высказанное, названное, изображенное становится одним из фактов культуры, одним из предметов «домашнего обихода» человека [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001]. Иными словами, оно переходит в иную ипостась человеческого опыта, когда его носитель является представителем «родового существа» – рода человеческого. «Последняя абстракция – изобретение европейской культуры и европейской философии – позволяет любое событие сделать моментом в истории «человеческого духа», и, в этом плане, оправдать его. И вновь мы возвращаемся к парадоксу: создание книги о зле – это своеобразное его оправдание, помещение в культурную ткань мироздания, так сказать, расширенная теодиция», – пишет автор [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
Обзор литературы, посвященное проблеме зла показывает, что традиционно зло разделяют на три категории: 1) Зло метафизическое, как отсутствие совершенства, всегда присущее нашему миру (по сути это та часть природного зла, которая обусловлена конечностью мира и наличием естественных законов); 2) Зло естественное – страдание, как результат физического влияния «природных явлений» (боль, болезнь, ураган, пожар и пр.); 3) Зло моральное – намеренное (греховное) желание причинить кому-то страдание.
По мнению современных исследователей, зло на глобальном уровне выражается, прежде всего, в мировой ядерной войне, где победителей уже не будет, погибнут все живое на Земле [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001]. Но есть силы, толкающие человечество на эту гибель. Что это за сила? – задаются они. Вот их сводный ответ на этот вопрос: «Безусловно, это зло на космическом уровне. Если мы хотим избежать атомной войны, нам следует противостоять абсолютному злу» [Фукуяма Ф. Почему мы должны беспокоиться // Отечественные записки. – М., 2002. – №7. – С.84—99].
Нужно отметить, что многие умы искали пути противостояния злу. Однако, когда неясна сама природа и смысл зла, то возникает трудности определения таких путей. Но что это за зло? На индивидуальном уровне абсолютное зло выражается в действиях невероятной жестокости. Ближе всего мы постигаем зло, соприкасаясь с ним в нас самих или в других людях [Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. – М.: Весь Мир, 2002. —144 с.].
Всем нормальным людям, членам человеческого общества, свойственно непосредственное, интуитивное восприятие зла. Выделяют две категории зла: 1) Пассивное зло, страдание, ощущаемое живым существом (страх, ужас, агония, депрессия, отчаяния, которые могут сопровождаться физической болью, угрозой боли или воспоминанием о ней); 2) Активное зло, желание живого существа, отвечающего за свои действия, причинить страдание другому живому существу [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].
Во многих культурах зло считается целенаправленной силой и воспринимается как нечто персонифицированное. Сторонники такого принципа рассмотрения природы зла считают, что зло никогда не является абстракцией и что его следует понимать с точки зрения индивидуальных страданий. На наш взгляд, обобщая и экстраполируя первоначальное восприятие индивидуального зла, человеческое мышление должен перейти из сферы опыта в область мысленного конструирования и концептуализации, – пишет Дж. Б. Рассел. – «В этом случае на основании осознанных обобщений возникает иной уровень понимания зла – зло имеет метафизический характер. Только имея представление о лучшем мире, мы ощущаем фундаментальные недостатки мира этого» [Рассел Б. Дьявол. – Новосибирск: Наука, 2001].
Действительно, злодейства не просто имеют общую природу, зло всегда присутствует в человеческом опыте. Метафизика зла коренится в понимании глобальной расколотости мира, в его радикальности. Когда мы задаем вопрос: как же случилось, что мир оказался расколот, мы поднимаем проблему зла во всей ее полноте, – считает Дж. Б. Рассел (2002). По его мнению, абстракции, сами по себе в чем-то близкие злу, необходимы для того, чтобы оценить возможность раскрытия истины.
В древнейших индуистских текстах зло часто представлено как нечто данное и не имеющее объяснения. В брахманах источником зла является изначальная двойственность Божества: «И боги, и демоны говорили правду; и те, и другие говорили ложь. Затем боги отказались от лжи, а демоны отказались от правды» [Лобок А. М. «Антропология мифа». – Екатеринбург: Изд-во Банк культурной информации, 1997. – 688 с.]. Поскольку эти существа представляли собой различные аспекты божественной природы, то ответственность за добро и зло несет сам Бог» [Рассел Б. Князь тьмы. – Новосибирск: Наука, 2001].
Литературный обзор показывает, что иногда во всем мировом зле обвиняют злых духов, а иногда зло считается результатом человеческой ошибки или недоразумения [Суворова О. С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. – М., 1994]. «Но Бог проявляется во всем, Бог есть все, и, в конечном счете, именно Он за все отвечает. Зло является неотъемлемой частью Божества и от Него исходит. Совпадение противоположностей в Боге, соединение в нем добра и зла – это необходимость.