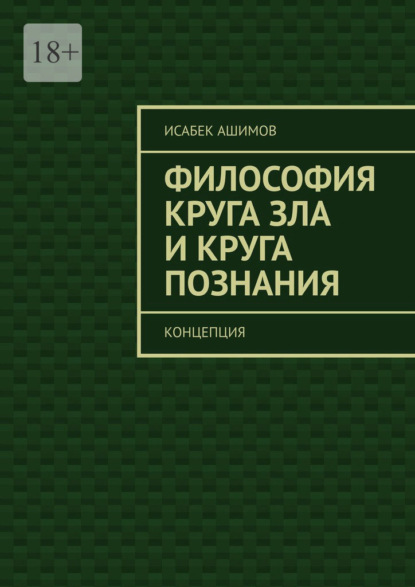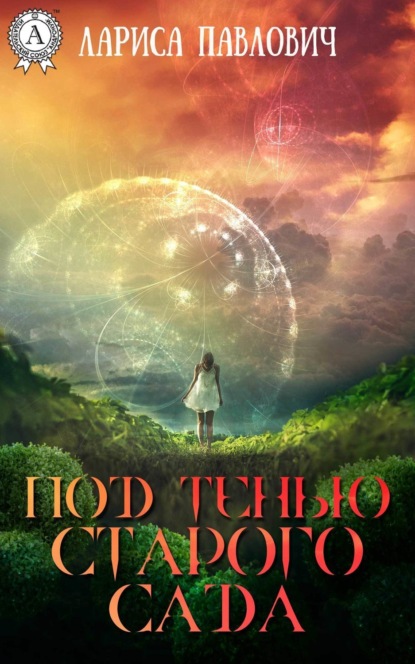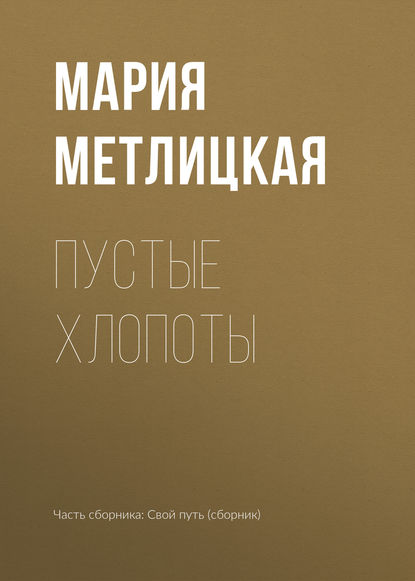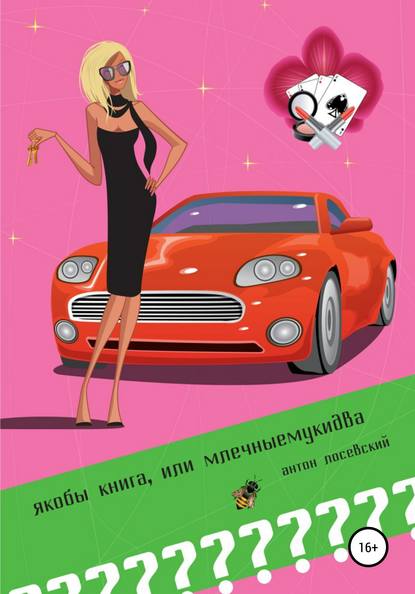- -
- 100%
- +
Изначально предполагается, что все сущее, добро и зло в равной степени, произошло от Бога. Но поскольку люди считают Бога благим и не желают приписывать ему зло, они постулируют оппозицию противоположных сил внутри самого Божества. Эта оппозиция постепенно выводится во вне и раздваивается», – таково логика рассуждения многих исследователей проблемы зла [Фукуяма Ф. Почему мы должны беспокоиться // Отечественные записки. – М., 2002. – №7. – С.84—99].
Очевидно то, что божественное начало по-прежнему считается источником зла, но теперь оно раздвоено на начало добра и начало зла. В политеизме божественная природа проявляется во многих богах, но каждое индивидуальное божество также может иметь доброе и злое. Или одни боги могут считаться добрыми, а другие – злыми. Двойственность божества отчетливо выражена в индуизме. Брахму называют «создателем и губителем всех людей». Он творит «наказание и милость, добро и жестокость, он исполнен дхармы и адхармы, истины и лжи» [Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. – К.: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384 с.].
Если обратить к истории религии, богов Греции и Рима христиане считали демонами, олимпийские боги превратили титанов в злых духов, тевтонские боги подчинили себе великанов и т. д. В индоиранской религии, на ранней ступени ее развития, существовали два вида богов: асуры и дэвы. По иранской версии ахуры победили дэвов, и лидер их стал Высшим Божеством, Ахура Маздой – богом света, а иранские дэвы были причислены к злым духам и стали подданными Ахримана, правителя тьмы.
Согласно индийской версии, дэвы победили асуров [Философский энциклопедический словарь. Под ред. Л.Ф.Ильичева. – М., «Советская энциклопедия», 1983]. С одной стороны, индийский вариант мифа приводит к противоположному результату, но, в сущности, в нем происходит то же самое: одна группа божеств побеждена другой и низведена до положения злых духов [Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991]. Живущие в Андах индейцы коги считают, что «добро существует только потому, что действует зло. Если бы зло исчезло, то не стало бы и добра. Коги стремятся все сводить к Юлуке, трансцендентному состоянию согласия» [Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД», 1998. – 670 с.].
В западных религиях Бог и Дьявол стали почти абсолютными противоположностями, но представление о тесной связи между ними все же сохраняется в мифах многих народов: 1) Бог и Дьявол сосуществуют и от начала времен действуют сообща; 2) Бог и Дьявол являются братьями; 3) Бог творит Дьявола, производя его из своей сущности. Борьба между полярными противоположностями может выражаться в двойственной природе традиционных божеств. Следует напомнить, что великие индийские боги, Кали, Шива и Дурга, проявляют как доброжелательность, так и злобу, они способны творить и разрушать.
О двух лицах единого Бога рассказывается также в мифах о родственных божествах, которые враждебны по отношению друг к другу. Индейцы виннебаго считают, что солнце породило двух близнецов: послушное Тело; непокорный Обрубок. У ирокезов есть легенда о том, что дочь земли вынашивала двух мальчиков-близнецов, которые ссорились в ее чреве. Один из них родился обычным способом, другой же появился на свет из подмышки, убив при этом свою мать. Младшего зовут Кремень, он постоянно стремится разрушить все, что создает его старший брат. Кремень создает скалы и горы, чтобы разрушить установленную его братом гармонию и простоту в общении между людьми. Такие двойники могут быть истолкованы как противоположные части божества, стремящиеся к единению и покою, или как единство противоположных космических принципов (инь и ян) [Лобок А. М. «Антропология мифа». – Екатеринбург: Изд-во Банк культурной информации, 1997. – 688 с.].
Во многих мифах и легендах начало зла часто ассоциируется с преисподней, с царством хтонического [Чернышов А. Современная советская мифология. – Тверь. 1992. – С.14]. С одной стороны, подземный мир был символом плодородия, а с другой стороны, подземный мир ассоциируется с погребением и смертью. Там, в стране теней, в царстве тьмы, бродят духи умерших [Суворова О. С. Человек: душа и тело, смерть и бессмертие. – М., 1994]. Владыка подземного мира (Плутон) одновременно был богом плодородия и смерти. Сама по себе смерть также двойственна. Один из самых жестоких индийских асуров (Намучи) – покровитель лжи, зла и ненависти, является также богом смерти и тьмы.
В ряде мифов и легенд смерть – это предпосылка для воскресения и вхождения в новую жизнь, и подземный мир является лишь временным пристанищем для восстающих из смерти божеств [Тогусаков О. А. Мир понятий: от мифа к теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 145 с.]. Урало-алтайские и многие африканские народы представляют смерть как уход наверх, в горы, к вершине дерева или лестницы, или как путешествие, в котором умерший присоединяется к небесному богу в его вечном благодатном царстве [Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991].
Таким образом, бог смерти вовсе не обязательно является абсолютно ужасным существом: он грозен, но он может быть и милосердным. Он может вывести нас из мира иллюзии и боли к новому миру и к новой жизни [Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. – К.: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384 с.].
Подобно преисподней, символика Хаоса имеет двойственные ассоциации с Дьяволом. Хаос, присутствует почти в каждой мифологии. Темнота и черный цвет почти всегда ассоциируются со злом (например в нашем случае: Кара-камар, Кара-молдо, Кара-бахшы), в противоположность связи белого цвета и света с добром (например в нашем случае: Ак-cуу, Ак-киши) [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.]. Когда Шиву изображают черным, этот цвет символизирует злое начало в его природе; черный цвет обычно имеет Кали, разрушительница. Потому вполне естественно, что черный цвет считается, как правило, цветом Дьявола (например в нашем случае: Кара-бахшы, кара-молдо).
§5. О символах и проблемах символизации. Символ (знак, сигнал, признак примета, залог, пароль, эмблема) понимается в трех смыслах: 1) Как синоним понятия «знак»; 2) Как аллегорический знак; 3) Как знак, предметное значение которого обнаруживается только посредством интерпретации самого знака, то есть как знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию [Символ в системе культуры. – Тарту, 1987]. Нужно отметить, что правила интерпретации исключают как однозначную «расшифровку» знака, так и произвольное толкование.
В отличие от образа символ не самодостаточен и относится к своему денотату (предмету), требуя не только переживания, но и толкования. В искусстве грань между образом и символом трудно определима, если не учитывать, что художественный образ приобретает символическое звучание, тогда как символ изначально связан со своим предметом [Символы в культуре. – СПб., 1992]. В отличие от понятия, для которого однозначность является необходимым требованием, сила символа заключается в его многозначности и динамике перехода от смысла к смыслу. Можно сказать, что, находясь между понятием и образом, символ одновременно передает многозначность денотата, используя образные средства, и передает однозначность образа, используя понятийные средства.
В отличие от аллегории и эмблемы символ не является иносказанием, которое снимается подстановкой вместо него прямого смысла: смысл символа не имеет простого наличного существования, к которому можно было бы отослать интерпретирующее сознание. В отличие от притчи и мифа, символ не предполагает развернутого повествования и может иметь сколь угодно сжатую экспрессивную форму. В отличие от метафоры символ может переносить свойства с одного предмет на другой и устанавливать те или иные их соответствия не для взаимоописания этих предметов, а для отсылки к «неописуемому» [Топоров В. Н. От космологии к истории (к характеристике раннеисторических описаний) // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – С.59].
Специфическими отличиями символа от всех упомянутых косвенных способов выражения смысла являются следующие: 1) Способность символа к раскрытию многообразия своего содержания в процессе соотнесения со своей предметностью при сохранении данной символической формы. Поэтому данный процесс может пониматься не только как интерпретация заданного смысла, но и как одновременное порождение этого смысла; 2) Природа символов с необходимостью требует толкования и коммуникации, последняя, в свою очередь, создает предпосылки для организации сообществ «посвященных», то есть объединений субъектов, находящихся примерно в одном понятийном поле символа [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980].
Многие авторы склонны считать, что символ – в широком смысле понятие, фиксирующее способность материальных вещей, событий, чувственных образов выражать идеальные содержания, отличные от их непосредственного чувственно-телесного бытия. Безусловно, символ имеет знаковую природу, и ему присущи все свойства знака [Михайлов А. Д. Жид // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1962—1978]. Однако, если сущностью знака признать чистое указание, то сущность символа оказывается большей, чем указание на то, что не есть он сам (Гадамер). Важно заметить, что символ не есть только наименование какой-либо отдельной частности, он схватывает связь этой частности со множеством других, подчиняя эту связь одному закону, единому принципу, подводя их к некоторой единой универсалии [Символ в системе культуры. – Тарту, 1987].
Приводится такое обобщающее определение символа, как самостоятельного, обладающего собственной ценностью обнаружение реальности, объединяющее различные планы реальности в единое целое. В смысле и силе, в отличие от знака, символ создает собственную многослойную структуру, смысловую перспективу, объяснение и понимание которой требует от интерпретатора работы с кодами различного уровня [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980] Следует отметить, что множественность смыслов свидетельствует не о релятивизме, но о предрасположенности к открытости и диалогу с воспринимающим.
Многие авторы предупреждают о том, что возможны различные трактовки понятия «символ» и «символическое». В семиологии Пирса «символическое» понимается как особое качество, отличающее символ от других средств выражения, изображения и обозначения. Эта особенность символа представляется как частный случай знаковости и ее наивысшая степень или, наоборот, наибольшая противоположность знаковости [Нестеров А. Ю. Символ в акте означивания текста // Когнитивные сценарии коммуникации. На перекрестке языков и культур. Доклады международной конференции. – Симферополь: «ТНУ им. В.И.Вернадского», 2002].
Согласно воззрениям ряда исследователей, «символическое» – это глубинное измерение языка, шифр, предпочитающий процесс производства значений коммуникативной функции или особый синтез условной знаковости и непосредственной образности, в котором эти два полюса уравновешиваются и преобразуются в новое качество (Белый, Аверинцев и др.). «Символическое» представлено также как родовая категория, охватывающая все формы культурной деятельности человека (Кассирер, Дж. Хосперс и др.) [Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван, 1980]. Авторы дают максимально широкое понятие символа – «чувственное воплощение идеального», что, по их мнению, обозначает как «символическое» всякое восприятие реальности с помощью знаков, что позволяет на основе единого принципа систематизировать все многообразие культурных форм: язык, науку, искусство, религию, то есть понять культуру как целое.
В символе единство культуры достигается не в ее структуре и содержаниях, но в принципе ее конструирования [Символы в культуре. – СПб., 1992]. То есть каждая из символических форм представляет определенный способ восприятия, посредством которого конституируется своя особая сторона «действительного». Обращение к первому, семиотическому, толкованию символа характерно для социологов, антропологов, логиков, искусствоведов. Предметом интереса здесь оказываются возможные типы разрешения внутреннего напряжения знака (между означающим и означаемым), что по-разному реализуется как в отношении символа к субъекту и принятому им способу интерпретации, так и в отношении символа к символизируемому объекту [Топоров В. Н. От космологии к истории (к характеристике раннеисторических описаний) // Тез. Док. IV летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – С.59]. Критерий различения в отношении референции: произвольность/непроизвольность значения символа. Непроизвольность или иначе мотивированность, основана на признании наличия общих свойств у символа и объекта.
Следует отметить, что отношение аналогии сохраняется и при подчеркивании несовпадения знакового выражения и значимого содержания. По отношению аналогии означающего и означаемого, мотивированности и неадекватности связи символа противопоставляется знаку, в котором отношение составляющих немотивированны и адекватны. Произвольный, то есть немотивированный символ определяется как условный знак с четко определенным значением [Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова, издание 1935—1940 гг. – М.: Дом Славянской книги, 2008. – 960 с.]. Немотивированный символ уделяет особенное внимание означаемому, а форма и денотат могут быть любыми. Конвенциальный символ, таким образом, один из случаев отношения знака к объекту.
В отношении символа к сознанию субъекта, в котором он вызывает понятие или представление об объекте, анализируется связь между чувственными и мысленными образами. По Лотману, представление о символе связано с идеей некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого, как правило, культурно более ценного содержания. Многозначность задает понятие символа в герменевтике. По П. Рикеру, всякая структура значения, где один смысл, прямой, первичный, буквальный, означает одновременно и другой смысл, косвенный, вторичный, иносказательный, который может быть понят лишь через первый.
Данный круг выражений с двойным смыслом составляет герменевтическое поле, в связи с чем и понятие интерпретации расширяется также, как и понятие символа [Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. – М., КАМИ, 1995]. Между тем, интерпретация символа – это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении, или иначе – интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл и именно в интерпретации обнаруживается множественность смыслов.
Исследователи подчеркивают, многоуровневая структура символа последовательно увеличивает дистанцию между означающим и означаемым, задавая тем самым основные функции символа: экспрессивную, репрезентативную и смысловую, посредством которых реализуется его роль в культуре. Непосредственное выражение – это презентация некоего объекта восприятию субъекта, восприятие непосредственно связано с «наличностью» и временным «настоящим» осовремениванием. Всякая презентация возможна «в» и «благодаря» репрезантации представления одного в другом и посредством другого [Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. – М., КАМИ, 1995].
По Г. Г. Гадамеру (1900—2002), функция представления символа – это не просто указание на то, чего сейчас нет в ситуации, скорее символ позволяет выявиться наличию того, что в основе своей наличествует постоянно: символ замещает, репрезентируя. Это означает, что он позволяет чему-то непосредственно быть в наличии. Свою функцию замещения он выполняет исключительно благодаря своему существованию и самопоказу, но от себя ничего о символизируемом не высказывает: «там, где оно, его уже нет». По мнению автора, символ не только замещает, но и обозначает. «Функция обозначения связана не с чувственной данностью, но саму эту данность он задает как совокупность возможных реакций, возможных каузальных отношений, определенных посредством общих правил: означивается не столько единичный факт, сколько процесс мышления, способ его реализации», – пишет он. [Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М.:Прогресс, 1988. – 244 с.].
По А. Ф. Лосеву (1893—1988), в символе достигается «субстанциональное тождество бесконечного ряда вещей, охваченных одной моделью». Автор определяет символ исходя из его структуры, как встречу означающего и означаемого, в которой отождествляется то, что по своему непосредственному содержанию не имеет ничего общего между собою – символизирующее и символизируемое. Существом тождества, следовательно, оказывается различие. Как утверждает автор, отсутствии у символа непосредственной связи и содержательного тождества с символизируемым.
Таким образом, для символа необходимо существование оппозиции, члены которой противоположны и только вместе составляют целое, и именно поэтому являющиеся символами друг друга [Лосев А. Ф. Философия имени. Из ранних произведений. – М., 1990].
§6. О символе в философии и искусстве. Уже у истоков философского мышления (досократики, Упанишады) мы находим искусство построения символа в тех случаях, когда понятие сталкивается с трансцендентным. Но как философская проблема символ осознается Платоном, который ставит вопрос о самой возможности адекватной формы абсолютного. Эйдосы, которые суть ни абстракции, ни образы, в этом контексте можно понимать именно как символы. В то же время платоновский (и позднее – неоплатоновский) метод параллельного изложения истины как теории и как мифа в основном аллегоричен, а не символичен [Платон. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1993—1994].
Европейское средневековье делает символ одним из обще культурных принципов, однако предметом рефлексии и культивирования в первую очередь становятся эмблематические возможности символа, Эти века богаты своими символическими художественными и религиозными мирами, но не видят при этом в символе ничего, кроме средства иносказания и «геральдической» репрезентации. Новый поворот темы возникает в связи с кантовским учением о воображении. Описав два несовместимых измерения реальности – природу и свободу, – И. Кант (1724—1804) обосновывает возможность их символического соединения в искусстве и в целесообразности живого организма. Символ впервые приобретает статус особого способа духовного освоения реальности [Кант И. Критика чистого разума. – М, 1994].
В философии немецкого романтизма (Новалис, Ф. Шлегель, Шеллинг, Крейцер и др.) разворачивается целая философия символа, раскрывающая его специфику в связи с основными темами романтической эстетики [Шеллинг Ф. В. И. Философия искусства. Ч. I: Общая часть философии искусства. – М., 1966]. Близкую романтизму версию дает А. Шопенгауэр, изображающий мир как символизацию бессодержательной воли в идеях и представлениях [Андреева И. С., Гулыга А. В. Шопенгауэр. М.: Молодая Глвардия, 2003. – 367 с.]. Как вариант романтической темы символа можно рассматривать концепцию «косвенных сообщений» Кьеркегора.
Во второй половине XIX в. миф, истолковывается не как формальная оболочка смысла, а как смыслопорождающая стихия. С 80-х гг. символизм как художественное течение и теоретическое самообоснование, вбирая в себя и романтическое наследие, и идеи философии жизни, создает в полемике с позитивизмом новую философию символа, претендующую на тотальную мифологизацию не только творчества, но и жизни творящего субъекта. Русское ответвление символизма рубежа XIX – XX вв. дает обильные философские плоды: в построениях B.C.Соловьева, А. Белого, В.И.Иванова, П.А.Флоренского, А.Ф.Лосева и др., символизм получает систематическое многовариантное философское обоснование [Антология мировой философии. – В 4-х т. – М.: Мысль, 1969—1972].
Течения западной мысли XX в. представляют несколько моделей понимания символа. Выросшая из неокантианства «Философия символических форм» Э. Кассирера (1874—1945) делает символ универсальным способом объяснения духовной реальности. «Глубинная психология» К. Юнг (1975—1961) и его школы, наследуя открытый психоанализом феномен символа, укорененного в коллективном бессознательном, переходит от установки З. Фрейда (1856—1939) на разоблачение символа к его легитимизации и сознательного включения символа и архетипов в процессы самовыражения и самопостроения души [Антология мировой философии. – В 4-х т. – М.: Мысль, 1969—1972].
Философия языка вскрывает символический потенциал, позволяющий естественному языку играть роль миросозидающей силы. Если аналитическая традиция склонна при этом «обезвреживать» мифологию языка и его символа в пользу рациональности и смысловой прозрачности, то «фундаментальная онтология» М. Хайдеггера (1889—1976) и герменевтика Г.Г.Гадамера (1900—2002) пытаются освободить язык от сциентистской цензуры и позволить символа быть самодостаточным средством понимания мира. Показательно, что М. Хайдеггер с его стремлением реставрировать в духе досократиков роль символа в философском мышлении и Л. Витгенштейн (1889—1951) с его пафосом «ясности», сходятся в признании необходимости символически означить «то, о чем нельзя сказать» при помощи «молчания» (Л. Витгенштейн) или «вслушивания в бытие» (М. Хайдеггер).
Структурализм К. Леви-Стросса (1908—2009) исследует механизмы функционирования символа в первобытном бессознательном, не избегая проекций на современную культуру. Новейшая философия Запада сохраняет проблематику символа в превращенных формах в той мере, в какой остается актуальной задача размежевания и аксиологической оценки различных типов знаковой активности человека и культуры [Антология мировой философии. – В 4-х т. – М.: Мысль, 1969—1972].
§7. О символе в религии и культуре. Символ играет исключительную роль в религиозной духовности, поскольку позволяет находить оптимальное равновесие образа и трансцендентнции. Символикой насыщена ритуальная жизнь архаических религий [Символ в системе культуры. – Тарту, 1987]. С рождением теистических религий возникает коллизия принципиальной невидимости единого Бога и видимых форм его проявления: возникает опасность того, что символ может обернуться языческим идолом. Поэтому для теизма предпочтительней символ-знак с его отвлеченностью и дистанцированностью от натуралистических образов и психологических переживаний, чем символ-образ [Символы в культуре. – СПб., 1992].
Спектр решений этой проблемы простирался от запретов чувственной образности в иудаизме и исламе до относительно строгой цензуры символической образности в протестантизме и до интенсивной символической образное католицизма и православия. Показательно в этом отношении иконоборческое движение в Византии VIII – IX вв., высветившее религиозные и культурные антиномии символа.
Средневековая христианская культура делает символ основой понимания и описания тварного мира. Именно этот стиль стремился представить не только тварный мир, но и Священное Писание, как стройную систему взаимосвязанных иносказаний, причем бесконечность связей этой системы фактически превращала аллегорию в символ [Свасьян К. А. Философия символических форм Кассирера. Критический анализ. – Ереван, 1989]. Христианство Нового времени менее чувствительно к различию символа и аллегории, однако теология XX века вновь заострила эту проблему.
Символ как элемент и инструмент культуры становится специальным предметом внимания и научного исследования в связи с формированием новой гуманитарной дисциплины – культурологи: 1) Культура в целом трактуется как символическая реальность; 2) Вырабатывается методология «расшифровки» того смысла, который бессознательно был придан объекту культуры; 3) Символ изучается как сознательно творимое сообщение культуры, и в этом случае интерес представляет как поэтика его создания, так и механизмы его восприятия [Символы в культуре. – СПб., 1992].
Если выделить три способа передачи сообщения в культуре: 1) Прямое (однозначная связь смысла и знаковой формы); 2) Косвенное (полисемантичная форма имеет фиксированный смысл, но предполагает свободную интерпретацию); 3) Символическое (полисемантичная форма имеет смысл только как заданность предела интерпретации), то символическое сообщение будет наиболее специфичным для культуры как мира творческих объективаций, поскольку частные целеполагания всегда остаются для культуры в целом лишь встроенными в нее элементами. В этом смысле даже однозначный авторский замысел в культурном контексте становится символом с бесконечной перспективой интерпретации.
Наиболее проблематичным является понимание символа культуры, лишенных прямой эмблематичности – художественный образ, миф, религиозное или политическое деяние, ритуал, обычай и т. п. [Свасьян К. А. Философия символических форм Кассирера. Критический анализ. – Ереван, 1989].