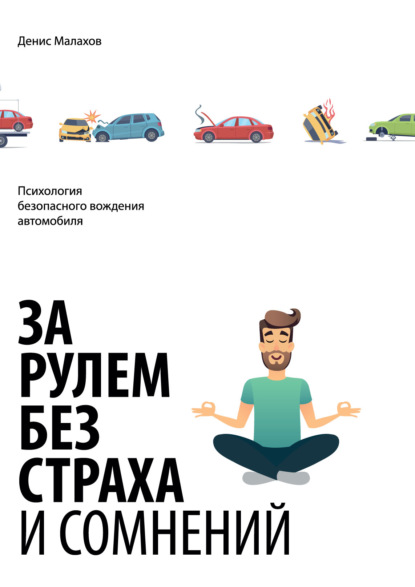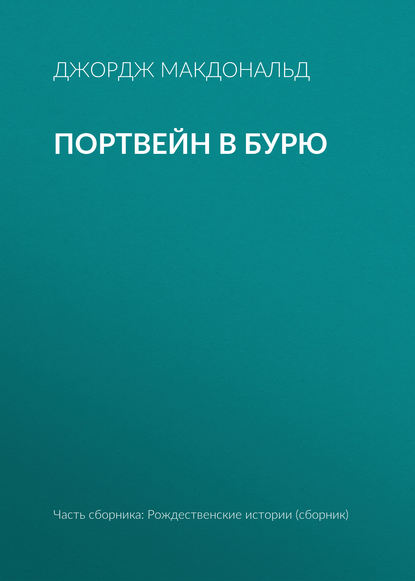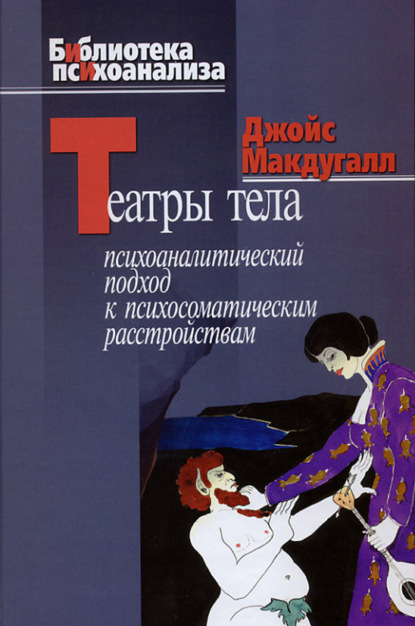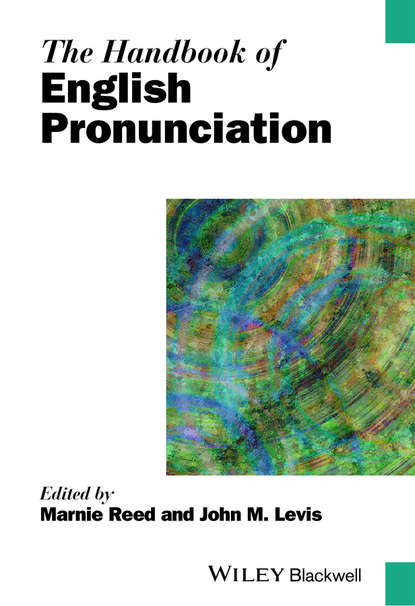Философия легендарной личности: между первой и второй жизнью. Философское эссе
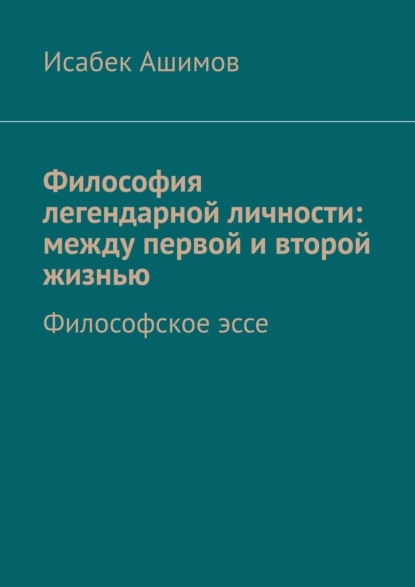
- -
- 100%
- +
О страдании как навигаторе души. Глубокая старость, символическая социальная смерть у Мамбет Мамакеевича была лишь последние полгода. Такое состояние для нас скорее просто метафора, а для него они были лишь условием и возможностью для глубокого размышление о начале и конце, о смысле бытия и небытия, о природе самосознания и памяти. Мы помним, как он с удручением в голосе говорил нам о том, что после годовшины смерти любого человека, люди склонны к постепенному забыванию о нем. Это естественно и есть в этом народная мудрость – «отпустить» покойного. Возможно, слова, высказанные им были своего рода назиданием, чтобы после его кончины мы так скоро не забывали бы. Да. Мы отпускаем нашего Учителя, отца, брата. Однако, таких людей народ, а тем более близкие и ученики никогда не забудут. Правда в том, что у таких людей как Мамакеев М. М. всегда наступит вторая жизнь, как продление памяти о нем. И вот перед нами начало именно такой его жизнь. В этой связи, нужно понять его детям, ученикам, последователям, что это «чистый лист» вторичного бытия Учителя, без его статуса, без тела, без возраста. И судьба второй его жизни находится сейчас в состоянии максимальной податливости и готовности к любым изменениям, вот почему важен момент осознания повторного бытия Мамбета Мамакеевича в нашей надежной памяти. Итак, страдание направляет человека к подлинному смыслу жизни, как навигатор, как стрелка компаса, указывающая в нашем случае путь нашего Учителя к истине, к прозрению. Здесь философской формулой будет: Смысл = Страдание → Прозрение.
О хирургии, выраженной в мыслях. В последние годы жизни он часто повторялся: «…Покой. Впервые за долгие годы жизни и работы я ничего не должен. Мне больше не нужно доказывать, защищать, убеждать. Впервые я позволяю себе просто жить, отдавшись воспомнианиям, внутренне надеясь на то, что с его семьей, научной школой, хиругической клиникой все будет в порядке…». Но мы то знаем, что Мамбет Мамакеевич больше молчал. Его молчание – это присутствие смысла, это язык, на котором он уже разговаривал с вечностью. В этой тишине, возможно, ему приходили лишь воспоминания, в которых оживают люди, судьбы, история. Однажды в беседе он высказался: «…Не нужно сомневаться, не о чем спорить и доказывать. Всё позади. Все, что надо было доказать – доказано, всё, что можно было потерять – потеряно, а всё, что осталось – и есть самое ценное: сознание себя. Я не чувствую прежнего страха и сомнения. Напротив, наступило странное облегчение, особенно когда я простил Эрниста Акрамова, отпустил свою злость на него. Мы обе прощены и в этом есть большой смысл, ибо мы уже были на пути к последнему рубежу. После такого поступка, я ощущаю себя почти невесомым», – признавался Мамбет Мамакеевич. После такого признания я не счел нужным его оспорить, а ведь был убежден в том, зачем после 40 лет откровенной и беспощадной вражды он первым простил своего неблагодарного ученика. Зачем, почему, отчего? Да. Теперь они теперь просто стали сознанием, освободившимся от формы. Восточная мудрость гласит: «Когда ученик готов, учитель умирает внутри него». Будучи Великим учителем теперь он отпустил себя, познав уроки великих прощений и освобождений. Кто знает, возможно, Мамбет Мамакеевич, как настоящий хирург оценил подлинность своего ученика в хирургии, оценил всю жертвенность его, как самого? Их объединяет в таком случае только хирургия и скальмель. Итак, скальпель – это символ ответственности и жертвенности, а операционный стол как алтарь, где хирург – посредник между жизнью и смертью, что можно выразить философской формулой: Жизнь = Надежда × Ответственность.
О зеркале самопознания и мироощущения. Что значит возвращение к себе? Это осмысление самого себя каким был до всех масок, заслуг, побед и поражений, когда вокруг непривычная тишина, лишь отзвуки прожитого. Возможно, Мамакеев М. М. именно тогда впервые задал себе главный вопрос: «А что было до всего этого? Где начался Я?». Ответ был не в прошлом. Ответ был в возвращении к смыслу. В этом моменте, возможно, он начал слышать внутренний голос. Свой, но как бы из глубины. В памяти всплывали даты, лица, беседы, мысли, награды, признания, слова благодарности, чувство вины, радости, печали, горести. И он взялся за работу по оживлению их. Он начал писать о себе, о своей судьбе, об истории, встречах, лицах, личностях. Написаны пять увесистых книг. Но, когда он перевалил за 95 летие, даже они начали растворяться. Осталась только мысли, с которыми он погрузился в смысл. Не события, а следы, не лица, а дела. Его Я уходил вглубь, в обратную сторону. Но уже к тем, кто его реально и с достоинством слышал, различал, ценил. Итак, зеркало самосознания отражает не внешность, а готовность встретить себя. Отражение множится, пока не исчезает маска. Этот трудный процесс самосознания можно отразить философской формулой: Я = Отражение (искренность).
О философии молчания и поиске тишины. Мне всегда было интересно, какие мысли овладевали его после написания серии автобиографических книг? Какие мысли у него возникали, когда он стоял напротив своего бронзового памятника? Вел ли он мысленный разговор с эти своим двойником? Его, как автора книг, как «забронзовоевшего» еще при жизни человека, возможно, охватывали не триумф и удовлетворение, а более тонкие, глубокие, противоречивые и философски насыщенные переживания. Одно очевидно, что в старческие годы, в особеннности после 95-летнего юбилея, у него преобладали ощущение предельности. Но у таких людей, как он не бывает предела, а бывает край край смысла. «Я написал много. Но не уверен, что сказал главное. Я осознаю, что количество книг – не эквивалент полноты высказывания. Написанные мною книги не завершение творческого пути, а выход к краю, за которым нет новых книг – только молчание, созерцание, суммирование», – так нверняка мыслилось ему в тот период старости и болезни. Этот рубеж, где слово становится жестом прощания – не с творчеством, а с нуждой доказывать или позиционировать себя. В чем проявляется завершенность его пути? Завершённость пути, как мне кажется, проявляется не как финал его биографии, а как внутреннее достижение целостности, философской зрелости и согласия с собственной судьбой. Это и есть ключевые проявления этой завершённости. Как часто мы видели его в те годы, молчаливо погруженного в себя. Итак, молчание – это форма диалога с вечностью по схеме: Слово → Маска, а Молчание → Суть. Тогда философская формула его будет выглядет так: Истина = Внутреняя тишина.
О прощении и снисходительности как зрелости и мудрости. Поворот вспять – это, по сути, форма мудрости. Это не старость и не уныние – это форма философского прозрения, в духе суфизма, Лао-Цзы или позднего Толстого: «Я возвращаюсь из славы – к поиску, из труда – к тишине», – возможно мыслилось ему. Завершённость здесь, наверняка, прощение себя и других. Он прощает многое и многим, он наблюдает, понимает и отпускает от себя обиды, горечи непонимания, свобюственную, но осмысленную вину. От него в те дни можно было услышать: «…Зря на него я держал обиду и злость. Я прощаю ему. Пусть Бог рассудит нас…». Такой поступок и решение делает его путь не только завершённым, но и благородным. Прощение получили его неблагодарные ученики, бывшие соратники, которые отвернулись от него, люди, которые ставили ему подножку, чиновники, которые строили всякие козни, завистливые коллеги по цеху науки, образования, медицины, которые завидывали, а потому строили интриги против него. Для всех, чтобы он и в будущем присутствовал в памяти других Мамакеев М. М. как бы говорил: «Я, завершив свой жизненный путь, никуда не исчезну – я остаюсь в детях, внуках, учениках, людях, в народе, в мыслях, в вопросе». Нет конечно, наш Учитель – ваше «я» завершится не концом, а передачей в будущее. Итак, вот ответ по завершённости его пути: во-первых, целостность, а не финал; во-вторых, молчание, наполненное смыслом; в-третьих, принятие, включающее боль; в-четвертых, мысль, перешедшая в форму второго возрождения; в-пятых, покой, не как отсутствие движения, а как возвращение к замыслу. Но, что важно, он не закончил, а вернулся и потому – жив – жив в памяти детей, учеников, последователей. Итак, прощение себя и других – это высший акт мудрости, таков круг жизни: ошибка → страдание → прощение → освобождение. Философскую формулу можно выразить следующим образом: Зрелость = Прощение ÷ Гордость.
О комплексе личности как энергии. Наблюдая за судьбой Мамакеева М. М., даже тогда, когда он перешагнул свой 70-летний рубеж, у меня и не только, возникали мысли, ну не может быть, чтобы у него не будут попыток услышать самого себя. В те годы он был в зените славы, признания. Нам казалось, что началом самослушания возникли у него после 80-летия. Кто знает, может быть его автобиографические книги в том возрасте были не чем иным, как формой самослушания. И каждая его книга – не манифест, а вопрос и с годами старости все чаще проявлялась его попытка задать этот вопрос иначе, глубже, тише. Однажды я был свидетельством с каким удовлетоврением он слушал аудиоверсию одной из книг того возраста. Надо полагать, что у него не было сомнений в своей правоте, искренности, прямоте пусть жесткой, но чтобы дать возможность своим читателям оглянуться, понять, признать. Свидетельством такой попытки служили и серия радио и телеинтервью, организованных одним из его учеников – профессором Сопуевым А. А. Безусловно, у него были комплексы, которые толкали его вперед, чтобы он стал «выше и сильнее». Именно в тогда, когда он отпраздновал свое 80-летие я услышал его признание: «… как бы то ни было, я благодарен моим оппонентам в молодости, которым так хотелось, чтобы я не стал хирургом, не стал ученым, не стал общественно-политическим деятелем, не стал академиком и, наконец, героем Кыргызстана. Человек остается человеком – насквозь субъективным, порою кровожданым. Но со временем судьба расставит всех по своим местам…». И действительно, он убедился в том, что они – те самые оппонеты и завистники, так или иначе в жизни понесли наказания за свои деяния против него». Итак, бедность и психоогическая травмы детства и юности стали источником силы для него, что можно выразить схемой: Комплекс → Амбиция → Достижение и философской формулой: Сила = Травма × Воля.
Об эстафете памяти – между первой и второй жизнью. В конце жизни у Мамбета Мамакеевича наступило долгожданное им облегчение. А как же. Он уже никому и ничему не должен, клиника и его дела в надежных руках, дети и внуки нашли свое призвание и нишу. «Я больше не обязан. Я могу молчать – без чувства долга» – это зрелая мысль человека, который исполнен, но не опустошён. Он освободился от жажды признания, от необходимости объяснять. Он стал собой – без обязанностей, без титулов, без тревоги быть нужным. Однако, мы видели в нем тихую боль: жизнь прожита, невчем сомневать, прошедшая жизнь была насышенной, полезной, благородной. В его лице отражалась мысль – я дошёл до себя. Это и был моментом философской честности и утешения. О нем вышел ряд книг, создан персональный музей, во дворе живет своей жизнью «Мамбет-ата мечити», где в каждом дуа звучит и благодарность за построенную им обитель Аллаха. Хочу отметить, что среди моих 200 книг есть ряд произведений, в которых всегда живет примечательный персонаж – Маметов, олицетворящий образ Мамбета Мамакеевича. Я об этом ему никогда не говорил, а он и не спрашивал. Однако, в тех же моих книгах, статьях о нем всё равно остаются нечто невыраженные, неулавливаемые, что ускользает от слов. Именно это побуждало меня к написанию той самой философской книги, в которой прозвучали бы мысли не только в строках, но и контекстах между строк. Между тем, мой писательский потенциал никак нехватит написать о нем нечто эпическое. Хотя, считаю, что он достоен такого эпического повествования о жизнедеятельности, скажем, в формате серии «ЖЗЛ», то есть «Жизнь замечательных людей». Итак, вторая жизнь продолжается в детях и учениках по линии поколений: Учитель → Ученики → Будущее. Философская формула эстафеты: Бессмертие = Память × Передача.
О философии возвращения к истоку и умиротворению. Все мы знаем, что при всей внешней суровости Мамбет Мамакеевич был всегда открыт. Он был, по сути, самой прямотой и откровенностью. В этом суть его философии: во-первых, жить – быть самим с собой, высказываться как на духу; во-вторых, жить – значит спасать жизнь людей; в-третьих, жить – это найти смысл и собственного я – в труде, творечестве, заботе; в-пятых, жить – быть общественно полезным, заботится о государстве и об обществе. «В глубине зимы я наконец понял, что внутри меня живёт непобедимое лето», – писал А. Камю. Это и о Мамбет Мамакеевиче. Он до конца своих дней оставался оптимистом, патриотом своей родины. Мне почему то казалось, вот отпраздновал он свое 70-летие и возможно он задавал вопросы самому себе: «А что дальше?». Клиника построена, везде почет и уважение, непререкаемый авторитет в высших кругах, как государства, так и в научных, медицинских, общественных сословиях. Но, что меня удивило – это то, что он с головой ушел в эндохирургию, наступив на собственное горло страстного сторонника антомического подхода в хирургии. Все были удивлены тем, что он освоил, внедрил эндохирургию и это после своего 70-летия. А ведь по статистике у него оказался самый большой опыт эндохирургии холецистита в целом СНГ. Этот факт, как ни что другой характеризует черты прогрессиста Мамакеева М. М. Итак, родина и традиции – это последние опоры старого человека, что можно выразить кругом: путь в мир → путь домой, а также философской формулой: Смысл = Дом + Корни.
О жизни, науке и идеалах служения. Мамакееву М. М., отметившему 70-летие стать в стране по настоящему символом трудолюбия было еще впереди. Чуть позже он станет «Героем Кыргызской Республики», что, конечно же настроил его на новые победы и признания. Как известно, истинное – это всегда в пустоте между ролями. Он, оценивая свое состояние свыкается с мыслью о том, что нужно оправдать это высокое звание и награду. Он весь в работе, поездках, общениях, в том числе на межгосударственном уровнях. Везде он среди равных, почет, уважение, признание. За эти заслуги и вклад его награждают орденом «Манаса» 1-й степени. Как человек долга и совести он вновь с головой уходит в труды с конкретными зримыми результатами. И снова его ждет награда – «Манаса» 2- й степени. То есть цикл «Достойный труд – достойная награда» запускается заново. Он почти принужден совершать очередные победы и вот теперь 3-я степень ордена «Манас». Теперь он дважды Герой страны. Весь этот цикл оттягивал у него условия для того, чтобы добраться, наконец, до самого себя. Между тем, цикл, как заведенный мотор не прерывался, его ждали другие признания. Так он стал символом трудолюбия в Кыргызстане. Итак, служение родине, науке, медицине – это, прежде всего, гражданский долг и ответственность, честность перед самим собой, перед признаниями народа и Правительства. Философская формула: Родина = Преданность + Труд и подвиг.
Об утешении как умиротворении и пробуждении. Мамакеев М. М. в силу своего боевого характера, упорности в достижении целей, прагматичности добился много, о чем могли бы гордится великие личности. Получив признание в одном деле, он переключался на другие дела с таким же успехом. Академик, депутат, организатор науки, медицины, образования. Как мне кажется, у него всегда стоял вопрос: что делать дальше? Однако, как мне кажется, этот вопрос звучал для него уже постаревшего не как тревога, а как начало свободы. Теперь, освободившись от многих обязанностей, в том числе директора НХЦ, у него теперь были обычные телесные боли, тяжелые сны, усталости. А что? Правление своим детищем – НХЦ передал в надежные руки – своему сыну, который, по его убеждению, несомненно, сделает больше для центра, чем он сам. Вот-так он, впервые за всю жизнь принадлежал только мысли и разуму. Ему больше не мешали отвлечения: ни дела, ни заботы. Возможно, он тогда стал чистым сознанием. Он в этом состоянии мог видеть не горизонты, а сферу, готов был идти не ногами, а разумом. Обычно, 90 лет, а это долгожительство, у многих старцев символизирует внешне завершённый путь, но этот рубеж запускает кризис само осмысления, потому что больше нет куда «расти» вовне, и человек впервые сталкивается с вопросом: Герой, дважды герой, так как полное кавалерство ордена «Манас» приравнивается званию героя, а это уже как никак «апогей». Все это послужило для него поводом для разворота внутрь. Всё, что раньше было движением наружу (достижения, звания, победы), в этот момент оборачивается в вопрос: «А не утратил ли я себя за этими ступенями? Где в этом был Я?». Но сам же находит ответ: «Я в детях, внуках, учениках и последователях». Итак, учитель заражает вопросом, а не даёт готовый ответ. Ученик зреет по схеме: Учитель → Вопрос → Ученик, а такая философская формула вечна: Образование = Пробуждению.
О философии старческого возраста. К удивлению многих и многих Мамакеев М. М. просто не мог жить только мыслями и ожиданиями. Переступив даже свои 93 года он продолжал оперировать. В один из дней его известили о том, что за самую долгую хирургическую практику в мировом масштабе его имя занесли в знаменитую «Книгу Рекордов Гиннесса», отметив, что академик Мамакеев М. М. является самым пожилым действующим хирургом мира. Статус дважды Героя страны, академика, создателя самой большой научно-практической школы, а теперь и рекордсмен мира – это законная гордость шефа, завершающая смысловую преемственность между тем, «кем был – кем стал». Итак, статус Мамбета Мамакеевича, в особенности его рекорд в хирургии, которым он жил – это было точкой возвраты к себе: во-первых, не триумф, а освобождение от гонки; во-вторых, не конец пути, а начало внутреннего очищения; в-третьих, не вершина, а зеркало смысла. В этом и заключается парадокс вершины шефа. Возможно у него в голове сверлила мысль: Без привычной среды (работы, семьи, наград, обязанностей) впервые остаётся только «я». И это «я» – без задач и без цели, и потому оно заново ищет своё предназначение. В чём заключается ключевой аспект этого вопроса? Ответ: Не в практическом действии – а в переопределении самого действия. Раньше «делать» значило писать, оперировать, преподавать, управлять, объяснять. Теперь – «делать» значит – быть, думать, различать, помнить, возвращаться. Итак, возраст – не годы, а мера прощения себе, что можно выразить графикой: возраст ↑ → рост внутреннего освобождения, а также философской формулой: Возраст = Прощение ÷ Признание.
О старости и свободе как пути к себе. Мамакеев М. М. теперь не ищет «нового дела» – он ищет новую форму своего существования, уже не как профессионала, а как мыслящей памяти, пережитого смысла, открытого сознания. В своих воспоминаниях он часто обращается к своей хирургической судьбе, и когда речь заходит об этой сфере его деятельности он оживляется, в глазах появляется блеск. Да. Хирургия для него было всем. Зная его характер и харизму мы смело можем утверждать, что у него не было сомнений в плане выбора профессии хирурга. Одно из обратной честности, которую можно допустить – это его мысли о том, что во всём этом было истинным? Я ли оперировал, или это руки выполняли долг, отучившийся чувствовать? И именно потому теперь, стоя на вершине, он чувствовал только громкие рукоплесания пациентов, которых он вырвал из лап смерти. А их было на его счету – свыше 40 тысяч. То есть целый армейский корпус или фронт. Разве это не великое утешение для великого человека. Зеркало, которое висит у него в рабочем кабинете видело его разным: уставшим, вдохновлённым, раздражённым, победившим. Однажды застал его смотрящим на свое отражение в том самом зеркале. Он смотрел на себя взглядом человека, который спрашивает себя: «Кем я был и кем я стал?» В зеркале он видел не героя, академика, не титулы, не регалии, не заслуги, а видел человека, уставшего, но самодостаточного, он видел человека, которому всё удалось. Итак, старость – это возможность быть собой без оправданий на всей линии жизни: юность → зрелость → свобода. Философская формула такого утешения: Свобода = Старость – Ожидания.
О тело как храме и лабиринте. Философ Э. Фромм писал: «Человеку проще иметь, чем быть». Возможно, он слишком долго имел: звания, почет, признания. Когда ему вручали звезду Героя, когда избрали академиком, когда присвоили его имя его детище – НХЦ, когда поставили ему бронзовый памятник, когда создали персональный музей и «Мамбет-ата мечити», он, как и любой человек радовался, ощущал прилив вдохновения. Теперь ему хотелось только покоя. Теперь он мог смотреть в зеркало и не отворачиваться. Он мог отпустить образ «героя», «академика», «патриарха», чтобы добраться до себя. Да. Он понял, что истинное – за пределами званий и статуса. Существуют два горизонта одного пути. М. Хайдеггер и экзистенциалисты подчеркивали различие между подлинным и неподлинным существованием. Если подлинность – это жизнь, отвечающая глубинному призванию, даже если она не признана внешне, то не подлинность – это жизнь в соответствии с ожиданиями других, ролями, социальными масками, в которой субъект отчуждается от самого себя. У него были оба горизонта в гармоническом единстве, то есть не было разрыва между его внутренним «Я» и внешней биографией. Но возможно и другое: не сожаление, а желание утверждения, подтверждения, что путь был не напрасен. Однажды он на пляже шутил, что не может с содроганием смотреть на свое старческое тело. Но это тело оставался храмом для его души и лабиринтом познания. Он подолгу рассматривал свои руки, которым народ уже давно называл «золотыми». Учитель любил и лелеял свои руки. Философская формула: Тело = Храм + «Золотые руки».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.