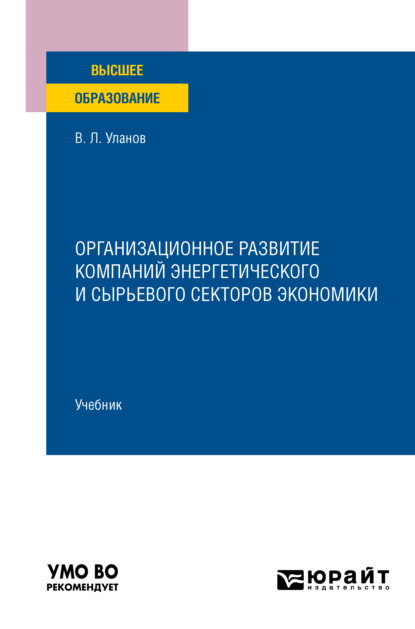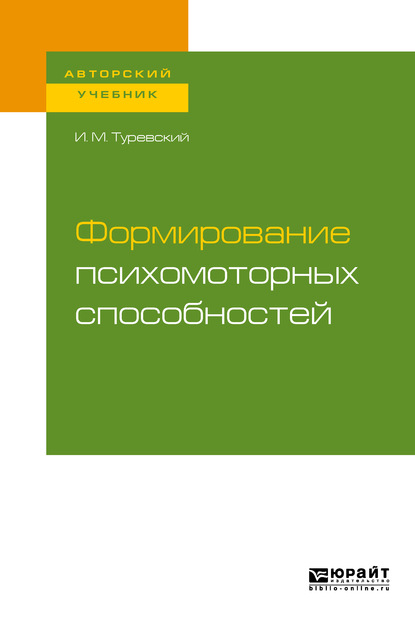- -
- 100%
- +

Глава 1
Пепел падает так тихо, будто кто-то трясёт серое покрывало над землёй. Он ложится на ресницы, на расселины в обугленном брусе, на распоротые крыши, на лезвие моего ножа. Пахнет мокрой золой и железом – общий запах всякой бойни. Я дышу коротко и поверхностно, чтобы не закашляться, и всё равно горло дерёт, как наждаком.
– Лисса… – тянет кто-то за подол. – Он истекает…
Мальчишка, бледный, с пеплом на лбу, показывает туда, где на лестнице бывшего амбара лежит мужчина, у которого половина ребер будто нарисована снаружи. Я ничего не отвечаю, кивок, ладонь на его плечо, чтобы отошел и опускаюсь на колени. Сухожилия в моих пальцах щёлкают от переутомления. С утра я не ела. С позавчерашней ночи не спала.
Я кладу левую ладонь чуть ниже грудной клетки раненого, правую ему к виску. Слышу свою кровь в ушах. Слышу его. Боль всегда звучит, у каждого свой тембр. У этого человека рваная, мясная, с металлическим привкусом в языке. Я втягиваю воздух и впускаю. Тепло, липкое и тяжёлое, как расплавленный воск, течёт ко мне под кожу. Из глубины живота поднимается тошнота. На секунду мир плывёт.
– Терпи, – говорю ему и себе.
Слепляю края разошедшейся плоти, стягиваю сосуды. В какой-то момент меня начинает трясти от слабости, от того, что его раны, судороги, страх проходят через мои нервы, но я довожу дело до конца, как учила мать: «Закрой, что открыл, и отпусти, что принял». Закрываю швом, который больше похож на тонкую линию, чем на нитку. Отпускаю боль в землю, под колени, в эту грязную, обожжённую, но всё ещё живую землю.
Он дышит. Слава богам, дышит.
Меня тоже мутит, но я сжимаю зубы и встаю. Дальше – девочка с жутко вывернутым локтем. Рот её в сизых отпечатках, должно быть, ягоды крала ещё до набега. Я одной рукой поправляю сустав, краем рукава вытираю ей щёки. Она всхлипывает и молча кивает.
– К реке, – говорю мальчишке. – Воды чистой принеси. И возьми у тётки Варены бутыль с уксусом.
Он уносится, как ошпаренный. Я слышу, как где-то гремят котелки, как кто-то ругается на Яровита за то, что он «опять полез не туда». Слышу тихие молитвы, которые произносит соседка, качая пустую колыбель. Слышу хруст, кто-то наступил на стекло. И поверх всего слышу своё собственное сердце: тук, тук, тук. Слишком громко, быстро. Я знаю этот ритм. «Не перегни, – сказала бы мать, если б была жива. – Накапливай магию, как пруд, и сливай вовремя. Иначе потонешь».
Я сажусь на бревно, на секунду прижимаю лоб к коленям и считаю до семи. Счёт – единственное, что возвращает меня в тело, когда чужая боль продолжает плавать под кожей. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ладно. Я ещё держусь.
Сбоку пахнет горелым мёдом – это у кого-то в доме сварился запас. Я мазком взглядом отмечаю: там живы, вон там поздно, тут можно вытянуть, только быстро. Иду. Делаю. Пальцы в крови, то моей, то чужой – разницы мало.
Когда я наклоняюсь над подростком, вижу, что у него шея зажата между брусом и лестницей, и глаза выпирают из орбит. В груди что-то взвизгивает тонко, будто я случайно наступила на невидимую струну. Тональность боли меняется вокруг, и я чувствую… Не эти десятки тел, что рядом, а чужое. Дальнее.
Я замираю, как собака, поймавшая след. Снимаю брус, освобождаю шею, ставлю пальцы на позвонки… раз, два, позвоночник встаёт на место, мальчишка кашляет, воздух с визгом ломится в лёгкие. Он жив, но моё внимание уже не с ним.
Боль откуда-то не отсюда.
У каждой боли есть запах. Трактирщик, когда я это сказала, ржал, пока не увидел, как я вытянула его жену из послеродовой. Но я правда чувствую: у ножевой – железо и мышиная сырость, у огня – смола и горький сахар, у перелома – мокрый лед. А это… Это как горячая ртуть. Как гроза в сухом небе. Как глина, которую поставили в печь и забыли. И эта боль зовёт меня по имени.
Не голосом, а как поток воды под рыхлым берегом. Отзовись, Лисса, отзовись.
– Куда? – спрашиваю я вслух, и сама же себя одёргиваю. Чёрт. Я и так на тонкой нитке жизни. Силы иссякли уже давно и я рискую встретиться с матерью слишком рано.
Я оглядываюсь. Вокруг – наша деревня, которую я знала на память. Теперь она как лицо старика, исполосованное морщинами и ожогами. Огород с трёхлистником, где мы с матерью когда-то прятали сушёные корки в банках. Плетень, опавший, как усталые плечи. Колодец – с потрескавшимся воротом. Дальше – просека, туда, где начинался пепельный лес. Если идти по ложбине, выйдешь к старой глиняной яме, её давно забросили, после того, как теневые прокляли наши горны. Там никого не бывает.
А зов тянет туда.
Я провожу ладонью по лицу, пепел размазывается серыми разводами. Беру из сумки бинты, пузырёк настойки и крохотный мешочек на случай, если придётся применять более сложное заклинание. Я не люблю когда приходится выжимать себя как тряпку, чтобы кого-то спасти. Подзываю мальчишку:
– Я на час отойду. Ведро воды на тех троих у завалин. Варене скажи: пусть греет котёл, я вернусь.
– Одна? – он трёт нос кулаком. – Там… страшно.
– Я тоже страшная, – говорю и улыбаюсь. – Смотри, как зыркну и ты перестанешь дышать.
Он храбро фыркает. Я не добавляю, что сама дрожу изнутри, там, где живёт слабость, которую никому показывать нельзя. Если я уйду, а вдруг кому-то станет хуже? Если я не уйду, а вдруг то, что зовёт, умрёт, и я буду слышать молчание всю ночь? И буду винить себя, что не посмотрела, не спасла.
Я иду. Пепел под ногами скрипит, как снег. Воздух горячий, как будто лес всё ещё тлеет. В просеке неожиданно тихо. Где-то в стороне щёлкает от жары камень. Птицы молчат. Даже сороки, эти язвы, – молчат.
Ложбина идёт вниз, запах меняется от деревенского к лесному: горьковатые травы, сырая глина, чуть-чуть застарелой плесени там, где вода стояла весной. Я знаю каждый корень, о который можно запнуться, и всё равно спотыкаюсь, потому что внутри у меня словно пропали ориентиры. Боль зовёт всё сильнее. Лёгкая дрожь идёт по позвоночнику.
Я выхожу к глиняной яме.
Когда-то здесь копали глину для горшков. Теперь осталось грязное, заросшее место. По краям остекленевшая от жара корка. И посреди всего лежит тело. Сначала я вижу только пятно цвета обугленного дуба. А потом всю фигуру.
Юноша. Нет. Мужчина. Чуть старше меня или… просто другой породы. Длинные, в пепле волосы, тёмные. Плечи широкие, слишком широкие для того, чтобы лежать так беспомощно. Грудь поднимается редко-редко, как будто кто-то качает меха в кузнице. Кожа покрыта ожогами, но местами гладкая, как отполированный камень. А на груди… я вижу это и сначала думаю, что у меня поехала крыша.
Под кожей шевелится рисунок.
Не просто клеймо. Тонкая линия, как подплавленный золой шрам, очерчивает голову и спину дракона. В момент вдоха он сворачивается кольцом, в момент выдоха вытягивается, будто хочет сорваться из-под кожи и выпрыгнуть мне на ладонь. На мгновение мне кажется, что он поворачивает морду ко мне. Глаза чёрточки глядят. Меня бросает в холод.
На ключице совсем другое клеймо. Грубое, обожжённое, с рваными краями. Знак, который я видела в трактирной книге, потому что староста требовал его запомнить. Клеймо изгнанника. Так метят тех, кого нельзя приютить, к кому нельзя прикасаться, кого нужно выдавать Ордену без разговоров, если хочешь, чтобы твоё поле весной взошло.
Я чувствую, как сжимается живот. Каждая жилка во мне знает, что правильный шаг – уйти, сообщить ордену, отвести глаза. Богам виднее, кому жить.
Правильный шаг? Когда это я делала «правильно»?
Присаживаюсь рядом, притрагиваюсь тыльной стороной ладони к его щеке и отдёргиваю пальцы, едва не вскрикнув: жар, как у раскалённого железа. Воздух над его грудью дрожит, как над кузнечным горном. Я разрываю подол, смачиваю ткань водой из фляги и накрываю ему шею, плечи. Ткань шипит. Запах не просто огня, в нём есть что-то острое, как смола, перец, и сладковатое, как кардамон в мёде. Я во рту чувствую пепел, вкус острее, чем у других.
– Кто ты? – шепчу, хотя он не слышит.
Губы потрескались, на нижней кровь, но не запёкшаяся. Значит, он не так давно здесь.
Я кладу ладонь ему между ключицами. Огонь отзывается, как зверь, которого приласкали. Я неосторожно открываюсь, принимаю первую волну. Она ударяет в меня так быстро, что я чуть не падаю. Боль кипящая, не как у обычных ожогов. Это не кожа кричит, а что-то глубже. Будто само сердце заживо подсушили. Будто каждая клетка пытается воспламениться изнутри, и я слышу треск своих собственных костей и едва не ору, глотая воздух.
Я хватаюсь пальцами за его плечо, больно! И снова, уже крепче прижимаю ладонь к его груди. Дыши, сволочь. Дыши.
– Дыши! – срываюсь на голос, которого мне обычно хватает только внутри. – Не вздумай сгореть у меня под рукой, слышишь?
В ответ только едва заметная вибрация, как будто в глубине его груди пульсирует что-то, чему плевать на мои слова. Я злюсь. На него за то, что тяжёлый и горячий, как уложенный в печь булыжник. На себя за то, что уже стащила с него часть огня и теперь снова лезу, как дура. На всю эту землю за то, что она требует от меня больше, чем у меня есть.
Я забираю ещё. И ещё. Стелюсь по нему, как вода. Как мокрая глина, которой заделывают щели в печи. Проталкиваюсь внутрь, туда, где обычно не пускают ни чужих, ни своих. Вижу ничего, только изнутри вспыхивающий белый свет, как раскалённая кромка ножа, и слышу гул. Низкий. Вибрация идёт мне в рёбра, в зубы, в кости таза. Руки дрожат. Нос пульсирует остро, как перед носовым кровотечением, и правда тёплая капля шлёпается на его плечо. Я смахиваю локтем и продолжаю. Потому что, если остановлюсь он умрёт. А если не остановлюсь… умру я.
– Ну давай, – шепчу уже почти ласково, – я заберу у тебя кусок ада, а ты возьмёшь у меня кусок жизни и вернёшь его дыханием после. По рукам? По рукам, золотой. Живи.
Где-то на краю сознания я слышу, что треснуло дерево. Воздух вокруг становится плотным, он как будто прилипает к коже. Я чувствую, как по позвоночнику пробегает холод, и мысленно ставлю заслон иначе меня просто зальёт его огнём.
– Лисса… – слышу где-то под ухом, изнутри.
Я вздрагиваю и на секунду теряю фокус. Живой знак на его груди дёргается под кожей и, кажется, растёт. Я прижимаю ладонь сильнее, почти болезненно, и он впервые вздыхает глубже. Грудная клетка приподнимается.
– Вот так, – выдыхаю я. – Ещё.
Я отрываю ладонь. Мир двоится. Кожа у меня на запястьях красная от ожога.
Проверяю пульс на его шее – он есть. Неровный, как шаг пьяного, но есть. На секунду мне хочется просто завалиться рядом в пепел и тупо смотреть в небо, где нет ни одной птицы. Но мозг, дрожащий и злой, выдаёт список: еще воды, чтобы убрать жар, бинт на раны.
Я стягиваю с него обгоревшую ткань, что-то вроде куртки и отбрасываю в сторону. Клеймо изгнанника на ключице чернеет, как свежий уголь. Меня пробирает по спине. Я слышу голос старосты: «С такими не связываться. Таких выдать. Таких не жалеть». А у него грудь под моей ладонью всё ещё тёплая. У него ресницы слиплись от пепла. У него шрамы, которые не от огня, а от верёвок и железа.
– Я не святая, – говорю ему. – Просто умею терпеть. Ты – умеешь?
Я накидываю ему на плечи свой плащ полы мокрые и прохладные, хоть так. Пытаюсь приподнять. Он тяжелее, чем кажется. Я ловлю его под руки, шиплю от боли в ладонях, тяну, ползу, ругаюсь шёпотом, чтобы не потратить лишний воздух. Сдвигаю на пару локтей в сторону, туда, где меньше глины и можно будет перетащить на плащ и волоком. Спина влажная от пота, волосы лезут в глаза.
Он шевелится.
– Эй, – наклоняюсь так близко, что почти касаюсь губами его уха, – не надо умирать, слышишь? Я уже влезла туда, куда не должна. Сделай мне одолжение, дыши.
– Лисса, – повторяет он. Он не открывает глаза – ещё нет. Но губы шевелятся, и звук – прорезает меня от груди к горлу. – Лисса…
Я не говорила ему своё имя. Никто не говорил. Здесь никто не знает меня так близко, чтобы звать ласково. Здесь я либо «ведьма», либо «целительница», либо «эй, ты». А он, лежащий в глиняной яме с клеймом изгнанника, с живым драконом под кожей шепчет его, как будто уже звал тысячу раз.
Жар на миг уходит из моей груди и возвращается обратно, как волна. Небо, серое от пепла, медленно плывёт.
Он открывает глаза.
Сначала это просто щёлки, слипшиеся, тяжёлые, чёрные от копоти. Потом два огня под стеклом. Не алые и не жёлтые, слишком странные, чтобы у них было простое название. Лето в сумерках. Закат, который задержали. Гладь расплавленного металла, на которой уже легла корка. Они смотрят не на меня и через меня. А потом фокусируются. И я чувствую, как что-то во мне, давно и тщательно залатанное, рвётся по шву.
– Лисса…
Сердце делает лишний удар. Мой голос – чужой, когда я спрашиваю шёпотом:
– Откуда ты знаешь моё имя?
Ответ не приходит. Только огонь в его взгляде дрожит как языки пламени, когда в кузне распахивают задвижку.
Глава 2
Дом на окраине пахнет тем, чем всегда пах: сушёными травами, золой от старой печи и водой из колодца, которую я почему-то различаю по нотам, как песню. Здесь легко дышать – обычно. Сегодня воздух не слушается. Он то густеет, то делается острым, будто в нём мелкая слюда, – потому что я притащила к себе то, от чего весь посёлок старательно отворачивал бы взгляд.
Я затолкала засов на двери, переставила лавку как подпорку, распахнула ставни ровно настолько, чтобы тянуло тягу к печи, и потащила тазы: холодная вода, теплая вода, чистая тряпь, лён, мази – всё на стол. Руки дрожат не от усталости, а от понимания, что делаю то, что нельзя. Меня за такое не то что лишат дара, а сожгут вместе с домом, если Ордену донесут.
Он лежит на моей постели, на том самом узком ложке, где я когда-то нащупывала рукой мать, проверяя, дышит ли ещё. Сейчас там чужое тяжелое дыхание, вязкое, будто через песок, и жар, от которого плохо от щёк до ключиц. Я выжимаю тряпку и снова на лоб, на шею, под ключицу. Ткань шипит, как паршивая гадюка, отлетает, я матерюсь сквозь зубы так, как матерятся только пьяные трактирщики.
– Слышишь меня? – наклоняюсь. – Это мой дом. И я не собираюсь в нём устраивать костёр. Так что… Дыши ровно, пожалуйста.
Ответа, конечно, нет. Я мажу лён мазью, поддеваю его обгоревшую рубаху и прикладываю повязки. Кожа у него… странная. Там, где нет ожогов, она крепкая, тёплая, гладкая до смешного. Я ловлю в себе мысль, как на крючок: красивая кожа, – и тут же рывком её вытаскиваю: не о том я думаю.
Когда я обмываю ему ладони, вижу мозоли не кузнечные или пахотные. Воинские. Короткие, плотные, на хватающих местах. Мне хочется задать сотню вопросов.
К вечеру жар падает с неистового до «обжечься можно, но не с первого касания». Пульс всё ещё скачет, но уже не как пьяный в драке, а как человек, бегущий в гору. Я прислоняюсь спиной к печи, стягиваю с рук мокрые бинты – мои ожоги уже едят кожу и требуют внимания – и на секунду закрываю глаза. Внутри меня тихо. Это самая страшная тишина – та, которая наступает, когда выплеснул из себя слишком много. В ней очень легко услышать то, что не хочешь слышать.
– Глупая, – говорю себе ровно. – Влезла. Привела. Сиди теперь на пороховой бочке и улыбайся.
Ближе к сумеркам он открывается резко, как будто кто-то отвёл засов изнутри. Сначала – короткий вдох. Потом – напряжение всего тела, будто струна и глаза. Они, как и в яме, не цвет, а состояние слегка остывшего металла. Он смотрит на потолок, на перекладины, на травы под ним, и на меня. Взгляд резкий, гордый, отрешённый, почти чужой, будто я не женщина, что спасла его, а просто ещё один предмет в комнате.
– Тебе не стоило меня спасать, – произносит он хрипло.
Голос у него низкий, рвано-охрипший, но красивый, чёрт бы его побрал. Ненужная мысль. Я ставлю кувшин обратно на стол, беру чистый платок, прячу дрожь в пальцах.
– Я не умею смотреть, как кто-то горит, – отвечаю. – Хотя, видишь, домов вокруг достаточно. Могла бы для разнообразия.
Он морщится. Не от боли, а от слов. Пытается приподняться на локтях. Я автоматически поддерживаю плечо. Горячо. До костей. Я взываю к остаткам самодисциплины, потому что тело хочет отдёрнуть руки и одновременно не отпускать.
– Где я? – спрашивает.
– У ведьмы, – говорю без улыбки. – В конце улицы, напротив колодца, через два двора от той злой тётки, которая взвешивает хлеб так, будто каждую крошку отдаёт из собственной печени.
Он моргает непонимающе. Хорошо. Я и не рассчитывала, что он поймет. Я перевожу:
– В моём доме. На окраине. Это значит, что если кто-то узнает, я первая сгорю. Ты второй.
– Надо уйти, – он болезненно поворачивает голову, взгляд цепляется за дверь. – Я не должен здесь быть.
Я слышу это «не должен» и едва удерживаюсь, чтобы не рассмеяться так, чтобы треснули банки с настойками. «Не должен» – прекрасная формула мира, в котором мы живём.
– Сначала вода, – говорю. – Потом суп и разговор. Потом уйдёшь и, возможно, не загоришься по дороге. Договор?
Он смотрит долго. В этом взгляде много всего: злость, усталость, покорность привычке не просить.
– Ты не понимаешь, – наконец бросает. – Со мной нельзя… рядом. Ты уже обожглась.
Я инстинктивно гляжу на свои запястья. Красные, блестящие, как рыбий бок. Больно? Да. Стоит ли оно того? Не знаю. Я кормлю его маленькими глотками: воду, настой с терпким вкусом (он морщится, но не спорит), потом жидкую похлёбку. Он ест медленно. Пальцы у него сильные, даже сейчас. Когда он забирает миску, костяшки на руках белеют, и я ненавижу себя за то, что замечаю, как он красив.
– Как тебя зовут? – спрашиваю, когда миска пустеет, а моё сердце, кажется, перестаёт отбивать барабанную дробь.
Он молчит. Я считаю вдохи. На девятом он будто договаривается сам с собой.
– Кайр.
Имя ложится в мою голову так, словно у него там заранее приготовили место. Я повторяю:
– Кайр.
И не знаю, почему от одного этого звука по спине катится цепочка горячих бусин.
– А тебя я знаю, – говорит он. – Лисса.
– Мы уже выяснили, что это пугает, – сухо. – Откуда ты узнал моё имя?
– Объяснения не помогут, – отрезает он. – Поможет дистанция и молчание. И чтобы ты не прикасалась ко мне. Я пламя, а ты то, что оно пожрёт.
– Поздно, – говорю. – Я уже прикасалась. И ты всё ещё здесь.
Он закрывает глаза. Перестилаю постель, поправляю подушку, проверяю повязки, упрямо, упрямо возвращая себе право касаться к нему.
– Ты из… – Я запинаюсь на слове, понижаю голос. – Из них?
Он не открывает глаз.
– Скажи слово, раз уж взяла на себя моё спасение.
– Из изгнанников, – выдыхаю. – Из тех, кого метят. Из огненной крови.
Он открывает глаза. Взгляд прямой.
– Да.
История, которая другим кажется страшной сказкой, для меня запах и вкус. Я почти вижу, как это было: после войны Орден поднял факелы и сказал, что «драконья кровь» зараза, проклятие, которое нужно отсечь. Клеймо, «знание» в массы: хочешь хорошей весны и урожая – не прячь таких.
– И что, – спрашиваю, не отводя взгляда, – правда всё, что говорят? Что вы горите изнутри, что вас нельзя касаться, что вы как топь: шаг и нет тебя?
– Иногда, – он едва заметно усмехается. – Иногда – да. Иногда – нет. Это… зависит.
– От чего?
– От страха. От гнева. От близости. – Он делает паузу. – От счастья тоже.
Слово «счастье» звучит так, будто это редкая трава, которую кто-то описал в книге, но сам не нюхал. Мне хочется протянуть ему веточку с запахом мёда и лета и сказать: вот оно. Но вместо этого я говорю по делу:
– Тебе здесь безопаснее, чем на улице. Днём никто не придёт: все заняты своими руинами. Ночью – хуже. Если начнётся… – Я ищу слово. – Приступ, то я рядом.
– И это худшая из возможных новостей, – хрипло. – Ты близко, и это значит, что ты первая загоришься.
– Проверим, – бросаю. – Я люблю эксперименты.
– Не шути, ведьма.
– Я вообще-то целительница, – бурчу, – но сегодня, видимо, и ведьма тоже.
Он криво усмехается. На губах трещинки. Я тянусь к баночке, мажу бальзамом, он дергается, но терпит. Его взгляд цепляется за мои руки, за ожоги и он морщится так, будто ему сделали больно.
– Это я?
– Ты, – киваю. – В глиняной яме ты был печкой. Я – дурой. Классический союз.
Мы молчим. За окном глухо шумит ночь, у нас на окраине ночи всегда слышнее, потому что меньше людей, больше земли. Где-то чирикает поздняя птица, где-то трескается от холода древесина. Я включаю лампу, маленькое пламя. Он смотрит на него с таким вниманием, будто это не огонёк, а целая жизнь.
– Спи, – говорю. – Если получится.
– Если не получится… лучше уйти.
– Если не получится – разбудишь меня.
– Нет.
– Да. – Я подтягиваю к кровати низкий табурет, ставлю рядом таз с водой, кидаю в него два камня – нагретые на печи, вода начинает теплеть. – Я не уйду в соседнюю комнату. Я сяду здесь и буду смотреть. Если начнёт полыхать буду тушить.
– Чем?
– Собой, – говорю и только после этого понимаю, как это прозвучало. Краснею, хотя какая к чёрту разница, если лицо у меня почти красное от ожогов. – Механизм примерно такой же. Я забираю огонь и отвожу его к земле.
Он смотрит на меня долго, как будто примеряет моё решение на свой страх, и хрипло говорит:
– Тебе не стоило меня спасать.
– Повторяешься, – отвечаю. – Через третье «не стоило» я начну взимать плату. Деньги, золото, серебро – всё подойдёт.
На этот раз он отвернулся, и я принимаю это как победу: он не спорит. Я сажусь на табурет, зажигаю ещё одну лампу, чтобы в комнате не было жестких теней, натираю свои запястья яичным белком и укрываюсь его плащом – он всё равно обуглен, но ещё держит тепло.
Ночь всегда тянется резиной. Первая часть длинная, липкая, в ней мысли цепляются друг за друга, как сорняки за подол. Я слушаю его дыхание. Слушаю свой пульс, он всё ещё слишком громкий.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.