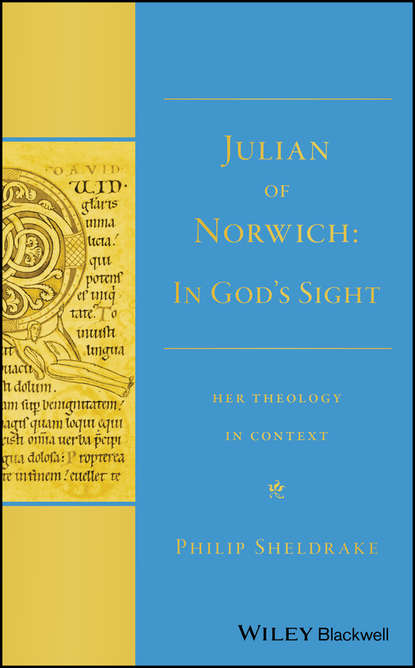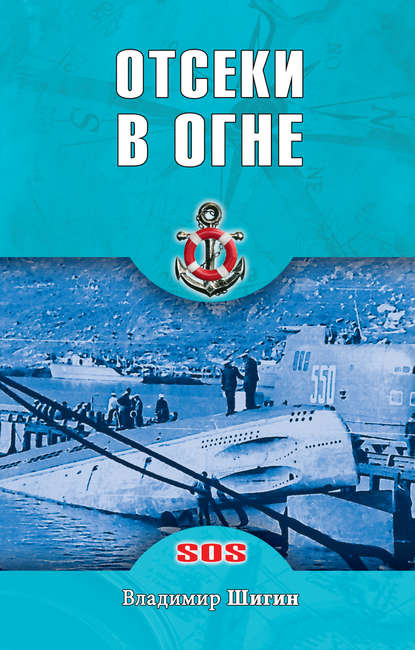- -
- 100%
- +
Апрель 2027
Со Светкой, дочерью, три года уже не общаюсь. Это ж надо было такое вытворить! Пришел Кирюшенька, меньший внук, пять лет ему тогда было, знает, у меня конфеты припасены. И как выдаст: бабушка, а когда ты умрешь?! Я тогда чуть со стула, где сидела, не сверзилась. Что ж ты, говорю, внучек, у бабушки такое спрашиваешь. А он мне: мама с дядь Гришей разговаривала, это хахаль ее тогдашний, говорит, вот умрет бабушка, мы ее квартиру продадим, себе больше купим. А мне, Кирюшенька говорит, комнатка новая будет, и место, куда игрушки складывать.
Я тогда Светке все высказала. Как так можно-то, ладно, Кирюшеньке пять лет, ничего не понимает, а у тебя совести ни капли, родную мать! А она мне, ты бы давно продала квартиру-то, к нам переехала, вместе бы жили, не так тесно. Ты одна, мол, в двухкомнатной, я в такой же с тремя детьми, помогла бы внукам-то. Да разве ж я виновата, что ты трех детей от разных мужиков прижила, а квартиру не нажила?! Мы с моим Сережей, земля пухом, честным трудом зарабатывали двухкомнатную, имею права, никому ничего не должна. Это дети должны родителям на старости помогать. Плюнула бы в лицо, не будь дочь! Слава богу, Сережа не видел, и то, небось, в гробу переворачивается. И в кого Светка такая у меня? Ума не приложу…
Тимофеевна, правда, про это ничего не знает. Не ее это, Тимофеевны, дело. Спрашивала, конечно, что это дочка заходить перестала. Чует, точно собака прям. Да я ей, ты мол, пойди, позаходи, попробуй, когда дома семеро по лавкам. Успокоилась, вроде.
Осерчала я тогда страшно. Семёну позвонила, сыну-то. Говорю, на тебя завещание перепишу. Он так серьезно: что случилось, мам? Не выдержала, рассказала. Головой только покачал. Что бы ни было, говорит, у тебя два ребенка – я и Светка. Все должно быть поровну. Дело твое, говорит, пиши, но я все равно все поделю. Отказался, в общем. Эх, не воспитала нормально! Рохля он у меня, Семён. Хоть и начальник уже, и жена у него есть, и внук мой, Серёженька. Весь в отца пошел, не в меня точно. Тот такой же рохля был. Говорю, бывало, бери, тебе ж положено. А он все по справедливости хотел…
Август 2027
Здоровье ни к черту. Я уж старалась, да все одно. Усталость постоянная, одышка. Ходить тяжко, не могу. Вроде слежу за сахаром, чай несладкий, печеньки соленые. Похудала даже. Думала, лучше будет, без лишнего веса-то, а тут меня еще прихватило. Тошнить начало, пару раз совсем выворотило. Семён примчался, к врачу отвез. Тот руками разводит, что ж вы, говорит, Марина Павловна, совсем себя запустили. Диагноз какой-то поставили. Я не запомнила, Семён все с ними больше разговаривал. Положили, в общем, лежать.
Тут еще вот какой случай произошел. Лежу, значит, в палате. Меня сначала в общую положили, на шесть мест, да я к главному врачу пошла. Это где ж такое видано, заслуженный пенсионер, ветеран труда, и наравне со всеми? Спорили, так я потом жалобу в администрацию написала. Поняли сразу, нашли все. Перевели кого-то, а меня – в нормальную, двухместную, значит, для ветеранов. Так вот, лежу, и заходит к нам батюшка. Если есть у кого потребность, говорит, при больнице открыта часовенка, а еще комната для моления, чтобы можно было обратиться к Богу.
Я, конечно, не верующая особо, но для здоровья лишним-то не будет. Дошла, смотрю, комнатка, алтарь перед иконой, столик в углу, за ним батюшка, а на столике свечки разные в стаканах стоят – потолще и потоньше. К батюшке обратилась, хочу, чтоб здоровье получше стало, вдруг Господь поможет чем, а то на врачей надежды особой нету уже. Как, говорю, лучше сделать, чтобы услышали меня, помогли чтобы?
Тогда мне батюшка все и рассказал. Свечку на алтарь поставить, да помолиться, вот Бог и услышит искреннюю молитву-то. Записочку за здравие, чтобы имя твое помянули в прошении. Какую свечку лучше, спрашиваю. Тонкие-то по сто, а толстые по двести. Толстым, наверное, приоритет есть? Батюшка улыбается. Нет, говорит, приоритета. Главное, молиться искренне. Ну, я тут все и поняла. Беру тонкую. Скидки, спрашиваю, есть ветеранам труда? Он так и обомлел. Нет, жмет плечами, перед Богом все равны. Как же равны? И бугай молодой, и я, столько лет честным трудом спины не разгибала? Да не может такого быть! Он на меня смотрит болванчиком, будто человека первый раз видит. Но я все же своего добилась. Протягивает мне еще свечку. Вот, возьми, говорит, дочь моя, бесплатно. Какая я ему дочь?! Хоть и в бороде, а я ж все раза в два постарше буду. Ну, да понятно, так принято. Свечку, однако, взяла. Бесплатно же.
Помолилась, свечки поставила. Записочку тоже заказала. Пятьдесят рублей, да мне свечку за сто бесплатно дали, получается, я пятьдесят рублей сэкономила. Хорошо. Лишний раз за здравие замолвят. Ходить, даже, вроде полегче стало. Рассказала Семёну. Он в церковь сходил, заказал ежедневный молебен на полгода. Дорого, правда. Напиши, говорю, лучше церковному батюшке жалобу, чтобы ветеранов труда бесплатно в молитвах поминали. Да он разве напишет… Серёжа, как есть мой Серёжа. Эх, жалко, в сыне моя кровь силу не взяла!..
Январь 2028
Полгода как из больницы, а лучше не становится. Зря Семён молебен заказывал. Тимофеевна говорит, если заказываешь не в церкви, а в часовенке, то молится простой батюшка, а не главный священник. Наверное, поэтому и не работает. Надо будет сказать, чтобы сделал все по-правильному.
Сердце шалить начало. Давление зашкаливает. Ходили с сыном к врачу, говорят, на фоне сахара. Тошнит все время, недели не проходит, чтоб не вывернуло. Ноги подкашиваются, голова, бывает, как пойдет ходуном, потолок и стены в комнате так и кружатся, кружатся… Сахар давно уже не в норме, и не привести его в норму-то. Колю инсулин. Вроде как помогает. Только от сердца инсулина нет. Сколько протяну, не знаю…
Апрель 2028
С дочкой помирилась. То есть, не помирилась, не разговариваю по-прежнему. Но приходит, внуков приводит. Видимся. Я в итоге Семёну так все и отписала. Не могу простить. Мое слово крепкое. А дальше сами, что хотят, пусть решают. Слупит Светка с брата долю свою, вот в чем не сомневаюсь. Да оно уж без меня…
Июнь 2028
Господи Боже! Всю жизнь тебя не вспоминала, и вот пришла. Чувствую, скоро время мое. Прими без боли, как Серёжу моего двадцать лет тому. Хуже мне, хуже. Врачи отворачиваются, Семён – и тот молчит, хмурый ходит. Понимаю я. Тебе сколько свечек поставила, сколько молитв заказала… Видимо, люди не те, батюшки не в почете у тебя, не слышишь ты их. Не смогли отмолить. Работают плохо. Да тебе виднее, ты им судья. Прими душу, знаешь ведь все. Столько лет работала, честь по чести, никого не обманывала, ветеран труда. Позаботься о Семёне и Свете.
Не обдели милостью своей…
Евгения Корелова
Цветок лотоса
Тонкой изящной девочкой с прозрачной кожей была Джиао. Высокие скулы ее, обещавшие с возрастом закаменеть, подпирали щелевидные глаза с ровными, словно подрезанными веками. Джиао была подвижной и непоседливой, что вызывало у матери беспокойство за ее будущее, и она часто восклицала:
– Джиао! Не бегай так быстро! Сиди спокойно! Почему ты опять танцуешь?
Пятилетняя Джиао не боялась матери, но старалась ее не волновать и сдерживалась, а волю себе давала, лишь играя в саду их большого дома. Убедившись, что ее никто не видит, кроме старой бабушки, уже несколько лет не покидающей кресла для калек, Джиао пыталась повторить движения, которые она увидела на картинках в старой маминой книге. Там была нарисована танцующая молодая девушка в красивом, длинном, разлетающемся воздушном платье. Рукава платья были так восхитительно широки и длинны, они спускались шелковыми волнами, сливаясь с пестрым струящимся подолом. Ее белые руки, похожие на тоненькие веточки сливы мэйхуа, частью утопали в роскошных рукавах, частью были обнажены и стремились к небу, венчаясь причудливым изгибом пальцев. Но самым восхитительным в танцовщице были ее крохотные ножки, обернутые нежной тканью. Сложно было представить себе, как девушка удерживается на таких ненадежных, хрупких стебельках. Джиао завистливо вздыхала над картинкой. Она очень испугалась, когда мать однажды застала ее за этим занятием. Но та не заругалась, а сказала только:
– Скоро и у тебя будут такие ноги, Джиао.
С тех пор Джиао упражнялась в саду, разучивая танец, домысленный ею из волшебства рисунков. Джиао возносила руки к небу, стараясь чуть повернуть стан и наклонить его, как на картинке. Она поднималась на цыпочки и скрещивала ноги, воображая, что скоро так же сможет танцевать и будет вызывать зависть у других, не столь талантливых и красивых девочек.
Юби, старшая сестра, и Дэйю, младшая, не видели ни разу, как танцует Джиао. Юби большую часть времени сидела в своей комнате, она не очень любила Джиао. Юби исполнилось шестнадцать, и ножки ее были крошечными, как у младенца, но не настолько, чтобы не беспокоится о красоте лица, не очень привлекательного. Если бы ноги Юби были безупречны, никто никогда не упрекнул бы ее за недостаточно тонкие черты. Джиао слышала, как мать говорила бабушке:
– Я сделала все, что могла, для Юби. Найдется ли человек, который ее выберет? Ноги грубые, Юби с ними намучилась. У меня больше надежды на Джиао. Ее ноги изящны, уже готовы для бинтования.
Вероятно, Юби тоже слышала мамины слова, поэтому невзлюбила Джиао и почти не замечала сестру. Младшая, Дэйю, которая только начала говорить, напротив, была общительной девочкой и тянулась к Джиао, часто украдкой обнимала и улыбалась ей.
Брат Донгэй был старше всех, в восемнадцать лет он полностью поглощен был делами отца и не разговаривал почти со своими сестрами, понимая, что пользы в семью они никогда не принесут и скоро покинут дом.
На пятую зиму Джиао получила подарок от родителей – туфли для ее прекрасных будущих ножек. Во всем мире не было красивее обуви для Джиао. Расшитые разноцветными дорогими шелковыми нитями, крошечные, не длиннее ладошки, с острыми носиками и небольшими изящными каблучками. Чудесные были туфли, и Джиао знала, что скоро начнет священную процедуру подготовки ног для счастливой жизни в браке с мужчиной. Мать часто с гордостью говорила свекрови, прикованной к креслу:
– Мы можем себе позволить для девочек хороших мужей.
Свекровь мелко кивала, но сложно было сказать – слышала ли она невестку. Много лет она надменно приказывала жене сына, помыкала ею по своему усмотрению и прихоти. Но однажды настал роковой час: пожилая женщина вдруг перестала вдыхать воздух, сделалась лиловой, и глаза-щелки, всегда недобро следившие за невесткой, вдруг необычайно округлились и вытаращились на одну точку, словно увидели что-то важное. В тот же миг свекровь упала замертво, а когда очнулась, не могла больше говорить и стоять на ногах.
Мать, беременная Джиао, быстро сменила свекровь у власти, взяла руководство домом в свои руки. Став новой хозяйкой, она усадила свекровь в кресло и наняла женщину ухаживать за парализованным старческим телом, два раза в неделю очищать его от испражнений. Ни разу мать не припомнила старухе прежние обиды, много теперь разговаривала с нею, потому что лучшего слушателя сложно было себе представить.
Вместе с туфлями Джиао получила в подарок собственный стульчик для процедуры, и мать нашла возможность и ей нанять прислугу для ухода на первые месяцы. Еще она потратилась на мастерицу по бинтованию из дунганского народа, которая плохо говорила по-китайски, сама была простоволоса, не забинтована, но славилась своей работой, пользовалась уважением и доверием во всей округе. Мать решила оплатить ее недешевые услуги, так как со старшей она попала впросак – сама бинтовала ноги дочери и не справилась, что обернулось несчастьем для Юби.
Джиао подходила к своему стульчику, когда никто не видел, и с интересом разглядывала его. Он был из черного красивого дерева, с высокой спинкой и специальными ящичками, в которых лежали блестящие ножницы и еще какие-то диковинные инструменты, тряпочки и таинственные бутылочки. Всем своим маленьким колотящимся сердцем Джиао чувствовала приближение новой прекрасной жизни.
Мать высчитала по календарю благоприятный день начала бинтования. Коренастая дунганка пришла в их дом молча, опустив глаза. Джиао с радостью прибежала из сада на зов матери. В комнате, в углу, рядом с высоким стулом, мать поставила два небольших корытца, одно пустое, второе с водой, разложила много матерчатых полос, еще какие-то склянки с лекарствами. Дунганка принесла с собой сумку, в которой тоже были принадлежности для процедур. Она достала большую бутыль с вишневой жидкостью и протянула матери, сказав на ломаном китайском:
– Разогреть!
Мать засеменила с бутылкой на кухню. Джиао по знаку женщины уселась на стул и протянула ей правую ногу. Та выудила из сумки плотный непромокаемый фартук, надела его, завязав крепко на спине, села перед девочкой на низкий стульчик и приняла ее ножку себе на подол. Она гладила ступню Джиао своими сухими крепкими пальцами и удовлетворенно покрякивала. Видимо, ей нравилось строение ноги, и она предвкушала удачную процедуру. Мать задерживалась, и дунганка начала тихо бормотать незнакомые слова, значение которых Джиао не могла разобрать, но быстро поняла, что слышит чужую мусульманскую молитву. Гортанная речь дунганки немного напугала ее, но тут вошла мать, с разогретой бутылкой в руках, и женщина сразу смолкла. Она взяла бутылку у матери, вылила красную жидкость в пустое корытце. По комнате распространился сладковатый незнакомый запах, и девочке стало нехорошо. Дунганка поместила правую ногу Джиао в корытце с кровью и начала омывать и с силой разминать ступню девочки. Движения ее были умелыми и приятными, Джиао понравилось таинство. Она с радостью подумала, что все опасения матери были напрасными. Мать говорила – девочка должна будет терпеть и надеяться, что ножки ее превратятся в цветки лотоса, и тогда хороший муж возьмет ее себе, обеспечив на всю жизнь. Массаж ступни был абсолютно безболезненным, и Джиао с гордостью посмотрела на мать, пытаясь молча поделиться с ней радостным моментом.
Дунганка закончила разминание и переместила распаренную ногу Джиао в корытце с чистой водой, отмыла, осушила тканью и обработала прозрачным раствором из другой бутылки. После она вылила в корытце с кровью зеленоватую жидкость из третьей бутылки и замочила в получившемся растворе хлопковую материю. Пока бинты отмокали, дунганка аккуратно и очень коротко подрезала ногти Джиао, что было уже немного неприятно. Вынув замоченную ткань и тщательно отжав ее, женщина приступила к бинтованию. Она крепко зажала ногу Джиао своими бедрами, затем одной рукой согнула все пальцы, кроме большого, и прижала их к подошве. Девочка испуганно вскрикнула, но ногу отнять не смогла. Дунганка быстро и методично, второй рукой, начала наматывать на скрюченную ступню пропитанные бинты. Джиао заплакала от боли. Мать резко бросила в ее сторону:
– Будь взрослой, Джиао! Это все делается для тебя, будь благодарна!
Джиао не могла пошевелить ногой, сжатой сильными бедрами дунганки. Она понимала, что выдергивать ногу нельзя ни в коем случае, но боль становилась все сильнее, и слезы сами текли по щекам.
–Джиао! – услышала она возмущенный оклик матери.
Дунганка, надо сказать, не медлила, она уже закончила бинтовать пятку, закрыв полностью тканью всю стопу девочки, и пришивала концы бинта для пущей крепости. Одна нога была готова. Джиао не могла вздохнуть от боли, она стиснула зубы как можно сильнее и молчала. Но, когда дунганка взяла ее левую ногу и поместила в корытце с кровью, куда перед этим добавила горячей воды, Джиао не выдержала и заплакала навзрыд. Тогда мать начала рассказывать Джиао о том, какой мужественный и красивый будет ее муж, как он будет любить тонкие крошечные ножки Джиао, как соблазнительно они будут выглядеть в ярких маленьких туфельках. Еще она пообещала, что купит Джиао еще несколько пар. Девочка плакала, не останавливаясь, но сопротивляться не думала и дала дунганке завершить все процедуры и с левой ногой. Закончив, та быстро собрала свои причиндалы в сумку, получила оплату и ушла.
Девочку подняла на руки служанка и отнесла в постель. Боль в забинтованных ступнях была тупой и начала расти. Джиао плакала, боясь даже пошевелить ногами. Она отказалась от чая, принесенного служанкой. Всю ночь Джиао не сомкнула глаз. Один раз она заплакала в голос и навлекла на себя гнев матери. После девочка старалась сдерживать рыдания, направляя их в подушку. Но под утро боль стала невыносимой, и когда снова прибежала рассвирепевшая мать, Джиао начала умолять ее снять бинты. Она не стеснялась своих слез, пыталась разжалобить. Но вышло обратное: мать с размаха несколько раз вытянула Джиао по спине, и девочка поняла, что послабления не будет. Мать вышла на кухню и что-то повелительно сказала служанке. Та через несколько минут принесла чашку с теплой, резко пахнувшей жидкостью и заставила Джиао выпить. Жидкость обожгла горло, Джиао закашлялась и с трудом сделала пять-шесть глотков. Скоро ее сморило. Когда девочка проснулась через пару часов, служанка принесла туфли – нужно было начинать ходить.
Дунганка появлялась через день – снимала бинты и обрабатывала ноги Джиао квасцами и другими травяными настоями. Каждый раз новая перевязка делалась все туже. Ежедневно девочку заставляли ходить какое-то время в маленьких туфельках, которые натягивали на ее забинтованные ноги. Передвигаться в таком состоянии Джиао могла только по сантиметру, семенящими шажками. Мать подбадривала девочку, обещала, что скоро походка ее станет как у прелестной дамы из высшего общества, а бедра от постоянного напряжения нальются кровью и приобретут чарующие формы.
Джиао научилась плакать в одиночестве, когда никто не видит, иначе ей грозил материнский гнев. Через три недели, несмотря на то, что бинтование начато было в зимнее время и в правильный лунный день, случилась неприятность. Второй и третий пальцы правой стопы стали красными и немного набухли. Дунганка сменила бинты, обработала все квасцами и сказала с сильным акцентом, что скоро будет нагноение. Джиао не знала, что она имеет в виду, но боль в правой ноге стала сильнее. А когда через пару дней дунганка легко убрала отслоившиеся от гноя ногти, девочке полегчало. Мать радовалась, что на этот раз наняла знающую работницу – у Юби пять лет назад нагноение перешло на пальцы, и они омертвели, потом воспаление перекинулось на ногу, и несколько недель никто не знал, сохранится ли у девочки нога и останется ли она в живых. Это было, по сути, одно и то же: одноногая Юби мертвым грузом легла бы на плечи родителей.
Джиао лучше справлялась с процедурами, и уход за ней был более умелый. Заживление шло почти без неприятностей, что предвещало хороший результат. Даже переломы косточек, позволяющие сделать ступни почти идеальными, прошли у Джиао удачно, заставив ее пострадать совсем недолго.
Через год Джиао уже потихоньку, мелкими шажочками, передвигалась по саду. Ноги ее были обуты в разноцветные чудные туфельки с острыми носами, и личная служанка была больше не нужна, тогда как Юби первые два года могла передвигаться только с поддержкой помощницы. Да и сейчас сестра редко вставала со своей кушетки, словно ожидая, когда ее переложат на свадебный паланкин и отнесут в дом мужчины.
Однажды Джиао застала старшего брата у приоткрытой двери в комнату Юби.
–Что ты здесь делаешь? – спросила она.
Донгэй дернулся от неожиданности и резко повернулся к девочке.
– Не твое дело! – грубо рявкнул он и быстро пошел по коридору.
Джиао восемь лет, но она уже понимает, что могло привлечь юношу к дверям обездвиженной девушки. Юби обычно сидела на плетеной кушетке в углу и вышивала или просто смотрела в окно. Ножки ее в крошечных туфельках были вытянуты и хорошо видны. Джиао знала, что нет объекта желаннее для молодого мужчины, чем девичьи ножки-лотосы, обмотанные тканью. Она ощутила телесный жар Донгэя, когда он сбегал после томительного разглядывания таких близких и в то же время недоступных цветков.
Иногда Джиао смотрит на веселую Дэйю, которая бегает по саду, и радуется детской свежести и непосредственности. Однако себе она не может позволить быть такой несмышленой. Наступает девятая зима Джиао, и деревья в саду чуть припудривает снегом, а бабушку уже не выкатывают в кресле во двор, чтобы та не простудилась. Джиао сидит в своей комнате с вышивкой, боль в ногах уже не так сильна. Боль стала как добавочный орган, нужный для будущей жизни. «Я – сад, – думает девочка, – а боль – это деревья в саду. И сейчас деревья совсем голые, но красивые из-за снега, а весной каждая веточка выпустит нежные лепестки, и сад так и останется красивым и живым. И весной, и летом, и осенью. Я – сад, а деревья – это моя боль. И без деревьев сада не будет».
Джиао знает, что сегодня важный день для Дэйю. Смутно слышала она про восстание дунганского народа, которое началось в провинции. Это мало волнует Джиао, двери ее дома закрыты для посторонних, и она не задумывается о том, что происходит на соседних улицах. Знает только, что женщина, бинтовавшая ей ноги, спешно покинула Юньнань и уехала в далекую неведомую страну под названием Россия. Самой лучшей бинтовальщицей она была на родине Джиао, а теперь пришлось найти другую. Джиао слышит громкий плач Дэйю из другой комнаты и резкий окрик матери:
– Прекрати немедленно!
Джиао радуется. Скоро Дэйю станет настоящей женщиной, как и она сама.
Евгения Костинская
Бабушка
– Ты пойдешь со мной? – Вадим Андреевич быстро глянул на жену. Александра Львовна, Алечка, сидела, поджав ноги, на диване, одной рукой придерживала толстый, медленно перелистываемый том, а другой стирала со стакана выступавшую испарину. Лед бултыхался в стакане и воевал с долькой лимона.
– С меня и прошлого раза хватило, нужен перерыв, – она еще секунду задержалась на странице и посмотрела на мужа. Футболка, которую он занес уже над головой с продетыми в рукава руками, обмякла и повисла. Он продолжал так стоять, полуголый, глядя на Александру Львовну и одновременно сквозь нее.
– Это же твоя бабушка, в самом деле. Возвращайся скорее, сходим, прогуляемся вечером. Не забудь для нее халат, в пакете, рядом с вешалкой лежит.
Вадим Андреевич резко надел футболку. Взял со стола наушники, подключил, вставил в уши. Мысли смазались и отступили за забор басов.
Идти было недалеко. Даже близко. Пыльный раскаленный асфальт. Помятая к концу лета зелень. Вечно кричащие в парке дети. Мои так орать не будут. С чего им орать? Он повернул на знакомую с детства улицу. Старый помпезный дом в тусклой лепнине задыхался и ждал вечера. Он выключил музыку.
На детской площадке у дома звенел мяч. Перед подъездом, как охрана, восседали старухи. Когда стал приближаться, они замолчали и уже не отрываясь следили, и он шел, как атлант, под ношей их сплетен.
В подъезде было прохладно. Пахло супом и плесенью. Он подождал лифт, посмотрел, как красный огонек обещающе замигал, и двери надсадно, по-стариковски, открылись.
– Вадик, внучок, наконец-то! – Нина Сергеевна ждала его, быстро открыла дверь, и, открыв, придержала, не отпуская, и за Вадиком сразу захлопнула, повернула два раза ключ и до упора задвинула шпингалет. И уже затем развернулась полностью к внуку.
Загар неровно запекся на лице, не проникая вглубь морщин. Как будто поправилась. Она была маленькая и кругленькая. Круглое лицо с высокими скулами, круглые щеки, и за ними бесцветные маленькие глаза, такие же, как у Вадика. Он тоже еще недавно был почти круглый и теперь изо всех сил старался стать другой геометрической фигурой.
– Вот, смотри, я тут вам ягодок привезла.
На полу ждали приготовленные сумки. В каждой теснились разрезанные пластиковые бутылки, наполненные черной смородиной. Тара стояла плотно-плотно, в два этажа. Нина Сергеевна хотела быть полезной.
– Бабушка, да не нужно было столько на себе везти.
Говоря «бабушка», Вадим Андреевич делал голосом небольшой нажим и проглатывал слоги, так, что получалась «баушка», и даже короче. Как произносил в детстве. Это выходило немного искусственно, но он все равно продолжал так говорить. Ему казалось, это должно придавать его словам что-то мягкое, послушное, чего давно не было. Он думал, что бабушке это должно нравиться. А она привыкла, и почти не замечала.
– И вот, это тебе Аля передала, халат.
Нина Сергеевна осторожно взяла пакет, заглянула, как в колодец. Там был хлопковый цветастый халат, на молнии, удобный.
– Это, наверное, Аля себе купила-та, но ей не подошел, и она мне отдала. Спасибо передавай, – бабушка понесла халат в комнату, разложила на диване. Стояла, разглядывала, не поворачиваясь к внуку. Чувствовалось, как она ждет ответной реплики, и ожидание быстро скапливалось и начинало звенеть.
– Ты бы посмотрела, какой размер, Алю можно два раза в него обернуть.