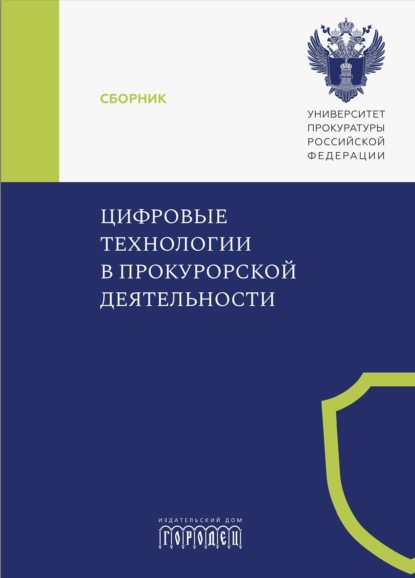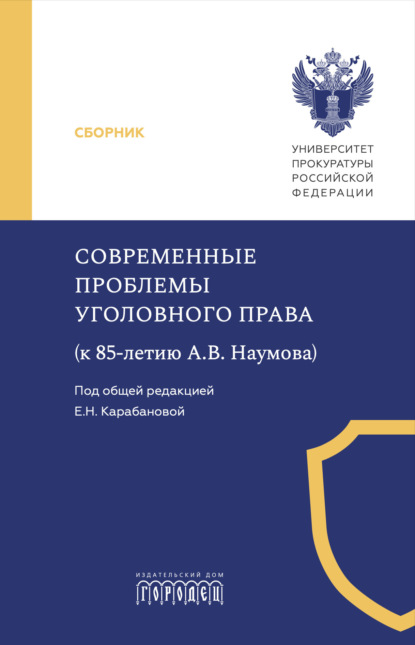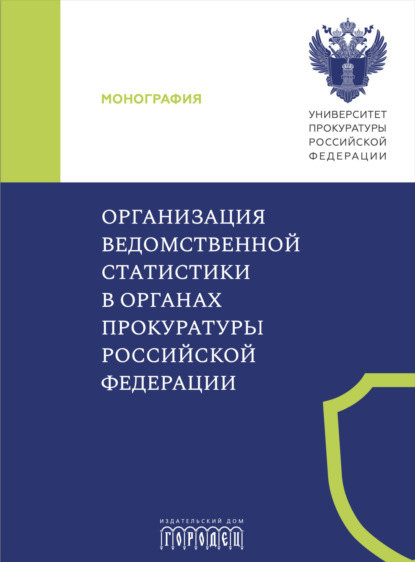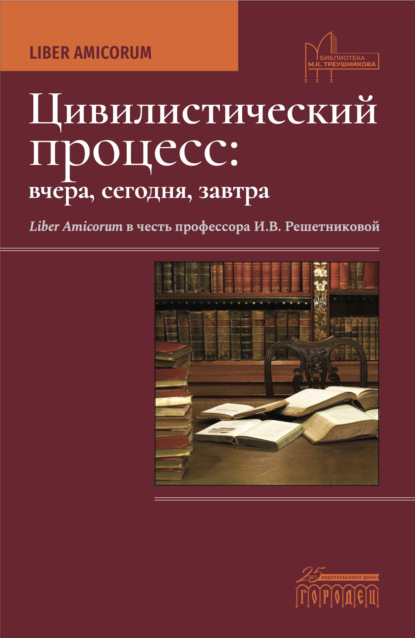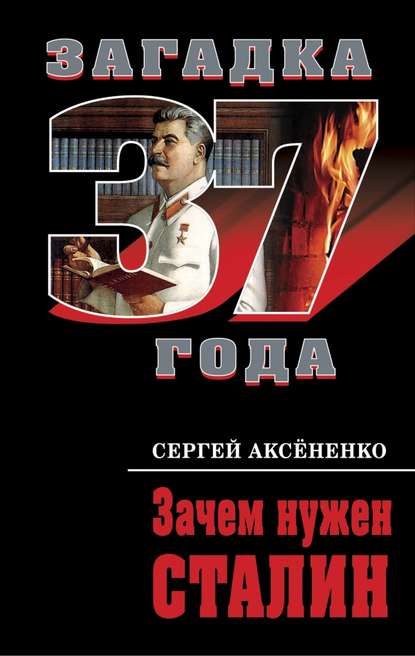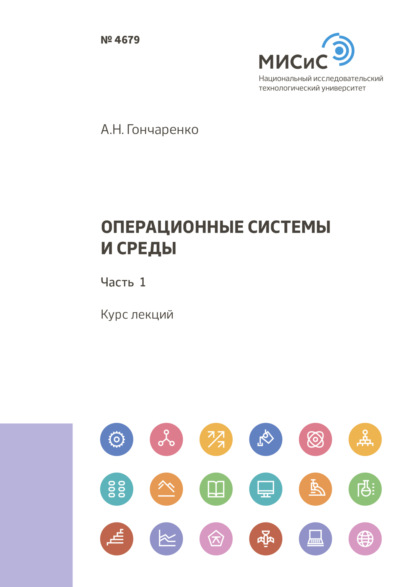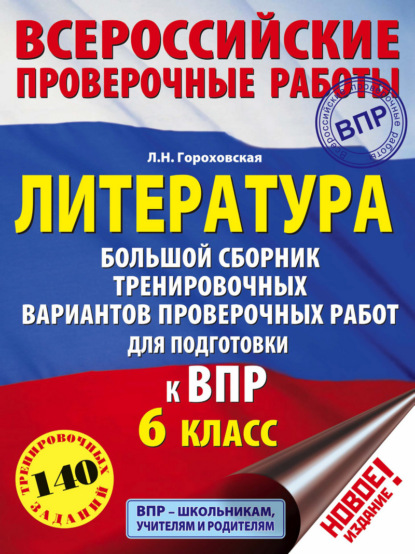Правосудие в современной России. Том 1
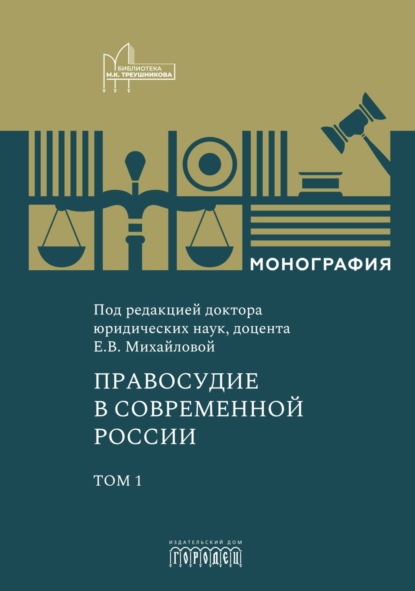
- -
- 100%
- +
От души благодарим всех научных сотрудников Института государства и права Российской академии наук, принявших участие в этой работе: судью Арбитражного суда города Москвы в отставке, доктора юридических наук, доцента Василия Андреевича Лаптева; судью Арбитражного суда города Москвы в отставке, доктора юридических наук, профессора Сергея Юрьевича Чучу; судью Суда Евразийского экономического союза в отставке, доктора юридических наук Константина Леонтьевича Чайку; советника судьи Суда Евразийского экономического союза, доктора юридических наук Екатерину Борисовну Дьяченко; доктора юридических наук, профессора Сергея Федоровича Афанасьева; доктора юридических наук, профессора Сергея Борисовича Россинского; доктора юридических наук Наталию Валерьевну Летову; кандидата юридических наук Нину Ивановну Соловяненко; советника отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Верховного Суда РФ, кандидата юридических наук Алексея Евгеньевича Солохина; кандидата юридических наук, доцента Анну Викторовну Пушкину; кандидата юридических наук, доцента Лилию Владимировну Борисову; кандидата юридических наук Константина Александровича Лебедя.
Между тем не будет преувеличением сказать, что при самых благоприятных условиях наша работа не состоялась бы без того неоценимого научного и общечеловеческого вклада, который внесла и в Институт государства и права Российской академии наук, и в развитие сектора процессуального права (ранее – сектор гражданского права, гражданского и арбитражного процесса) наш бессменный лидер и Учитель – доктор юридических наук, профессор Тамара Евгеньевна Абова. Благодаря ей мы, имея самые разные взгляды по самым разным вопросам, объединены общей научной основой, говорим на одном языке и – искренне надеемся – сохраняем одну научную школу и преемственность поколений.
И, несомненно, представленная вашему вниманию научная работа стала возможной только при полной поддержке директора Института государства и права Российской академии наук, члена-корреспондента Российской академии наук, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Александра Николаевича Савенкова, за что коллектив научных сотрудников выражает ему самую глубокую признательность.
Еще раз благодарю всех, чей научный труд лег в основу нашей книги. Надеюсь, что нас еще не единожды объединит совместная работа во благо нашего великого Государства и его многонационального народа.
С уважением, от лица всего
авторского коллектива,
Е.В. Михайлова,
доктор юридических наук, доцент,
член научно-консультативного совета
при Верховном Суде РФ
Раздел I
Концептуальные основы отечественного правосудия и его роль в жизни современного российского общества
Глава 1
Правосудие и судопроизводство в современной России: основные проблемы и перспективы совершенствования
§ 1. Правосудие в узком и широком смыслах
Российское государство обязуется осуществлять защиту прав и законных интересов человека и гражданина. Это прямо закреплено в ст. 2 Конституции РФ. Реализует эту обязанность судебная система России, а государственная деятельность по защите нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов называется правосудием.
Правосудие относится к числу фундаментальных категорий не только российской, но любой демократической, развитой правовой системы. Однако относительно соотношения понятий «правосудие» и «судопроизводство» среди исследователей нет единой позиции[1].
В научной литературе существуют различные трактовки термина «правосудие». Некоторые ученые предлагают под правосудием в широком смысле понимать деятельность не только судов, но и иных правоохранительных органов[2]. Есть точка зрения, в соответствии с которой в содержании правосудия следует выделять также судебный контроль[3]. С этим мнением следует согласиться, поскольку проверка нормативных правовых актов, а также актов, содержащих обязательное толкование норм действующего законодательства, сегодня входит в компетенцию как Конституционного Суда РФ, так и судов общей юрисдикции[4]. Но стоит добавить, что и в рамках арбитражного судопроизводства осуществляется судебный контроль – в порядке гл. 23 АПК РФ судом по интеллектуальным правам рассматриваются и разрешаются дела об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами[5].
В целом такое выделение в содержании правосудия судебного контроля не является, как уже было сказано, неверным, но вместе с тем если идти по этому пути, то можно также говорить и об охранительной (превентивной) функции правосудия. Конечно, суды, арбитражные суды рассматривают не только споры о правах или охраняемых законом интересах. Наряду с делами публично-правовой природы (в том числе об оспаривании нормативно-правовых актов) к их ведению отнесены дела особого производства, которое в дореволюционном законодательстве именовалось «охранительным»[6]. В.К. Пучинский указывал, что особое производство начинается заявлением, а не иском, и подает его заявитель, который ни к кому юридических претензий не имеет. Он лишь просит суд установить определенный юридический факт, либо признать наличие у него того или иного субъективного права[7].
Помимо искового и особого производств, в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства рассматриваются и разрешаются дела, связанные с выполнением судами функций содействия в отношении третейского суда (гл. 47.1 ГПК РФ, гл. 30 АПК РФ). Полагаем, что в них также реализуются контрольные полномочия суда – только уже не за содержанием нормативно-правовых актов, а за соответствием закону решений третейских судов (арбитражей).
Говоря иначе, суды разрешают гражданские дела как спорного, так и бесспорного характера, частноправовые и публично-правовые конфликты. При этом суд занимает особый правовой статус, а принципы процессуального права должны соблюдаться независимо от того, какое дело подлежит рассмотрению. Р.Е. Гукасян указывал, что состязательность пронизывает все гражданское судопроизводство, в том числе и особое производство. Поскольку процессуальный закон предусматривает необходимость привлечения к участию в деле заинтересованного лица, то, по мнению ученого, тем самым подтверждается состязательный характер особого производства[8].
Представляется, что понятие правосудия следует выводить из его общей цели, в качестве которой выступает защита и восстановление нарушенных или оспоренных субъективных прав, свобод и законных интересов субъектов российского права, иностранных лиц и лиц без гражданства.
Правосудие можно понимать как в узком, так и в широком смысле. Правосудие в узком смысле – это судебная деятельность, регулируемая процессуальным законодательством (рассмотрение и разрешение отнесенных к ведению суда дел). В правосудие в широком смысле включаются как собственно процессуальная деятельность судов по реализации судебной защиты, так и организационно-правовые отношения в сфере судоустройства, взаимодействия суда с другими органами государственной власти, гражданами и организациями в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения конкретных гражданских дел (например, правоотношения, возникающие между судом, гражданами или организациями в связи с истребованием находящихся у них доказательств, имеющих значение для дела).
На наш взгляд, правосудие наиболее полно характеризует основной, фундаментальный, конституционно закрепленный признак – правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Н.А. Колоколов справедливо отмечает, что судебная власть проявляется в судебно-властных, т. е. публичных, отношениях[9]. Н.А. Чечина, глубоко занимавшаяся проблемами гражданских процессуальных правоотношений, также отмечала их публичный характер[10]. Аналогичной точки зрения придерживались и дореволюционные русские процессуалисты – так, Е.А. Нефедьев указывал, что возникающее при отправлении правосудия по гражданскому делу правоотношение основано на власти и подчинении[11].
Разумеется, суды в своей повседневной деятельности занимаются не только рассмотрением и разрешением правовых конфликтов. Как и любые другие органы государственной власти, они осуществляют хозяйственную деятельность, делопроизводство, выступают в роли работодателей, государственных заказчиков и т. д. Поэтому далеко не любая деятельность суда является правосудием. Только деятельность суда, определяемая его предметной компетенцией, в сфере рассмотрения отнесенных законом к его ведению дел, может именоваться правосудием. Конституционный Суд РФ неоднократно обращал на это внимание – в частности, в постановлениях 2012 г.[12], 2014 г.[13], 2023 г.[14]
Выражение «правосудие в собственном смысле слова», используемое Конституционным Судом РФ, нам представляется наиболее удачным с точки зрения разграничения всех полномочий суда как органа государственной власти.
Итак, правосудие охватывает деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов, связанную с реализацией ими предметной компетенции по рассмотрению и разрешению отнесенных законом к их ведению дел (правосудие в собственном смысле слова). Реализация судами прочих полномочий, входящих в их компетенцию и связанных с осуществлением необходимой хозяйственной и иной деятельности, правосудием не является.
§ 2. Цель и задачи правосудия
Задачи правосудия в Основном законе нашей страны не конкретизируются, но, на наш взгляд, неверно ограничивать их защитой только прав и свобод человека и гражданина. Несомненно, что правосудие также должно служить публичным интересам, защите конституционного строя России, прав российского государства, субъектов государства и муниципальных образований, обеспечивать защиту и восстановление общественных интересов.
Однако на сегодняшний день указание на защиту прав и интересов российского государства, его субъектов, муниципальных образований встречается не во всех процессуальных кодексах. В ст. 3 КАС РФ, посвященной задачам административного судопроизводства, говорится только о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений. Между тем совершенно необязательно, что именно публично-правовой субъект окажется нарушителем публичных прав и законных интересов. Его права и законные интересы также могут оказаться нарушенными действиями или бездействием граждан или организаций. В случае отказа в удовлетворении административного искового заявления правовую защиту получает именно административный ответчик, но несомненно, что защита публично-правовых образований должна быть четко закреплена как одна из задач административного судебного процесса. Справедливости ради подчеркнем, что в нормах АПК РФ и ГПК РФ она закреплена предельно четко (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ).
Легально не определено и соотношение понятий «правосудие» и «судопроизводство». по нашему мнению, правосудие в собственном смысле слова и судопроизводство соотносятся как общее и частное: судопроизводство есть механизм, средство отправления правосудия, что прямо следует из содержания ст. 118 Конституции РФ. Именно поэтому цель и задачи каждого из видов судопроизводства закреплены в нормах действующего отраслевого процессуального законодательства.
Судопроизводство – это свод незыблемых правил рассмотрения и разрешения всех категорий дел, отнесенных к ведению суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Эти правила имеют императивный характер и обязательны для всех субъектов процессуального права, в том числе для суда. Судопроизводство в юридической доктрине иначе называют гражданской (арбитражной) процессуальной формой.
Ученые-процессуалисты советского периода очень четко выделяли процессуальную форму как необходимый признак правосудия[15]. Выдающийся ученый-процессуалист М.А. Гурвич писал, что главнейший признак правосудия – осуществление судебной деятельности по защите права в рамках императивной процессуальной формы[16]. Такой же позиции придерживаются и современные исследователи[17].
Можно утверждать, что еще одним фундаментальным признаком правосудия является облечение деятельности суда по рассмотрению и разрешению находящихся в его ведении дел в строгую, императивную, нормативную процессуальную форму. М.К. Треушников также указывал, что правосудие по гражданскому делу характеризуется следующими признаками: осуществляется от имени государства; деятельность судов имеет властный характер; постановления судов имеют обязательное значение[18]. О роли процессуальной формы отправления правосудия для определения его сущности писала и Т.Е. Абова[19].
В этом контексте нельзя не затронуть тенденцию последнего времени, заключающуюся в формировании такого явления, как «цифровое судопроизводство», «цифровизация правосудия», «электронное правосудие» и т. п. Распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19 форсировало использование цифровых информационно-коммуникационных устройств при отправлении правосудия. Необходимость соблюдения режима самоизоляции неизбежно повлекла широкое применение, например, участия в заседании посредством видеоконференции. Это дало основания утверждать, что сформировался отдельный вид судопроизводства (цифровое судопроизводство).
Отметим, что использование информационно-коммуникационных технологий в судебной деятельности – явление далеко не новое. Уже достаточно давно у всех заинтересованных лиц имеется возможность подать документы в суд посредством заполнения специальных форм на официальных сайтах судов, а также получать судебные извещения посредством электронных писем, смс-уведомлений и т. д., следить за движением любого дела. При этом нельзя сказать, что все указанные действия осуществляются исключительно при помощи цифровых технологий. За ними по-прежнему стоит человек[20].
Поэтому подача судебных документов в электронном виде в любом случае представляет собой правоотношение, складывающиеся между заявителем и ответственным работникам суда (т. е. судом), а никак не между заявителем и цифровым ресурсом. Следовательно, использование сайтов судов в сети «Интернет» для подачи документов – это не «цифровизация правосудия», а специальная форма реализации традиционных процессуальных правоотношений[21]. Особо подчеркнем, что она не исключает «традиционный способ» обращения к суду с письменными документами, а является лишь дополнительной, факультативной возможностью взаимодействовать с судом при наличии на это у заявителя соответствующего желания и технической возможности.
Что же касается возможности отправления правосудия путем рассмотрения и разрешения дел с использованием электронного интеллекта, то это будет прямо противоречить конституционному принципу осуществления правосудия только судом. Любое автоматически сгенерированное постановление (принятое без участия суда) не будет являться актом правосудия.
Не следует забывать и о том, что правовой статус суда как органа государственной власти, наделенного исключительными полномочиями по отправлению правосудия, предполагает наличие у судьи внутреннего убеждения. Далеко не все общественные отношения регулируются конкретными правовыми нормами, содержание большинства норм допускает множественное толкование, поэтому при рассмотрении и разрешении конкретных гражданских дел перед судом стоит задача определить применимый в деле нормативно-правовой акт, а также правильно истолковать регулирующий спорные правоотношения закон. В частности, суд применяет аналогию права и аналогию закона. Очевидно, что ни один электронный ресурс, даже наделенный способностью оперировать всей совокупностью норм действующего российского законодательства, не в состоянии выполнить указанную задачу[22].
Можно согласиться с тем, что «основным последствием такой практики станет понижение авторитета судьи. Ведь он уже не принимает, а лишь согласует решение, принятое программой. Также мы рискуем получить поколение некомпетентных судей, имеющих весьма поверхностные представления о правилах назначения наказания, так как их знать уже нет смысла»[23]. Кроме того, судьи несут установленную законодательством ответственность за вынесение незаконного, необоснованного и заведомо неправосудного решения. Разумеется, в случае технической ошибки или сбоя цифровой электронной системы рассмотрения гражданских дел, к ответственности привлекать будет некого.
Авторы небезосновательно указывают, что «не решены вопросы ответственности за работу систем искусственного интеллекта, а технически робот представляет собой “черный ящик”, внутри которого протекают непонятные и невидимые пользователю процессы: даже если система вполне разработана, никто не гарантирует, что завтра он не превратится в “шпиона”»[24]. В целом идея об отдельном «цифровом судопроизводстве» не имеет под собой достаточных оснований. Вместе с тем видится перспективной идея создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а также экспертных систем[25]. И, безусловно, должна быть продолжена работа по внедрению цифровых технологий в судебное делопроизводство. В.В. Момотов отмечает: «Предлагается переводить в цифровую форму абсолютно все поступающие в суды документы, а также формировать по каждому спору “электронное дело”»[26]. Это предложение, несомненно, следует поддержать.
§ 3. Критерии классификации судопроизводств в сфере гражданской юрисдикции
Таким образом, государственная защита субъективных прав, свобод и законных интересов (правосудие в собственном смысле слова) осуществляется только в рамках специализированных, конституционно закрепленных процессуальных форм (видов судопроизводства), представляющих собой совокупность процессуальных правил рассмотрения и разрешения судами дел отдельных категорий. Эти процессуальные формы исчерпывающим образом перечислены в ст. 118 Конституции РФ, и в сфере гражданской юрисдикции таковыми являются: гражданское судопроизводство, арбитражное судопроизводство и административное судопроизводство.
Отдельно подчеркнем, что термин «судопроизводство» в силу его прямой исключительной взаимосвязи с правосудием неприменим более ни к каким другим формам разрешения споров. Так, неверно именовать судопроизводством деятельность третейских судов (арбитражей)[27].
Не является судопроизводством и деятельность по досудебному урегулированию споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства, а также меры по досудебному взысканию. Как правильно подчеркнуто в докладе Председателя Верховного Суда РФ И.Л. Подносовой на Совете Судей РФ 21.05.2024, «реализация подобных мер не должна привести к ограничению доступа граждан и юридических лиц к правосудию и снижению уровня процессуальных гарантий»[28].
Вместе с тем в судопроизводство включается любая деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов, регламентированная нормами ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. В частности, особым видом процессуальной деятельности (судопроизводством) должна признаваться судебная примирительная процедура. В науке высказана заслуживающая поддержки точка зрения, что в настоящее время можно говорить об отдельном виде цивилистического судопроизводства – примирительном производстве[29].
Соблюдение судами требований процессуального законодательства при рассмотрении и разрешении дел в сфере гражданской юрисдикции имеет такое важное значение, что допущенные существенные нарушения норм процессуального права являются безусловным основанием для отмены даже правильного по существу судебного решения (ст. 330 ГПК РФ, ст. 270 АПК РФ, ст. 310 КАС РФ). Именно поэтому процессуальное законодательство находится в исключительной компетенции Российской Федерации (ст. 1 ГПК РФ, ч. 1 ст. 3 АПК РФ, ст. 2 КАС РФ).
Безусловно, любое законодательство не может быть статичным и должно отвечать вызовам времени. Совершенствование процессуального законодательства необходимо в том числе в целях защиты прав, свобод и законных интересов государства как участника хозяйственной деятельности, субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, для оптимизации и повышения эффективности судебной защиты граждан и организаций в нашем государстве. Вместе с тем внедрение новых норм и процессуальных институтов, трансформация процессуального режима судебной деятельности должны вестись при точном соблюдении основополагающих начал правосудия и с учетом сущности и содержания норм материального права[30].
Природа процессуальной формы защиты взаимосвязана и во многом определяется правовой сущностью подлежащего защите нарушенного или оспоренного права или законного интереса[31]. Однако эта связь материального и процессуального не является абсолютной и процессуальные правоотношения кардинальным образом отличаются от отношений материально-правовых, из которых возник спор.
Е.В. Васьковский, ссылаясь на А.Х. Гольмстена, пишет, что различие между предметами гражданского права и гражданского процесса подобно различию между телом, находящимся в движении, и траекторией этого движения – например, полетом птицы и ее телом. Поскольку состояние тела птицы определяется условиями полета, а сам полет определяется состоянием тела, так и характер нарушенного права прямо отражается в процессе его защиты[32].
Основными тенденциями новеллизации законодательства в области цивилистического процесса в последнее время выступают два противоположных друг другу подхода: унификация и дифференциация судопроизводства. При этом дифференциация проявляется более ярко.
Прежде всего, в 2015 г. был принят и введен в действие Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ). На основании этого из структуры Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) был исключен раздел, регулировавший процедуру рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений. При этом такой же раздел в структуре Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) сохранен.
Далее, поправками в Конституцию РФ 2020 г. арбитражному судопроизводству впервые в истории отечественного правосудия был придан конституционный статус самостоятельной процессуальной формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. До этого арбитражное судопроизводство существовало de facto в деятельности арбитражных судов, которые рассматривали дела в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности по специальным правилам, содержащимся в АПК РФ. Но Конституция не закрепляла «экономическое правосудие» как отдельный вид судопроизводства, в силу чего в юридической науке высказывались мнения о его подчиненном по отношению к гражданскому судопроизводству характере.
Так, Т.Е. Абова данной проблеме посвятила отдельную работу «О некоторых неоправданных расхождениях между действующими АПК РФ и ГПК РФ в регулировании процессуальных отношений», где еще задолго до объединения Высшего арбитражного суда и Верховного Суда указывала, что «целесообразно, чтобы единственной надзорной инстанцией остался Президиум Верховного Суда РФ», а также писала, что необходимо включить в АПК РФ норму об аналогии процессуального права и закона, чего на тот период не было (разработчики АПК РФ дали отрицательный ответ на это предложение)[33]. Как известно, сегодня положение ч. 5 ст. 3 АПК РФ предусматривает аналогию закона и аналогию права. Иными словами, речь велась о высокой степени схожести норм и институтов ГПК РФ и АПК РФ. И нынешнее закрепление в ст. 118 Конституции РФ арбитражного судопроизводства в качестве отдельного процессуального механизма защиты ставит большую проблему разграничения этих форм.
Вместе с тем имеются и свидетельства унификации судебного процесса – например, внедрение в 2019 г. межотраслевого процессуального института судебного примирения (судебной примирительной процедуры). Институт судебного примирения был включен в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ. Очевидно, что это решение законодателя было продиктовано стремлением принять меры к снижению судебной нагрузки за счет урегулирования правовых конфликтов их участниками. Однако оно было принято без учета природы разрешаемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел, которые имеют разную правовую природу – как частноправовую, так и публично-правовую. Примирение возможно далеко не по всем категориям гражданских дел.
Выделение отдельных видов судопроизводства объясняется различиями прав, свобод и законных интересов, подлежащих защите. На первый взгляд представляется логичным, что гражданские права должны защищаться в рамках гражданского судопроизводства, административные и иные публичные интересы подлежат восстановлению по правилам административного судопроизводства, а права и законные интересы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности являются объектом защиты в арбитражном судопроизводстве. Однако сегодня этот подход в нормах действующего материального и процессуального законодательства реализован не вполне четко и полно.