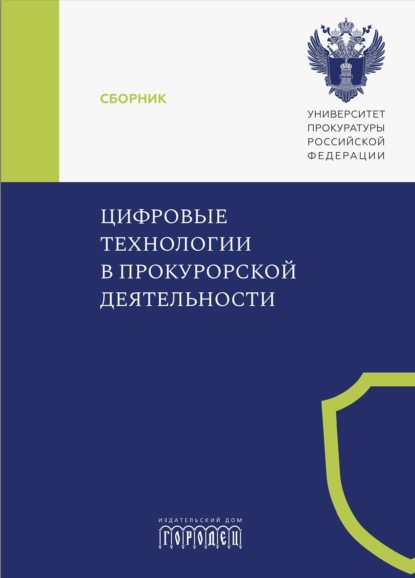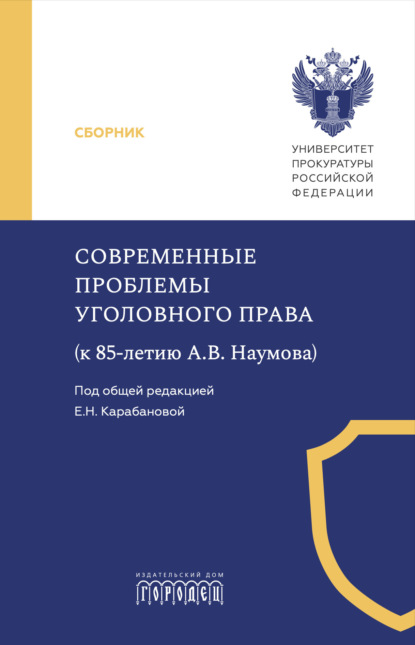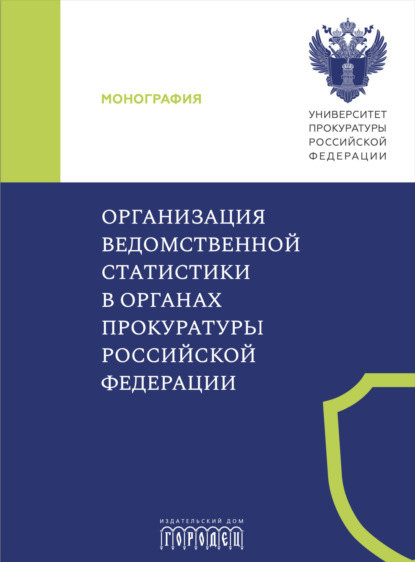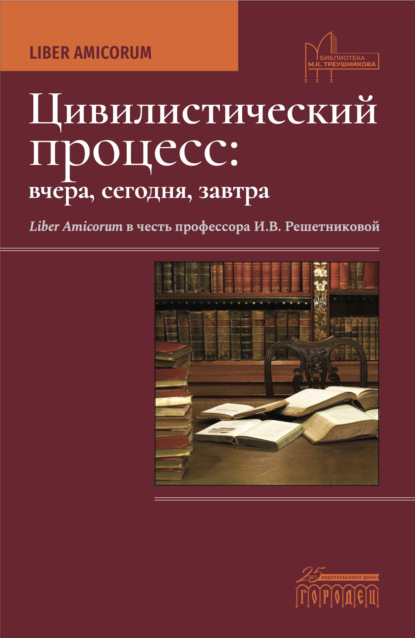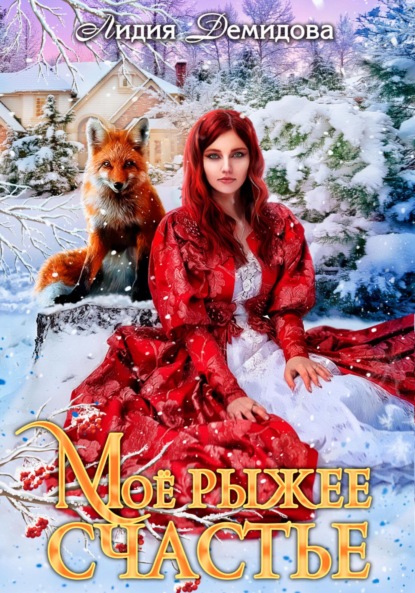Правосудие в современной России. Том 1
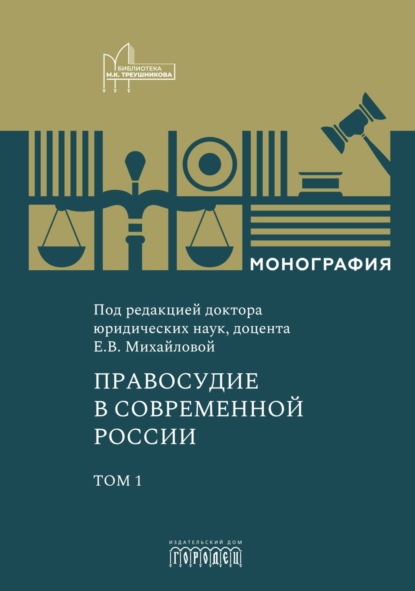
- -
- 100%
- +
Во-первых, предпринимательские права, родовые признаки которых названы в ст. 2 ГК РФ, регулируются гражданским законодательством. Следовательно, с точки зрения закона они являются разновидностью гражданских прав. Однако далеко не все ученые с этим согласны.
Приверженцы школы предпринимательского права как самостоятельной отрасли российского права приводят довольно убедительные аргументы в пользу его самобытности[34]. Вместе с тем представители цивилистической концепции имели иную позицию по данному вопросу[35]. Следует согласиться с тем, что «законодательство в сфере предпринимательства, экономики в принципе не может быть только частным или только публичным»[36]. Однако это утверждение справедливо не только для сферы предпринимательской и иной экономической деятельности, но в целом для гражданско-правовых отношений.
Во-вторых, основную трудность представляет вопрос о том, что следует понимать под «иной экономической деятельностью», ни понятие, ни признаки которой в законе не раскрываются.
Неопределенность в вопросе понятия и критериев определения так называемых арбитражных дел давно служила причиной неосновательных отказов в принятии исковых заявлений как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами в случаях, когда они считали дело себе неподведомственным. Упразднение Высшего арбитражного суда РФ и подчинение обеих систем – судов общей юрисдикции и арбитражных судов – единому высшему органу – Верховному Суду РФ, проблему, отчасти, решило[37].
Однако, несмотря на то, что определение о передаче дела, вынесенное арбитражным судом, может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в 10-дневный срок, это не является гарантией защиты прав лица, полагающего, что его права должны быть защищены именно в порядке арбитражного судопроизводства. Для отмены определения о передаче дела в систему судов общей юрисдикции необходимо соответствующее обоснование, а оно отсутствует, поскольку критерия определения понятия «экономическое правоотношение» в законодательстве до сих пор нет.
Говорить об унификации цивилистического судебного процесса и объединении гражданского и арбитражного судопроизводств сегодня оснований нет. Достигнутая в ходе многолетней истории специализация судей в сфере гражданской юрисдикции имеет чрезвычайно высокое практическое значение – объединение гражданского и арбитражного процесса пошатнет единообразие судебной практики, снизит гарантии защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Этого допустить нельзя.
При этом не менее важно обеспечить наличие в действующем процессуальном законодательстве четких критериев распределения гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Как указал Президент Российской Федерации В.В. Путин, четкое разграничение подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами по-прежнему остается одной из проблем российской правовой системы, которая позволяет людям недобросовестным использовать эту слабость правовой системы в личных либо корпоративных интересах во вред экономике страны и во вред стране в целом[38].
И это – задача материального права, поскольку достижение этой цели возможно исключительно путем закрепления легальных признаков экономических правоотношений. Решить ее весьма непросто. Еще Т.Е. Абова отмечала сложность определения субъектного состава хозяйственных отношений, вызванную разнообразием оснований их возникновения[39]. А по мнению С.С. Занковского, основным признаком и целью любого вида предпринимательской деятельности является получение выгоды, и все, что указанную цель не преследует, является благотворительностью[40]. Таким образом, ни «субъектный критерий» определения круга гражданских дел, подлежащих рассмотрению арбитражными судами по правилам АПК РФ, ни критерий материально-правовой природы дела, не могут считаться исчерпывающими.
Авторы правильно говорят, что понятие «экономические споры» изначально было неопределенным, хотя при его введении в законодательство ставилась цель разграничить споры, подведомственные арбитражным судам и судам общей юрисдикции[41]. Эта неопределенность законодательства дает простор для судебного усмотрения[42].
И.В. Ершова предлагает использовать широкую трактовку понятия «экономическая деятельность»[43]. по нашему мнению, такой подход не позволяет достичь главной практической цели – разграничить собственно гражданские правоотношения, споры из которых отнесены к ведению судов общей юрисдикции, и правоотношения экономические, являющиеся предметом судебной защиты в арбитражном судопроизводстве. Придерживаясь его, к экономическим делам можно отнести и трудовые споры, и все отношения купли-продажи, аренды и т. д. Собственно говоря, «экономический привкус» имеют практически все отношения, регулируемые нормами гражданского законодательства.
Думается, что определение понятия экономической деятельности, наоборот, следует выводить из природы предпринимательских правоотношений, хотя на первый взгляд, экономическая деятельность кажется более широким явлением.
Как известно, любое юридическое отношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права. Предпринимательские правоотношения – это экономические отношения, урегулированные правовыми нормами и характеризующиеся особой целью (систематическое получение прибыли) и специальным правовым статусом их субъектов (индивидуальные предприниматели и юридические лица). Соответственно, экономические правоотношения, не отвечающие указанным признакам, но прямо связанные или опосредующие предпринимательство, относятся к ведению арбитражных судов (например, дела о несостоятельности (банкротстве), корпоративные споры и др.). Более того, некоторые ученые небезосновательно полагают, что, помимо извлечения прибыли, предпринимательская деятельность направлена также на решение целого ряда социальных задач и в определение ее понятия этот признак требуется включить[44]. Поэтому споры, возникающие в связи с реализацией субъектами предпринимательской деятельности таких социальных функций, хоть и не преследуют цель систематического извлечения прибыли, должны рассматриваться арбитражными судами.
Другая глобальная проблема, стоящая перед судебной системой, состоит в том, что исключение из легального оборота категории «подведомственность дела» и дифференциация процессуальных форм защиты в сфере гражданской юрисдикции в совокупности порождают неопределенность в вопросе о том, в рамках какого судопроизводства должны рассматриваться дела так называемой смешанной природы[45].
Как уже было отмечено, в сфере гражданской юрисдикции нет чисто частноправовых или чисто публично-правовых отраслей; каждая отрасль сочетает в себе частноправовые и публично-правовые начала. Поэтому любые спорные материальные правоотношения требуется подразделять на частноправовые и публично-правовые.
Как известно, традиционно в юридической науке дифференциация прав и интересов осуществляется или исходя из их природы, которая может быть частной либо публичной, или на основании их отраслевой принадлежности.
Однако отрасли права – явление легально не закрепленное и в силу этого весьма «подвижное». по большей части это – предмет дискуссий юридической науки. Например, крайне спорным является вопрос существования отрасли предпринимательского права – еще в советский период по нему так и не было достигнуто консенсуса между «цивилистами» и «хозяйственниками».
Что же касается природы субъективных прав и законных интересов, то она значительно более четко определена, причем на уровне процессуального законодательства.
В правовой доктрине сложилось достаточно бесспорное мнение о том, что частные и публичные права различаются в зависимости от их принадлежности. Частные права и интересы присущи субъектам частного, а публичные – соответственно, субъектам публичного права. Впрочем, есть также мнение, что деление права на частное и публичное не должно абсолютизироваться, поскольку «без публичного права частное право бессильно, а без частного права публичное право беспредметно»[46]. С ним можно согласиться, однако публичное право в силу принадлежности неограниченному кругу лиц должно защищаться по специальным процессуальным правилам, а для этого четкий «водораздел» между частным и публичным просто необходим.
§ 4. Разграничение частноправовых и публично-правовых отношений
Крайне важно то, что к субъектам частного права относятся не только граждане (физические лица) и организации (юридические лица), но и Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Это прямо закреплено в ст. 124 ГК РФ. Если же обратиться к ст. 2 АПК РФ, то обнаружится, что, помимо указанных субъектов, к числу участников спорных материальных правоотношений относятся также органы государственной власти и местного самоуправления.
В этой связи требуется четко разграничить частноправовые и публично-правовые отношения, поскольку один факт участия в отношении публично-правового образования еще не определяет его природы.
Например, Арбитражный суд Московского округа, рассматривая кассационную жалобу, поданную ООО, посчитал спор с участием публично-правового образования гражданско-правовым, поскольку обязанность доказывания факта причинения имущественного вреда действиями пристава-исполнителя была возложена на самого заявителя[47]. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 189 АПК РФ бремя доказывания законности и обоснованности оспариваемых решений и действий (бездействия) органов публичной власти возлагается на эти органы.
Поэтому для разграничения частноправовых и публично-правовых отношений имеет значение не только субъектный состав, но и факт наличия либо отсутствия субординации между их сторонами. Таким образом, публичным правоотношениям одновременно присущи два признака: участие в них публично-правового образования и отсутствие равенства и автономии воли между ним и другой стороной[48].
Властные, или публично-правовые отношения, по общему правилу, нормами гражданского законодательства не регулируются[49]. Следует особо подчеркнуть, что это положение приходит в противоречие со ст. 190 АПК РФ, которая позволяет сторонам споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, заключать мировые соглашения.
В целом публично-правовые отношения, основанные на власти и подчинении, по общему правилу, гражданским законодательством регулироваться не должны. Однако сам Гражданский кодекс РФ содержит большое число норм, регулирующих отношения, основанные не неравенстве участвующих в них лиц. Это отношения по государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, отношения по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
К гражданско-правовым делам относятся споры, вытекающие из публично-правовых по своей сути отношений, – например, отдельных видов семейных правоотношений (заключение и расторжение брака, лишение и ограничение родительских прав), служебных отношений, отношений пенсионных и т. п. Т.Е. Абова, отвечая в интервью журналу «Юрист» на вопрос корреспондента о природе хозяйственных правоотношений уже в 2009 г., признавала, что в них тесно переплетены публично-правовые и частноправовые начала[50]. Тогда же была высказана правильная мысль о том, что публично-правовое образование, выступая стороной сделки, является субъектом частного права, но при реализации властных полномочий оно должно рассматриваться как субъект права публичного[51].
До 2015 г. рассмотрение всех дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, осуществлялось в рамках гражданского и арбитражного судопроизводств. Дела публично-правовой природы рассматривались и разрешались судами по общим правилам искового производства, с особенностями, закрепленными в одноименных разделах ГПК РФ и АПК РФ. Особенности эти были немногочисленны, но весьма существенны.
С принятием в 2015 г. КАС РФ раздел, регулирующий производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, был исключен из ГПК РФ. При этом раздел, регулирующий порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, был сохранен в структуре АПК РФ[52]. Таким образом, административное судопроизводство на сегодняшний день фактически регулируется двумя процессуальными кодексами – КАС РФ и АПК РФ. Отдельные авторы в административное судопроизводство включают также дела о привлечении граждан и предпринимателей к административной ответственности (рассматриваемые судами общей юрисдикции по правилам КоАП РФ)[53]. С этим можно согласиться.
В целом, несмотря на принятие КАС РФ, административное судопроизводство оказалось «распылено» между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, между КАС РФ, АПК РФ и КоАП РФ. Конечно, это неудобно для судей, которые при решении вопроса о принятии заявления должны решать определять применимую к делу процессуальную форму, рискуя тем, что ошибка в этом вопросе повлечет отмену вынесенного ими решения по делу как незаконного, нарушающего нормы процессуального права. При этом закон не дает им необходимый правовой «инструмент» для решения этого вопроса, а разъяснения, данные Пленумом ВС РФ о признаках дел, возникающих из публичных правоотношений, вполне применимы к целому ряду гражданских дел – например, к спорам об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о порядке заключения и исполнения государственных контрактов и т. п. К тому же некоторые авторы предлагают отказаться от традиционного подхода о «приоритете» гражданского судопроизводства в ситуации, когда правовую природу спора точно определить затруднительно[54]. Представляется, что это еще сильнее осложнит работу судебных органов.
Однако та самобытность процессуальной формы защиты публичных прав и интересов, которая исторически сложилась, не может и не должна быть утрачена. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения судами общей юрисдикции и арбитражными судами дел публично-правовой природы были продиктованы спецификой подлежащего защите общественного (государственного) интереса. Как указывал А.С. Алексеев, различие между гражданским и публичным правом заключается в том, что публичное право регулирует общественные интересы, а гражданское – интересы индивидуальные, частные[55].
Начать следует с рассмотрения особенностей возбуждения производства по делу, возникшему из административного или иного публичного правоотношения. «В силу принципа диспозитивности суды приступают к производству гражданских дел не иначе, как по инициативе заинтересованных в них лиц» – писал Е.В. Васьковский[56].
Публичные права и интересы принадлежат не одному конкретному субъекту, а неограниченному кругу лиц. Н.М. Коркунов подчеркивал, что публичное право «неотчуждаемо», не может быть передано лицу, не принадлежащему в той группе, на которую публичное право распространяется, но и отказаться от него просто так нельзя – лицо лишается его только с утратой факта принадлежности к группе[57]. Такого же мнения придерживался А.С. Алексеев, указывая, что отдельные лица не вправе распоряжаться публичными правами, этим правом обладает лишь союз (общество) в целом, в то время как частными правами распоряжаются отдельные индивиды[58].
Как видно, если частные права и интересы в силу принципа диспозитивности должны быть защищаемы исключительно согласно воле их обладателей, то публичные права и интересы не могут быть предметом распоряжения одного конкретного лица. Очевидно, что, если суды станут проверять обоснованность и законность действий, актов и решений органов публичной власти в каждом случае, когда того потребует любой гражданин, судебная система просто не справится с такой нагрузкой.
Поэтому думается, что было бы целесообразно внести следующее дополнение в текст ст. 125 КАС РФ: «в административном исковом заявлении должно быть указано, какие права, свободы и законные интересы заявителя и неопределенного круга лиц нарушены, или о последствиях, которые могут повлечь за собой их нарушение». Но необходимо сразу четко оговориться: речь идет лишь об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами (гл. 21 КАС РФ). Если гражданин оспаривает решение, действие (бездействие) органа государственной власти или местного самоуправления, которое распространяется лишь на него, то он не освобождается от доказывания своих требований, но не может быть принуждаем обосновать, что оспариваемое решение, действие или бездействие оказывает влияние на неограниченный круг лиц[59].
Разграничение спорных материально-правовых отношений на частные и публичные также крайне важно в аспекте реализации сторонами правового конфликта своих процессуальных прав и обязанностей. Правовой статус стороны в деле не тождественен материально-правовому статусу лица, однако производен от него. Гражданско-правовой статус лица «отображается» в процессуальной сфере как статус стороны искового производства, а диспозитивное начало подлежащего защите гражданского права продуцирует наличие у него распорядительных процессуальных прав.
Присущее публичному правоотношению «вертикальное» положение его субъектов в сфере осуществления правосудия имеет следствием ограничение свободы распоряжения процессуальными правами, активную роль суда, специфичное распределение обязанностей по доказыванию.
В дореволюционный период в порядке гражданского судопроизводства с участием публичных образований рассматривались, в основном, дела по ущербу, причиненному имуществу, а также все дела «между казною и частными лицами»[60]. Е.В. Васьковский писал, что по Уставу гражданского судопроизводства 1864 г. предусматривались так называемые изъятия из общего порядка производства – и в первую очередь «дела казны». В то время под «делами казны» понимали правовые конфликты, стороной которых являлись органы государственной власти, притом выступающие не как носители публичной, верховной государственной власти, а как частноправовые субъекты, участвующие в гражданском обороте на равных началах с его остальными участниками. К ним приравнивались церковные учреждения, монастыри, духовные учреждения, дворянские общества и т. д. К «делам казны» применялся особый процессуальный режим, одной из отличительных черт которого являлась невозможность окончить дело мировой сделкой[61]. На этом моменте следует заострить особое внимание.
Правовой статус публично-правовых субъектов в сфере гражданской юрисдикции (частноправовых отношений) определяется правовыми нормами, регулирующими статус юридических лиц (ст. 125 ГК РФ). В соответствии с этим, в случае, когда из частного правоотношения, в котором участвует государство в лице его уполномоченных органов, организаций, наделенных публичными полномочиями, возникает спор, он становится предметом искового производства. Государство, как сторона искового производства, обладает всем комплексом процессуально-распорядительных прав, в том числе и правом на заключение мирового соглашения.
Вместе с тем, как уже было сказано, заключить мировое соглашение вправе и стороны производства по делам, возникающих из административных и иных публичных правоотношений в арбитражном судопроизводстве, что прямо закреплено в ст. 190 АПК РФ. Стороны административного судопроизводства также могут примириться, заключив соответствующее соглашение о примирении (ст. 137 КАС РФ). Между тем и в советский период примирение сторон публично-правовых конфликтов не допускалось, и сейчас эта возможность представляется не отвечающей природе публично-правовых дел.
Как известно, основой мирового соглашения является гражданско-правовая сделка, совершенная сторонами правового конфликта. Так, А.Х. Гольмстен писал, что мировая сделка есть не что иное, как договор, по которому стороны договариваются прекратить существующий между ними спор[62]. Как и другие процессуалисты дореволюционного периода, классик подчеркивал, что не все дела могут оканчиваться примирением – к примеру, соглашение не может быть заключено по делам казенных управлений[63].
Согласно ч. 3 ст. 2 ГК РФ, к отношениям, основанным на властном подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется. Это означает, что мировые соглашения в делах публично-правового характера не отвечают основным началам гражданского законодательства – либо представляют собой не гражданско-правовую сделку, а нечто совсем иное, однако трудно сказать, что именно.
Следует отметить и правовую позицию Конституционного Суда РФ по данному вопросу. Он определил, что гражданские процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спорных материальных правоотношений[64]. Административное же судопроизводство – сфера действия норм публичного права, что, безусловно, продуцирует процессуальную специфику, одной из существенных черт которой должно быть ограничение распорядительных прав участвующих в деле субъектов[65].
Процессуальные особенности разрешения судами дел публично-правового характера всегда обособлялись путем включения в гражданское процессуальное законодательство специальных правил. Хотя ГПК РСФСР 1923 г. и не содержал самостоятельного раздела о порядке рассмотрения и разрешения административных и иных публично-правовых дел, однако особенности производства по ним существовали и регулировались отдельными правовыми актами[66].
В ГПК РСФСР 1964 г. предусматривалось обособление процессуальных норм, предусматривающих порядок отправления правосудия по делам публично-правовой природы. Одной из важнейших процессуальных особенностей рассмотрения указанных дел следует назвать сокращенные сроки, субъектный состав, и недопустимость заключения мировых соглашений[67].
В структуре ГПК РФ 2002 г. был предусмотрен специальный подразд. 3, который назывался «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений». по общему правилу, к рассмотрению этих дел применялись правила искового производства, с отдельными особенностями. Одной из этих особенностей было ограничение в распоряжении спорным материальным правом и невозможность мирового соглашения[68].
Другой важнейшей особенностью производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, всегда было особое распределение обязанностей по доказыванию. В делах искового производства каждая сторона спора должна самостоятельно доказать наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, с которыми она связывает свои требования и возражения (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ). При рассмотрении публично-правового конфликта обязанность доказать законность и обоснованность оспариваемых частноправовым субъектом решений, действий (бездействия) публично-правового субъекта полностью возлагалась законом на орган или лицо, принявшее оспариваемый акт или совершивший оспариваемое действие. При этом противоположная сторона обязана доказать, что оспариваемый акт или действие нарушает конкретное его право, или создает препятствия к его осуществлению.
Правила распределения обязанностей по доказыванию в административном судопроизводстве закреплены в ст. 62 КАС РФ[69].
При этом по правилам КАС РФ, исходя из его структуры, помимо дел об оспаривании нормативно-правовых актов и актов, содержащих обязательные разъяснения действующего законодательства, рассматривается большой перечень дел публично-правовой природы. Можно заключить, что эти остальные категории публично-правовых дел подлежат рассмотрению в соответствии с общим правилом доказывания, предписывающим каждой стороне доказывать заявленные ею требования и возражения.
В этой связи важно подчеркнуть, что взаимозависимость материального права, подлежащего судебной защите, и процессуальной формы рассмотрения дела проявляется «в обоих направлениях». Как природа защищаемого в судебном порядке права или интереса влияет на процедуру рассмотрения и разрешения дела, так и процессуальный порядок судебной деятельности свидетельствует о сущности нарушенного или оспоренного права или интереса. по справедливому мнению В.М. Шерстюка, рассматриваемые судом спорные материальные правоотношения многоаспектно влияют на процедуру судебного разбирательства[70]. Так, пропорциональное распределение обязанностей по доказыванию свидетельствует о частноправовой природе рассматриваемого дела.
Таким образом, выявленный диссонанс в порядке возбуждения административного судопроизводства и правилах доказывания, закрепленных в КАС РФ, и природе публично-правовых дел, дает основания говорить о необходимости совершенствования действующего административного процессуального законодательства. В частности, оно должно быть направлено на закрепление специальной предпосылки возбуждения административного судопроизводства по делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения действующего законодательства – нарушение публичных прав и интересов не только заявителя, но неограниченного круга лиц. Также целесообразно распространить бремя доказывания законности и обоснованности оспариваемых публично-правовых актов, решений и действий (бездействий) должностных лиц и органов власти, на все категории дел публично-правовой природы.