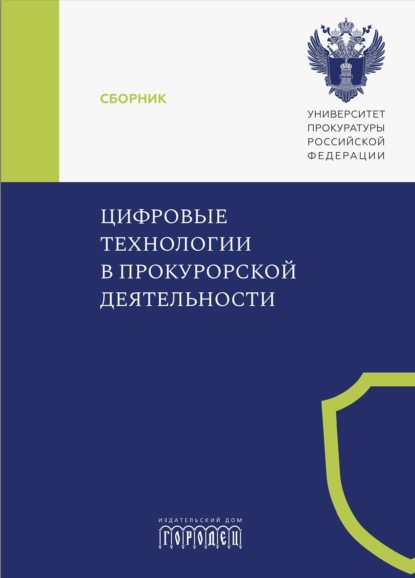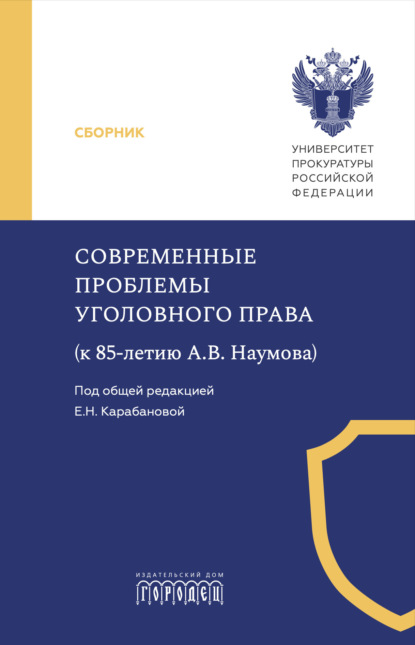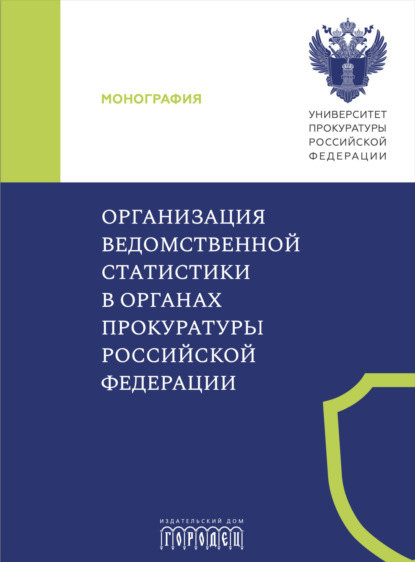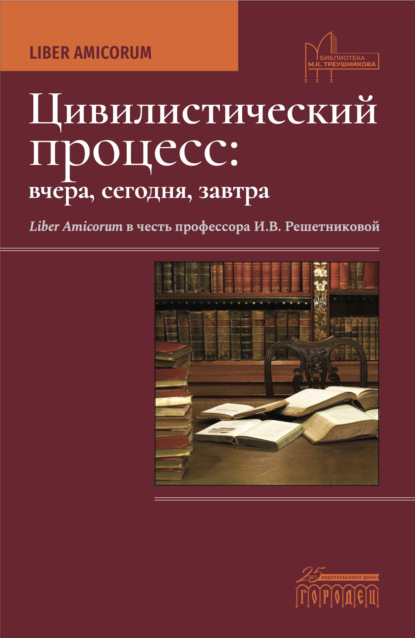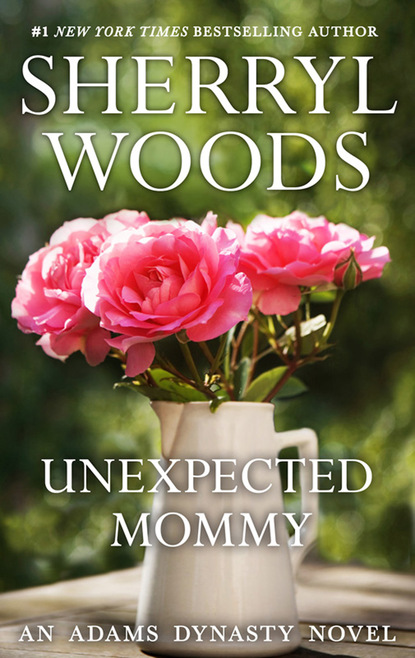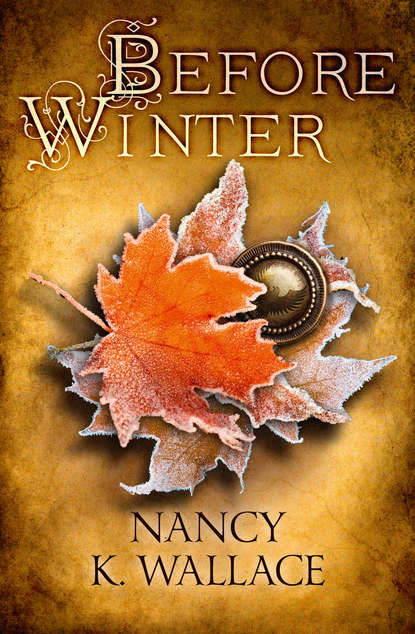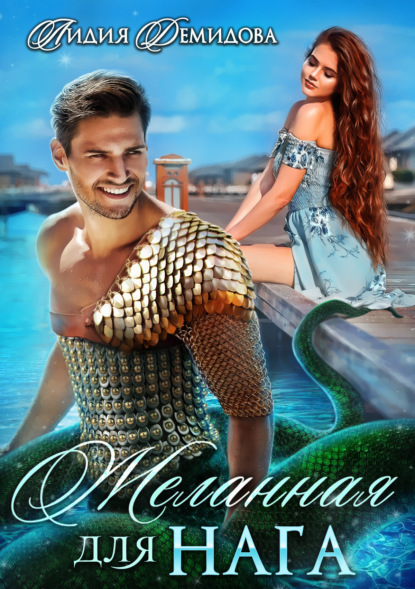Правосудие в современной России. Том 1
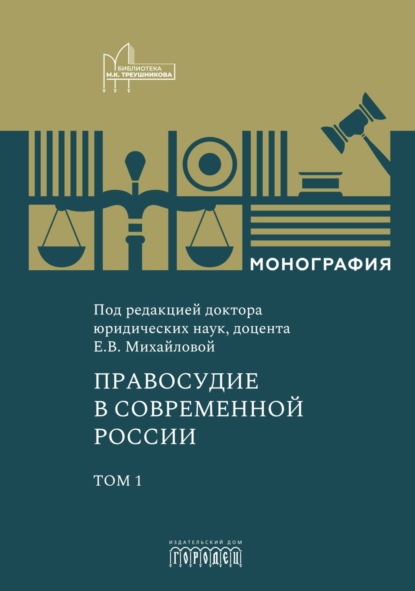
- -
- 100%
- +
Важнейшим вопросом является правовой статус суда в различных судопроизводствах. В юридической литературе дискуссия о правах и обязанностях суда при отправлении правосудия – одна из наиболее «жарких»[71]. Н.А. Чечина указывала, что «действие суда, будучи непременным элементом любого юридического состава, обусловливает возможность возникновения всякого гражданского процессуального правоотношения. Поэтому обязательным субъектом процессуального отношения является суд»[72]. Этого мнения придерживался также Д.М. Чечот[73].
Представляется, что следует говорить не о правах и обязанностях суда, а, скорее, о его полномочиях, которые он реализует в процессе отправления правосудия по отношению к участникам судебного процесса. Однако суд обязан придерживаться требований процессуального законодательства, и основного принципа, регулирующего его правовое положение в процессе – принципа беспристрастности и независимости[74]. Современные исследователи в основном придерживаются традиционного взгляда на независимость суда, отмечая важность его беспристрастности и объективности[75], критериев отбора судей[76], их личностных качеств[77].
В том случае, если в деле участвуют граждане и организации, гарантией соблюдения принципа независимости и беспристрастности суда служит институт самоотвода и отвода судьи. Однако можно ли говорить о действительной беспристрастности суда при рассмотрении дел с участием государства, субъектов государства, муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления и должностных лиц? Ведь суд – это тоже орган государственной власти, неотъемлемая часть государственного организма[78].
Вопрос о том, как повысить процессуальные гарантии обеспечения принципа независимости и беспристрастности суда в делах, возникающих из административно-правовых или иных публичных правоотношений, очень сложный. Одним из вариантов является установление дополнительных мер ответственности судей за вынесение заведомо неправосудных решений. Как известно, ст. 305 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Однако меры гражданско-правовой ответственности судьи за совершение указанных действий законом не предусмотрены. А в дореволюционный период они существовали – как в период со второй половины XIX до начала XX в.[79], так и ранее[80].
Современные авторы отмечают, что «гражданско-правовую ответственность за профессиональную ошибку судьи несет государство. Однако, если такие ошибки приобретают систематический характер, следовало бы поставить под сомнение профессионализм судьи и его способность в дальнейшем осуществлять судейские полномочия»[81]. Для решения обозначенной проблемы также было высказано предложение ввести институт административных заседателей[82].
Думается, что сегодня наиболее оптимальным решением будет совершенствование правового статуса суда, арбитражного суда, в производстве по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений[83] и в административном судопроизводстве. Суд не должен при рассмотрении указанных дел действовать так же, как в делах искового производства, т. е. отстраняться от процесса доказывания и лишь оценивать те доказательства, что представили ему участники процесса. Полагаем, целесообразно задуматься о возращении в административном судопроизводстве и в делах, возникающих из публичных правоотношений, в арбитражном судопроизводстве, к основному принципу советского гражданского процесса – принципу объективной истины[84].
Суд при рассмотрении публично-правовых конфликтов обязан вынести объективно правильное решение по делу, для чего он должен при необходимости проявлять инициативу в истребовании необходимых доказательств, вынесении на обсуждение дополнительных вопросов, выходить за пределы заявленных требований и приведенных сторонами доводов. Как уже было отмечено выше, во всех без исключения публично-правовых делах у суда должна быть активная роль[85].
Не следует забывать и о том, что споры с участием публично-правовых образований рассматриваются судами и в порядке искового производства (в случаях, когда в соответствии со ст. 124 ГК РФ они действуют «на равных» с другими субъектами гражданского права). по большому счету, несмотря на провозглашенный законом принцип равенства участников таких правоотношений, суду нелегко его выдержать[86]. Как справедливо указывала Т.Е. Абова, «недостаточно провозгласить равенство государства и других лиц в гражданско-правовых отношениях. Необходимо еще предусмотреть гарантии этого равенства»[87].
Одной из гарантий равенства государства с иными участниками гражданско-правовых отношений может стать законодательное закрепление процессуальных особенностей рассмотрения частноправовых споров с участием публично-правовых образований. В таких спорах следует усилить процессуальную активность суда и дать ему возможность истребовать доказательства по собственной инициативе, если при оценке представленных сторонами доказательств будет невозможно установить объективную истину по делу.
Поэтому будет правильно создать новый, отдельный вид гражданского судопроизводства, аккумулирующий нормы, содержащие процессуальные особенности рассмотрения судами частноправовых дел с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В этом разделе должен содержаться также четкий критерий определения надлежащей стороны в деле, в качестве которой в одних случаях выступает само государство, его субъекты или муниципальные образования, а в других – органы государственной власти или местного самоуправления. Как уже было сказано, таким критерием должна выступать материально-правовая заинтересованность в деле. Если спор касается прав и обязанностей только органа государственной власти или местного самоуправления, организации, реализующей публичные интересы – то стороной дела является этот орган или организация. Если же защищаемый интерес принадлежит неограниченному кругу лиц – стороной в деле является само государство или его субъект[88].
Подводя итог, следует подчеркнуть, что исключительный характер правосудия как государственной деятельности по защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, требует наличия четко разграниченных между собой, учитывающих материально-правовую специфику подлежащих рассмотрению дел, процессуальных форм (видов судопроизводства).
В современный период основными проблемами, требующими незамедлительного решения, являются вопросы дифференциации дел в сфере гражданской юрисдикции на частноправовые (подлежащие рассмотрению и разрешению в исковом производстве, в гражданском и арбитражном судопроизводстве) и публично-правовые (подлежащие рассмотрению и разрешению в рамках административного судопроизводства и производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном процессе); разработка и легальное закрепление критерия разграничения гражданских дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами; создание и правовая регламентация процессуальных особенностей рассмотрения частноправовых и публично-правовых дел с участием государства, субъектов государства, муниципальных образований, органов государственной власти и местного самоуправления; совершенствование правового статуса суда в различных видах судопроизводства; четкая регламентация применения института судебного примирения в делах частной и публично-правовой природы.
§ 5. Особенности споров с участием публично-правовых образований
Традиционно в науке цивилистического судебного процесса выделяют три группы субъектов гражданского и арбитражного судопроизводства. К первой относят суд, ко второй – лиц, участвующих в деле, а к третьей – лиц, содействующих правосудию.
Благодаря субъектам, относящимся ко второй группе, процесс возникает и развивается, они могут влиять на движение дела. Прежде всего, только лица, участвующие в деле, наделены правом инициировать судебное разбирательство. Они позиционируют себя в качестве обладателей нарушенного или оспоренного субъективного гражданского права или законного интереса, а суд, получив их исковое заявление, в решении вопроса о возбуждении производства по делу исходит из предположения о том, что так оно и есть. Указанную особенность отмечали многие исследователи – как дореволюционные (например, К.И. Малышев[89]) и советские (М.А. Викут[90]), так и современные (И. Зайцев[91]).
Безусловно, в момент получения искового заявления суд не в состоянии установить ни действительного обладателя нарушенного права или интереса, ни его реального нарушителя. Однако, согласно действующему гражданско-процессуальному и арбитражно-процессуальному законодательству, право на обращение в суд общей юрисдикции и арбитражный суд имеется лишь у «заинтересованных лиц» (ч. 1 ст. 3 ГПК РФ; ч. 1 ст. 4 АПК РФ).
Получается в некотором роде «заколдованный круг»: для возбуждения производства по гражданскому делу необходим юридический интерес, выяснить же, имеется ли таковой, можно лишь в результате рассмотрения дела по существу.
Особую сложность представляют гражданские дела с участием публично-правовых образований. Во-первых, действующее цивилистическое процессуальное законодательство не содержит критерия для определения судом, арбитражным судом того, кто именно является стороной спорного материального правоотношения в случае, когда исковое заявление предъявлено органом государственной власти или местного самоуправления. Во-вторых, закон четко не определяет характер интереса, реализуемого публично-правовым образованием в сфере гражданской юрисдикции. С одной стороны, Гражданский кодекс указывает, что в гражданских правоотношениях они выступают на равных с другими субъектами гражданского права, с другой – Конституционный Суд разъяснил, что публично-правовые образования имеют иной объем правоспособности, чем физические и юридические лица[92]. Таким образом, неясно, интерес какого рода реализуют публично-правовые образования в сфере гражданских правоотношений – частный или публичный.
Т.Е. Абова, исследуя проблематику, связанную с процессуальным порядком возбуждения и рассмотрения хозяйственных дел в государственном арбитраже, отмечала сложности, возникающие при решении вопроса о том, является ли заявитель заинтересованным лицом[93]. Очень важным является положение, выдвинутое ученым, о том, что государственные предприятия и организации в процессе могут защищать публичные, а не свои собственные интересы[94].
Предметом защиты в цивилистическом судопроизводстве, по общему правилу, являются субъективные права и интересы, принадлежащие частным лицам. Как указывал А.Х. Гольмстен, государство не всегда заинтересовано в рассмотрении частноправовых споров судом, поскольку при этом подлежат защите в основном индивидуальные интересы[95]. Таким образом, диспозитивность гражданского и арбитражного судопроизводства, проявляющаяся в свободе распоряжения как спорным материальным правом или интересом, так и процессуальными средствами их защиты, в инициировании цивилистического судебного процесса исключительно по волеизъявлению заинтересованных в деле лиц производна именно от частноправовой природы подлежащего защите нарушенного или оспоренного права, законного интереса.
Вместе с тем это правило не является абсолютным. Исторически гражданский процесс, действительно, был формой разрешения частноправовых конфликтов[96]. При этом и в тот период государство уже являлось участником частноправовых, гражданских отношений. Поэтому Е.В. Васьковский отмечал отличие частноправовых и публичных споров с участием государства[97]. Об этом же писал и В.М. Хвостов[98].
Схожий критерий разграничения гражданских дел и дел публично-правовой природы сформулировал Пленум ВС РФ[99]. Руководствуясь этим критерием, можно выявить немало дел, в настоящее время рассматривающихся в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства. Например, дела, возникающие из применения пенсионного законодательства, характеризуются неравенством их участников, один из которых осуществляет властные действия по применению действующего законодательства в соответствующей сфере. Кроме этого, в полной мере отвечают признакам публично-правовых отношений дела, возникающие из норм ГК РФ об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Также нельзя считать частноправовыми трудовые – и особенно служебные споры. Пленум ВС РФ прямо исключил служебные споры из юрисдикции Кодекса административного судопроизводства РФ, но ученые обоснованно полагают, что в этих делах, как минимум, сочетаются частноправовые и публично-правовые черты. Об этом пишет, например, Л.А. Чиканова[100].
Как известно, с принятием в 2015 г. Кодекса административного судопроизводства РФ из ГПК РФ был исключен подразд. 3, содержавший правила рассмотрения и разрешения судами общей юрисдикции дел публично-правовой природы. Однако в АПК РФ одноименный раздел был сохранен, поэтому производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений в сфере осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляется по-прежнему по правилам арбитражного судопроизводства. Строго говоря, это обстоятельство не позволяет относить арбитражный процесс к «цивилистическому судопроизводству».
Помимо этого, даже в тех случаях, когда публично-правовые образования выступают «на равных» с другими участниками гражданского оборота, они тем не менее реализуют гражданские права и интересы в целях наиболее эффективного выполнения публично-правовых функций. Правильно отмечают, что участвует государство в гражданском обороте не в своих частных интересах, а для наиболее эффективного отправления своих властных, общественных функций. При этом оно добровольно ограничивает свои полномочия, выступая наравне с другими субъектами гражданского оборота[101].
Поэтому можно согласиться с утверждением М.С. Шакарян о том, что органы исполнительной власти в процессе действуют от имени государства[102]. Именно потому, что органы публичной власти в конечном счете нацелены на выполнение своих государственных полномочий, даже участвуя в частноправовых отношениях они в дореволюционный период были ограничены в процессуальных возможностях и не могли, например, заключать мировые сделки.
Таким образом, можно констатировать, что публично-правовые дела в сфере гражданской юрисдикции в настоящее время рассматриваются не только по правилам административного судопроизводства, но и в цивилистическом судебном процессе. Предметом судебной защиты в этих делах является публичное право и публичный интерес, а властные полномочия, реализуемые одним из участвующих в них лиц по отношению к другому, приводят к выводу о том, что стороной в них является государство, его субъект или муниципальное образование. И это обстоятельство, несомненно, должно определять специфику процессуального статуса как суда, так и участников дела.
§ 6. Процессуальное положение суда в споре с участием публично-правового образования
Касательно процессуального положения суда, следует отметить, что основополагающим его основанием выступает принцип независимости. При рассмотрении дел частноправового характера он, в подавляющем большинстве случаев, безукоризненно выдерживается. Однако все не так однозначно в ситуации с разрешением судом дела публично-правовой природы.
Являясь органом государственной власти, суд в производстве по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в административном судопроизводстве, фактически, рассматривает спор «сам с собой». Проблема обеспечения независимости суда при рассмотрении дел публично-правового характера волновала ученых еще в дореволюционный период. Эту проблему исследовал, в частности, Е.В. Васьковский[103]. на первый взгляд, гарантией независимости суда при рассмотрении споров граждан с органами публичной власти является разделение властей, это отмечал Н.М. Коркунов[104].
Вместе с тем следует различать независимость суда как органа государственной власти и независимость судьи, рассматривающего дело. Если гарантии независимости суда закреплены на конституционном уровне, то обеспечению независимости судьи служит процессуальный институт отвода. Кроме этого, независимость судей обеспечивается также действием правил формирования состава суда в каждом конкретном случае. Так, в ч. 3 ст. 14 ГПК РФ установлен порядок формирования состава суда, гарантирующий невозможность включения в него заинтересованных в исходе дела лиц. Аналогичное правило установлено ч. 1 ст. 18 АПК РФ. Помимо этого, закон содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть произведена замена судьи или состава суда (ч. 5 ст. 14 ГПК РФ, ч. 3, 4 ст. 18 АПК РФ).
Несоблюдение указанных правил является прямым нарушением норм процессуального законодательства. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции указала, что нарушение порядка и оснований замены состава суда ставят под неразрешимое сомнение законность принятого судебного акта, так как он постановлен с нарушением норм процессуального права. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является, в том числе рассмотрение дела судом в незаконном составе. В связи с этим, кассационная инстанция сочла необходимым отменить апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции именно в связи с незаконным составом суда апелляционной инстанции[105]. На важность соблюдения норм о составе суда указывал и Конституционный Суд РФ[106].
Однако и этой меры недостаточно для обеспечения независимости суда при рассмотрении споров с участием публичных образований. Возможно, выходом из данной ситуации может служить установление положения, согласно которому в системе административного судопроизводства будет закреплен институт административных заседателей (по аналогии с присяжными и арбитражными заседателями). Административными заседателями было бы целесообразно назначать ученых-специалистов в области государственного права и административного судопроизводства.
Также необходимо возродить институт ответственности судей за выносимые ими решения. Как правильно отметил Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, «судьи не несут ответственности за ошибочные судебные решения»[107] – в законодательстве установлена ответственность лишь за вынесение заведомо неправосудных решений[108].
§ 7. Процессуальный статус публично-правовых образований в гражданском и арбитражном процессе
Переходя к рассмотрению вопроса о процессуальном правовом статусе публично-правовых субъектов в гражданском и арбитражном процессе, следует в первую очередь констатировать его связь с их материально-правовым статусом. Все субъекты гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права одновременно являются субъектами гражданского права (в широком смысле). Это понятно, поскольку только субъект, обладающий гражданской правосубъектностью, обладает правосубъектностью процессуальной[109].
Гражданский кодекс РФ к числу субъектов гражданского права относит граждан, юридических лиц, Российскую Федерацию, субъектов Российской Федерации и муниципальные образования (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). Далее, в ч. 1, 2 ст. 125 ГК РФ закреплено, что от имени публично-правовых образований могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы публичной власти в рамках их компетенции.
Используемая законодателем формулировка «могут приобретать права и обязанности» приводит к мысли, что указанные органы могут действовать в гражданском обороте как от имени государства, муниципального образования, так и самостоятельно.
Как уже было отмечено, основанием наделения гражданско-процессуальным статусом является обладание субъектом гражданской правосубъектностью. Соответственно, субъекты гражданского права и гражданского процессуального и арбитражного процессуального права в идеале должны совпадать. Но это не так.
В ст. 2 ГПК РФ[110] указывает круг субъектов, права и интересы которых подлежат защите в рамках гражданского судопроизводства. Как видно, субъектами гражданского процессуального права являются граждане, организации, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и неконкретизированная законодателем группа «других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений».
АПК РФ в ст. 2 к числу субъектов арбитражного процессуального права относит, помимо субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, органы государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц и опять же неконкретизированные «иные органы, должностные лица в указанной сфере».
Итак, из содержания гражданско-процессуальных и арбитражно-процессуальных правовых норм можно сделать вывод, что органы государственной власти и местного самоуправления, должностные лица в гражданских правоотношениях могут действовать как от лица Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, так и выступать в гражданском обороте самостоятельно – от своего имени и в своих интересах. Критерия разграничения правоотношений, в которых названные органы и лица выступают в интересах публично-правовых образований, и в которых они действуют самостоятельно, сегодня ни в законодательстве, ни в судебной практике, ни в доктрине, нет.
По этому поводу существует определенная научная полемика[111]. Большинство исследователей приходят к выводу, что правоотношения с участием публичных образований, направленные на удовлетворение публичного интереса, являются публично-правовыми, а споры, связанные с распоряжением гражданскими правами в личных, субъективных интересах, имеют частноправовой характер. Поэтому, если орган публичной власти преследует общественный (государственный) интерес, то статус стороны в деле занимает само государство, его субъект или муниципальное образование. Если же целью гражданско-правовой деятельности органа публичной власти выступает удовлетворение его собственного, субъективного гражданского интереса, то сторона в деле – это соответствующий орган, а не государство.
Высказано мнение о том, что под государственными органами, за незаконные действия которых государство несет гражданско-правовую ответственность, понимаются как органы исполнительной власти, так и законодательной[112]. Здесь можно добавить, что государство отвечает и за нарушения законности в деятельности органов судебной власти – например, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебных актов в разумный срок выплачивается из казны.
Однако есть законодательно закрепленные примеры того, что органы государственной власти и местного самоуправления в ряде случаев могут самостоятельно становиться стороной в гражданском деле. Например, такая возможность закреплена в ч. 3.1 ст. 38 АПК РФ[113].
Впрочем, сам по себе признак взыскания средств из бюджета прямо не подтверждает, что стороной гражданско-правового конфликта является государство в целом – ведь у судов, как и многих других органов публичной власти, нет собственных источников финансирования, только государственное.
Представляется, что в решении вопроса о том, каков процессуальный статус того или иного публичного образования в цивилистическом судопроизводстве, нужно исходить из фундаментального для процессуальной доктрины понятия юридической заинтересованности в деле.
Как известно, юридическая заинтересованность в гражданском и арбитражном судопроизводстве дифференцируется на материально-правовую и процессуальную. Выявление публичного интереса как объекта судебной защиты должно быть критерием для наделения государства процессуальным статусом стороны в деле[114].
Помимо стороны, публично-правовые образования могут участвовать в гражданском и арбитражном судопроизводстве также в качестве третьих лиц – как заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, так и не заявляющие таковых.
Здесь чрезвычайно важно отталкиваться от сформулированного выше критерия подлежащего защите интереса. В случае, если объектом судебной защиты выступают публичные (общественные) интересы, а стороной в спорном деле является государство, субъект государства или муниципальное образование, орган государственной власти, местного самоуправления, непосредственно участвующие в «смежном» со спорным правоотношении, должен быть привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне государства, его субъекта или муниципального образования.
Также органы государственной власти и местного самоуправления могут быть привлечены в дело как третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора – если рассматриваемый судом, арбитражным судом гражданско-правовой спор связан с их субъективными гражданскими правами и законными интересами.