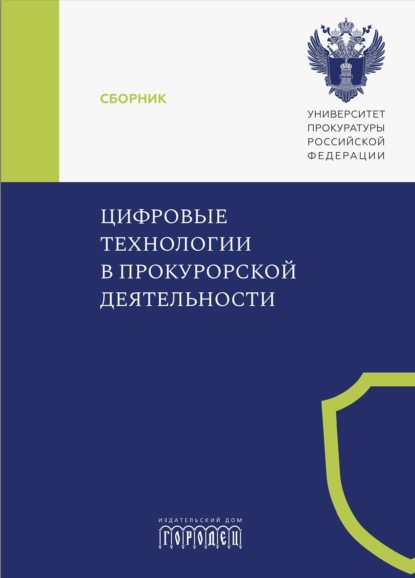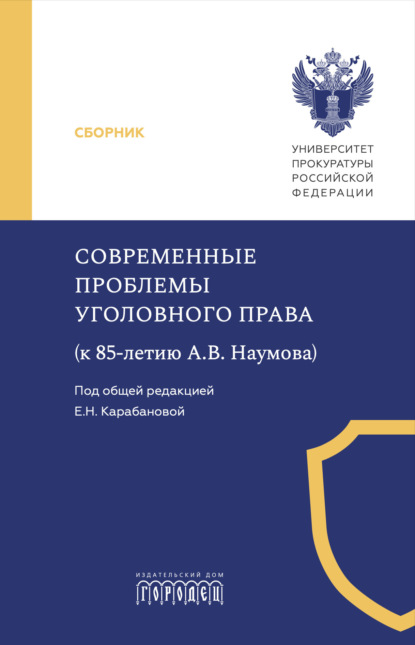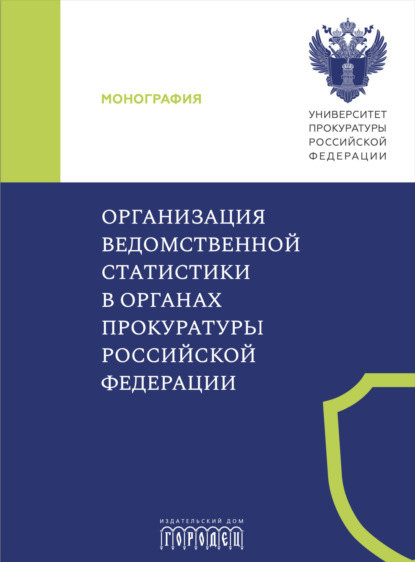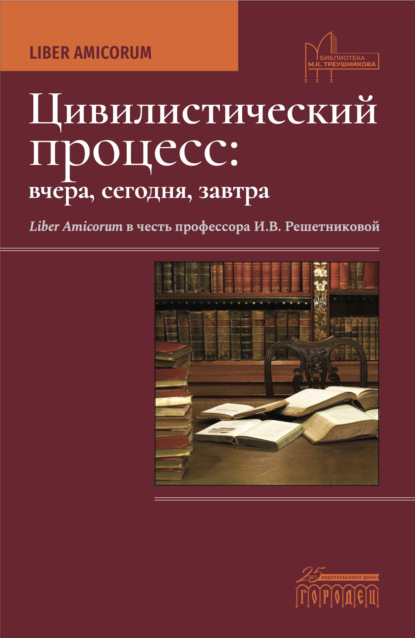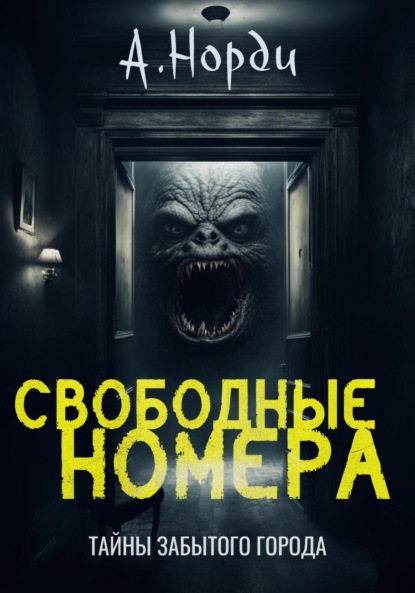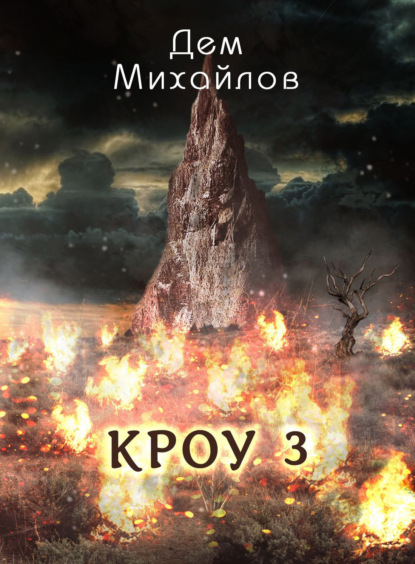Правосудие в современной России. Том 1
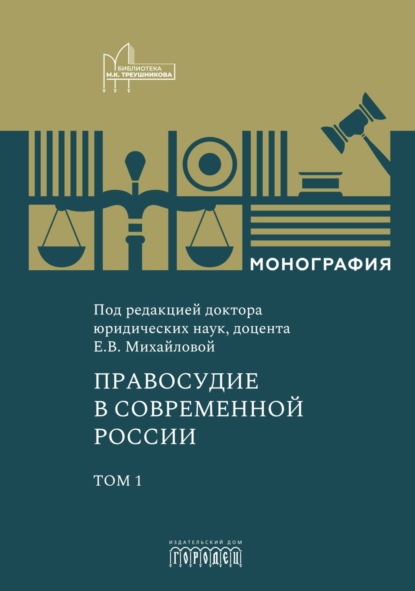
- -
- 100%
- +
Гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство не содержит никаких специальных указаний на то, в каком порядке публично-правовые образования привлекаются к участию в деле. Так, ст. 47 ГПК РФ[115] предусматривает возможность участия органов публичной власти в процессе для дачи заключения по делу. Расплывчатая формулировка «привлечь для достижения целей» не дает ответа на вопрос, в каком процессуальном статусе привлекаются данные лица.
Дача заключения по делу – это отдельная форма участия публично-правовых субъектов в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Ее важно отграничить от их участия в деле в качестве третьих лиц.
Участие в деле в целях дачи по нему заключения не предполагает наличия у публично-правового образования юридической заинтересованности в деле. В соответствии с этим, указанные субъекты не могут распоряжаться спорным материальным правом или интересом, выступающим объектом судебной защиты. Таким образом, они не вправе изменять заявленные требования, отказываться от них и признавать, заключать мировые соглашения. Напротив, в случае, если публично-правовое образование участвует в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, оно фактически является третьей стороной в споре и его процессуально-правовой статус идентичен правовому статусу истца. Очевидно, что вопрос привлечения к делу в том или ином статусе для государства, как и для любого другого субъекта гражданского права, имеет принципиальное, основополагающее значение.
Сложнее обстоит вопрос с участием публичных образований в гражданском и арбитражном судопроизводстве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Такие третьи лица не являются претендентами на предмет спора, не участвуют в спорном материальном правоотношении и не занимают отдельное правовое положение в процессе, «примыкая» к той или другой стороне рассматриваемого судом дела. Однако они все же заинтересованы в исходе дела, поскольку он может повлиять на их права и обязанности в будущем. В силу этого они обладают всеми процессуальными возможностями лиц, участвующих в деле.
Субъект, вступающий в дело для дачи по нему заключения, не имеет в нем заинтересованности ни прямой, ни косвенной. Именно поэтому, как представляется, публично-правовые образования, участвующие в деле в форме дачи заключения, не должны пользоваться специальными (распорядительными) процессуальными правами лица, участвующего в деле, такими как право на изменение или отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения.
Действующий ГПК РФ, к сожалению, не проводит разграничения между формами участия в деле публичных образований и их процессуальными правами и обязанностями. В тексте ст. 34 к числу лиц, участвующих в деле, отнесен прокурор – без конкретизации формы его участия в деле – и «лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения». Таким образом, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, органы государственной власти и местного самоуправления не выделены в числе участников гражданского судопроизводства ни по признаку реализуемого правового статуса, ни по форме участия в деле.
Думается, что требуется восполнить данный пробел и закрепить процессуальные статусы публично-правовых образований, участвующих в гражданском деле, в зависимости от формы их участия. Если публично-правовой субъект обладает материальной заинтересованностью в деле, то он должен привлекаться к нему в качестве стороны или третьего лица – как заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, так и не заявляющего их. В этом случае указанные субъекты должны наделяться всем комплексом процессуальных прав и обязанностей лиц, участвующих в деле.
Если публичное образование привлекается к участию в цивилистическом судебном процессе с целью дачи заключения по делу, оно лишено юридической заинтересованности в деле и не может располагать те ми же процессуальными средствами, что и лица, участвующие в деле. В частности, они не могут изменять исковые требования, признавать иск, отказываться от иска, заключать мировое соглашение.
Представляется, что существует необходимость закрепления в ГПК РФ и АПК РФ отдельных правовых норм, регулирующих правовой статус публичных образований, участвующих в деле в различных формах. Наличие в деле юридической заинтересованности материально-правового отношения, предполагаемая судом связь субъекта со спорным правоотношением должны выступать легальным критерием для наделения его не только общими, но и специальными (распорядительными) процессуальными правами. Отсутствие материально-правовой заинтересованности в деле (участие в нем в целях дачи заключения) не позволяет предоставить субъекту права распоряжаться предметом спора и «судьбой» процесса.
§ 8. Особенности рассмотрения гражданских дел с участием прокурора
Отдельного рассмотрения требует вопрос процессуального статуса прокурора в гражданском и арбитражном процессе.
В рамках выполнения своей надзорной функции прокуратура призвана выявлять правонарушения в сфере гражданской юрисдикции и, не имея полномочий по их самостоятельному устранению и восстановлению нарушенных прав и интересов, обращаться с заявлениями о возбуждении производства по гражданскому делу в суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Такое положение существовало еще в дореволюционный период: Е.В. Васьковский отмечал, что прокуроры осуществляют надзор за судебными учреждениями, однако права самостоятельно принимать какие-либо меры они не имеют и должны о выявленных нарушениях сообщать соответствующим высшим органам государственной власти[116]. Об этом же писал Е.А. Нефедьев[117].
При этом прокурор, подавший заявление о возбуждении гражданского или арбитражного судопроизводства, занимает в нем процессуально-правовой статус лица, участвующего в деле – наряду со сторонами и третьими лицами. Его публично-правовой статус в цивилистическом судебном процессе нивелируется. Так, Л.А. Терехова предлагает уравнять правовое положение прокурора и иных лиц, участвующих в деле[118]. С этим суждением трудно согласиться.
Представляется, что процессуально-правовой статус прокурора в гражданском деле зависит от формы его участия в нем – и, соответственно, от наличия или отсутствия у него материальной заинтересованности в деле. Так, если прокурор в цивилистическом процессе действует в защиту интересов публично-правовых образований или неограниченного круга лиц – он должен наделяться правовым статусом стороны (или третьего лица).
Прокурор, вступивший в дело в целях дачи по нему заключения, материальной заинтересованности не имеет, участником спорного материального правоотношения не является и выполняет функцию оказания суду содействия в правильном и своевременном рассмотрении и разрешении дела[119].
ГПК РФ и АПК РФ относят прокурора к числу лиц, участвующих в деле (ст. 34 ГПК РФ, ст. 40 АПК РФ), при этом форма его участия в деле не названа в качестве квалифицирующего признака для определения объема его прав и обязанностей в каждом конкретном случае. Лица, участвующие в деле, наделяются законодателем целым рядом процессуальных прав, производных от характера их заинтересованности в деле. Так, стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, имеют так называемые распорядительные права, позволяющие им распоряжаться предметом судебной защиты – отказываться от иска, признавать его, изменять иск, заявлять встречное исковое требование, заключать мировое соглашение. Третьи лица, самостоятельных требований относительно предмета спора не заявляющие, соответственно, предметом спора распоряжаться не могут.
Однако все без исключения лица, участвующие в деле, наделяются комплексом так называемых общих процессуальных прав и обязанностей. Они весьма многочисленны и перечислены в ст. 35 ГПК РФ[120] и ст. 41 АПК РФ. Как видно, лица, которые отнесены законом к участникам гражданского и арбитражного судопроизводства, лишенные материально-правовой заинтересованности в деле, вправе тем не менее оказывать влияние на «судьбу» процесса. Например, обжалование судебного акта влечет его проверку и возможную отмену или изменение, причем достаточно часто это происходит не потому, что нижестоящий суд принял неправильное решение, а потому, что во многих случаях суд принимает решение, руководствуясь не только законом, но и собственным внутренним убеждением, которое может не совпадать с мнением суда вышестоящей инстанции.
В этой связи видится правильным наделять отдельными «общими» процессуальными правами, которые имеют распорядительный характер (например, правом по обжалованию судебных постановлений) не всех субъектов, отнесенных к лицам, участвующим в деле, а только тех, кто имеет в нем материально-правовую заинтересованность. В целом представляется, что отдельные процессуальные возможности, указанные в ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ, нужно отнести к специальным, распорядительным правам, и поместить в ст. 39 ГПК РФ и ст. 49 АПК РФ.
Прокурор, вступающий в гражданское дело для дачи заключения, вряд ли может обладать правом обжаловать принятые по делу акты. Однако, представляя интересы государства, муниципального образования или неограниченного круга лиц, он является стороной рассматриваемого судом дела и должен иметь весь круг процессуальных прав, включая распорядительные права.
Тем не менее нельзя недооценивать заключение прокурора по гражданскому делу. В действующем гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном законодательстве статус его заключения не определен, в силу чего зачастую его рассматривают как одно из доказательств в деле. Думается, что это не совсем правильный подход. Доказательства представляются участниками дела в рамках обоснования ими заявленных требований и возражений, прокурор же, давая заключение по делу, участником спорного материального правоотношения не является и заинтересованности в деле не имеет. Он выступает от имени и в интересах государства, реализуя при этом свои публично-правовые функции по обеспечению надзора за соблюдением законности. Следовательно, даваемое им заключение по делу не может быть расценено как доказательство, это – акт публично-правового характера, содержащий государственную оценку заявленных требований и обстоятельств дела. по этой причине заключение прокурора для суда должно иметь обязательное значение и, в случае несогласия с его позицией, суду следует указать причины этого несогласия.
В современных условиях необходимо также расширять так называемую инициативную форму участия прокурора в цивилистическом судебном процессе. В первую очередь это касается арбитражного судопроизводства. В арбитражном процессе прокурор защищает лишь интересы государства и интересы неопределенного круга лиц[121]. Как верно отмечают И.Ю. Русских и Т.Н. Пушкина, интересы конкретного лица в арбитражном процессе прокурор защищать не вправе[122].
Вместе с тем к числу субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности относятся и субъекты малого и среднего бизнеса, и крестьянские (фермерские) хозяйства, и, в ряде случаев, граждане без статуса индивидуального предпринимателя. В ряде случаев они не имеют возможности (в том числе финансовой) самостоятельно эффективно защитить свои права и интересы, и обращение к прокурору с просьбой выступить в защиту их прав может быть единственным средством реализации их конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. Очевидно, что сегодня назрела острая необходимость расширить функции прокуратуры в сфере гражданской юрисдикции и закрепить его право обращаться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении судопроизводства в защиту прав и интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно защитить свои права. Безусловно, прокурор обязан руководствоваться исключительно требованиями законодательства и в случае, если в ходе рассмотрения дела придет к выводу о необоснованности заявленных требований, отказаться от дальнейшего участия в деле. При этом только сам истец (субъект, в интересах которого прокурор инициировал судопроизводство) вправе, по аналогии с правилами ст. 45 ГПК РФ, отказаться от иска (заявленного материально-правового требования)[123].
Что касается гражданского судопроизводства, то функции прокурора в нем традиционно шире, чем в арбитражном. Однако сегодня и они недостаточны.
Как известно, в соответствии с принципом диспозитивности возбуждение гражданского и арбитражного судопроизводства возможно не иначе, как по воле самого обладателя нарушенного или оспоренного гражданского права или законного интереса. из этого правила есть исключения, связанные как раз с правом прокурора и – в отдельных случаях – органов публичной власти, граждан и организаций обращаться в суд с заявлением о возбуждении дел в защиту «чужих» интересов.
Однако закон ограничивает право уполномоченных субъектов на возбуждение дела в «чужих» интересах наличием серьезных оснований[124], примеры которых перечислены в ст. 45 ГПК РФ. Поскольку перечень оснований не является исчерпывающим, данное право может быть реализовано и в силу других «уважительных причин». Данная формулировка фактически означает решение вопроса о том, имеется ли у гражданина возможность самостоятельно защищать свои права или нет, на основании судебного усмотрения. Представляется, что в целях повышения качества и эффективности судебной защиты гражданских прав, свобод и законных интересов следует прибегнуть к более четким критериям и специально указать на ряд обстоятельств, позволяющих прокурору возбуждать гражданское судопроизводства в интересах отдельных категорий граждан. В первую очередь к числу таких обстоятельств нужно отнести участие гражданина в военных действиях и прохождение им военной службы (срочной или по контракту).
Предлагается дополнить нормы ст. 39 КАС РФ и ст. 45 ГПК РФ указанием на призыв гражданина на военную службу в рамках мобилизации как основание возбуждение дела в защиту его прав и интересов прокурором. Также следует внести в действующее законодательство о прокуратуре указание на право членов семьи призванного по мобилизации гражданина обращаться с заявлением к прокурору о возбуждении дела в защиту его прав[125].
Глава 2
Об изменении вектора развития механизма правосудия в Российской Федерации
§ 1. Общие подходы к проблеме
Юристы Древнего Рима были уверены: Justitia regnorum funda-mentum («Правосудие – основа государства»). Не властители, не крепкая непобедимая армия, не экономика, не – даже – народ Рима, а именно правосудие. Очевидно, чем справедливее и эффективнее работает суд, тем крепче его государство.
Проведение специальной военной операции потребовало перестройки определенной части экономики на мобилизационный лад, что с неизбежностью повлекло за собой модернизацию правового регулирования отношений в этой сфере.
Участники XIV Международной Грушинской социологической конференции пришли к выводу: проведение СВО не привело к панике среди населения, общество сохраняет спокойствие, и, несмотря на то, что СССР/Россия, как и большинство западных и крупных азиатских стран давно не жертвовали ничем серьезным – ни жизнями, ни уровнем потребления, давно не сталкивались с массированной военной пропагандой и военным информационным воздействием, сегодня – можно зафиксировать – и власть, и армия, и население адаптировались к реалиям, а это – огромный успех[126].
Какова основная задача, которую механизм правосудия должен решать своей деятельностью, какова основная цель, которую суды и судьи должны достичь, верша правосудие?
Статья 10 Конституции РФ провозглашает, что государственная власть в нашей стране осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную, органы которых самостоятельны. Часть 1 ст. 11 Конституции РФ указывает: государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума ФС РФ), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Таким образом, судебную власть осуществляют в России суды, а более точно – работающие в них судьи. При этом небезынтересно, что в названиях соответствующих глав Конституции РФ, посвященных ветвям государственной власти, слово «власть» присутствует лишь применительно к судебной власти (гл. 7 так и именуется «Судебная власть»), тогда как иные главы (гл. 4, 5 и 6) в своих наименованиях (соответственно, «Президент Российской Федерации», «Федеральное Собрание», «Правительство Российской Федерации») слова «власть» не содержат. И это при том (а может быть, именно поэтому), что в последних трех случаях органы, осуществляющие государственную власть, и органы, ее олицетворяющие, тождественны.
Принципиально иное дело – судебная власть, которую, как сказано в ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, осуществляют суды. Да и в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ сказано, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, что является исключительной прерогативой именно судов. Но их в России несколько тысяч. И весь совокупный судебный корпус России, состоящий более чем из 30 тыс. судей, непосредственно осуществляет судебную власть. В п. 1 ст. 29 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в п. 1 ст. 3 Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» установлено: судьи – носители судебной власти. В п. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона о судебной системе и в п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» императивно провозглашено, что судебная власть в России осуществляется только судами в лице судей (и заседателей) и принадлежит им и т. д.
Олицетворяют ли судебную власть в России несколько тысяч судов, 30 тыс. российских судей, непосредственно ее осуществляющих?
Понимание «олицетворять власть» не вполне нормативно-правовое, не включено в соответствующие глоссарии, не «понятийно» в научном обороте и т. д., в отличие от понятия «судебная власть» – здесь в научных исследованиях нет недостатка. по этому вопросу вполне определенно высказался Конституционный Суд РФ: «Особым местом судебной власти в системе разделения властей и ее прерогативами по осуществлению правосудия, вытекающими из статей 10, 11 (часть 1), 18, 118 (часть 2), 120 (часть 1), 125–127 и 128 (часть 3) Конституции РФ, обусловлена ценность закрепленного ее статьей 46 (части 1 и 2) права на судебную защиту как гарантии всех других прав и свобод человека и гражданина. Именно судебная власть, независимая и беспристрастная по своей природе, играет решающую роль в государственной защите прав и свобод человека и гражданина, и именно суд окончательно разрешает спор о праве, чем предопределяется значение судебных решений как государственных правовых актов, выносимых именем Российской Федерации и имеющих общеобязательный характер»[127].
Разумеется, в нашей стране есть федеральные государственные органы, которые ни к одной ветви государственной власти отнести нельзя: Президент РФ, прокуратура, Центральный банк, Счетная палата, Центральная избирательная комиссия, Уполномоченный по правам человека…[128]
На самом закате исторического периода Советской власти, в 1991 г., была разработана Концепция судебной реформы РСФСР. Этот документ, одобренный (даже не утвержденный) постановлением ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1, хотя в нем и предписывалось ряду адресатов «разработать пакет документов», оказался, по факту, никого ни к чему и ни в чем не обязывающим, ибо в развитие Концепции[129] нужно было разработать системно изложенный план действий, определить ответственных за реализацию каждого пункта плана, источники финансирования работ и т. д.
Этой Концепцией обозначились качественно новые для того времени институты правосудия: суд присяжных, мировая юстиция, Конституционный суд РФ, и вообще ее авторами были девять неравнодушных ученых высокого уровня правового профессионализма. Но время было такое – значительная часть Концепции была посвящена противостоянию – в судебном плане – Союзному центру. И она не вполне стала фундаментом для построения нового правосудия.
Думается, необходимо модернизационное преобразование отечественного организационно-правового механизма правосудия, всех его звеньев в направлении обеспечения им справедливой правосудной деятельности. Многое в этом направлении с тех пор делалось и делается, разными способами и в различных формах, хотя и не провозглашается это направление, за редкими исключениями, официально. И в этом главная заслуга самой судебной власти, самого судейского корпуса, руководителей судебных органов, органов судейского сообщества. Но, по большому счету, это действия тактического уровня.
Необходимо же изменение механизма правосудия в направлении обеспечения его правосудной деятельности на началах справедливости под лозунгом «Больше судов, хороших и разных». А это не всегда в пределах возможностей механизма правосудия.
Подтверждением чему служит постановление VIII Всероссийского съезда судей от 19.12.2012 № 1 «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития», где (в отдельном абзаце преамбулы, редакция которого была, так уж технически получилось, проголосована отдельно и единогласно всеми делегатами съезда) было провозглашено: «Все более настоятельной потребностью становится необходимость разработки государственного проекта стратегических преобразований организационно-правового механизма отечественного правосудия, конечной целью которых стало бы построение справедливого суда, отвечающего чаяниям российского общества. К отысканию путей решения этой задачи целесообразно привлечение потенциала высших судов страны, соответствующих государственных органов, научных учреждений, органов судейского сообщества и общественных формирований».
Но эта однозначно выраженная воля судейского корпуса страны (поскольку Всероссийский съезд судей – это высший орган судейского сообщества, а все без исключения судьи становятся членами судейского сообщества страны с момента принесения ими судейской присяги) осталась без каких-либо последствий, без чьего-либо реагирования.
Почему? Не потому, что этому препятствует чья-то злая воля. А потому, что непросто организовать разработку проекта преобразований механизма правосудия, обеспечить его реализацию.
Упрощение судебных процедур – паллиатив. Этот путь имеет пределы, иначе правосудие перестанет быть справедливым. Да и правовая наука, прежде всего – фундаментальная, способна выработать предложения по реальному сокращению количества дел, поступающих в судебную систему, без снижения уровня доступности к правосудию.
Сегодня сама жизнь предъявляет к науке права более высокие, чем еще вчера, требования: переход на более высокий уровень обобщения исследуемой сферы общественных отношений; видение целостной картины нашего общества и общественных отношений на основе наших традиционных ценностей в сферах морали, нравственности, этики и права; формирование концепций правового будущего российского общества и пр., что позволит сформулировать системно обоснованный алгоритм ее совершенствования. А для этого нужна правильно организованная методология этой модернизации, что, безусловно, невозможно без должного научного обеспечения самой методологии.
Сами модернизационные мероприятия в научно-правовых сферах могут быть фундаментальными, поисковыми и прикладными – в зависимости от целей, которые ставит перед собой общество, а цели эти обусловлены, прежде всего, осознанными и сформулированными потребностями практики. В нашем случае – потребностями правосудия. При этом очевидно: как прикладные, так и поисковые научные исследования не могут не опираться на достижения фундаментальной науки, которая является генератором идей и проектов. Однако следует отметить, что любые научные идеи имеют свойство много терять в своей мудрости при столкновении реалиями практического воплощения их в жизнь.
В научной литературе отмечается: при подготовке прогнозов будущего состояния права следует использовать уже имеющееся научное знание об устойчивом и неустойчивом состояниях сложных саморазвивающихся систем, особенностях их «поведения» и воспроизводства в этих состояниях, о роли программы саморегуляции в процессе функционирования системы и ее способности мутировать в результате внешнего воздействия, а также о «механизме» и закономерностях фазового перехода[130].
Так, стремительно развиваются в судебной системе интернет-технологии: как известно, к началу 2024 г. в судебной системе функционировало 115 сайтов арбитражных судов, 2307 – судов общей юрисдикции, 7818 сайтов судебных участков мировых судей, 258 сайтов органов судейского сообщества и т. д. И это обстоятельство, вкупе с осознанием будущего роста данных показателей, требует уделения большего внимания проблематике искусственного интеллекта в правосудии.