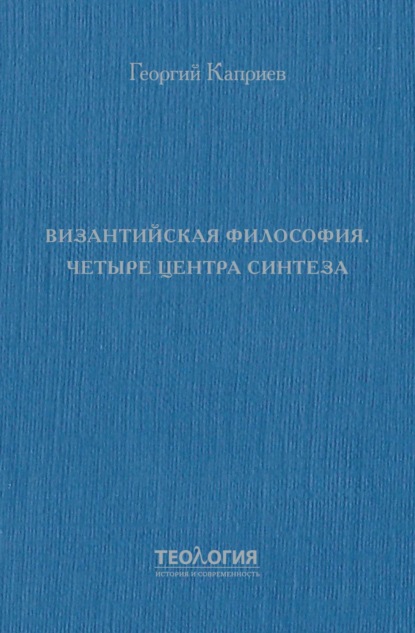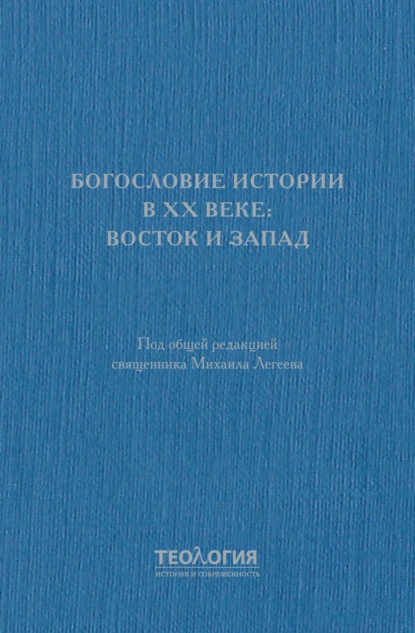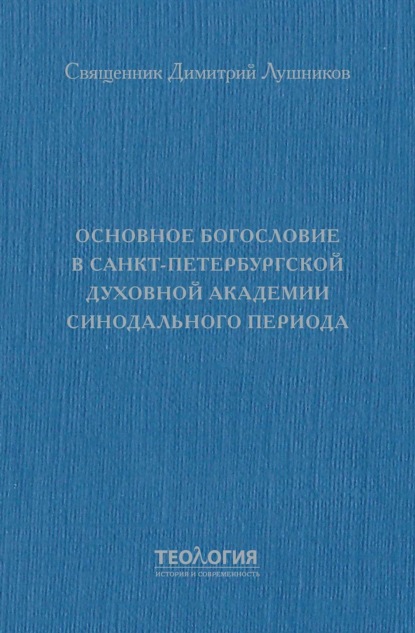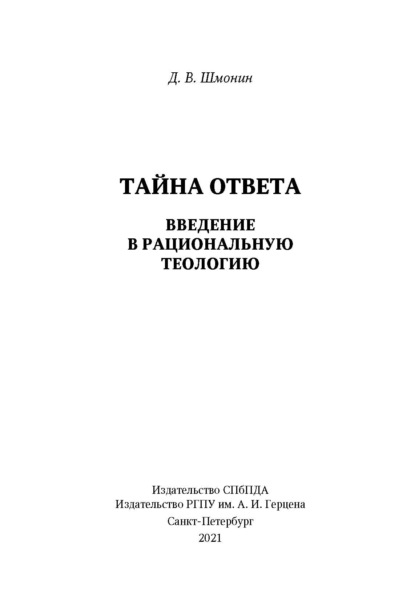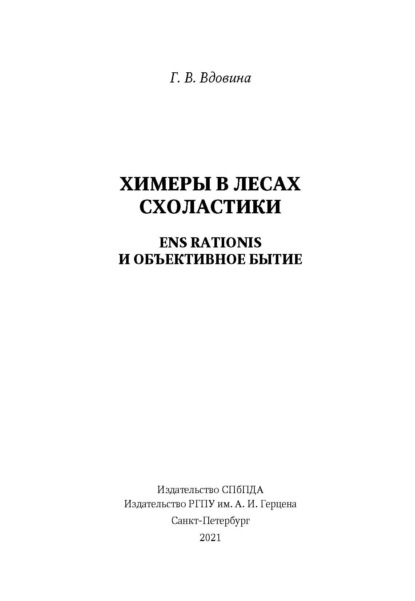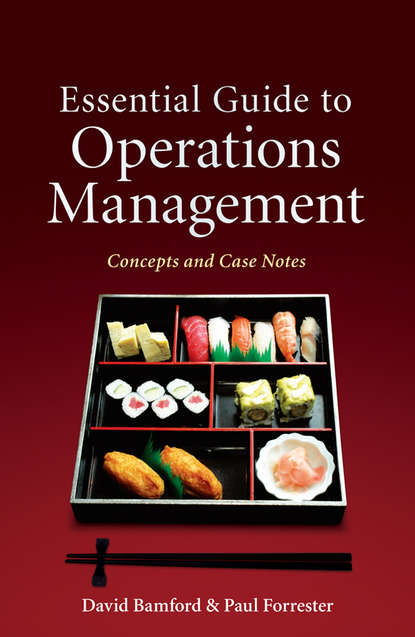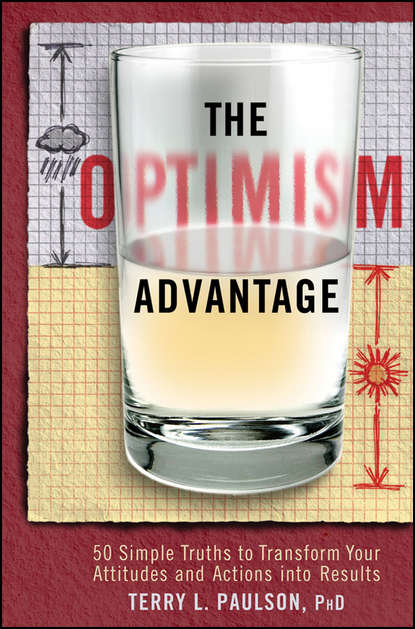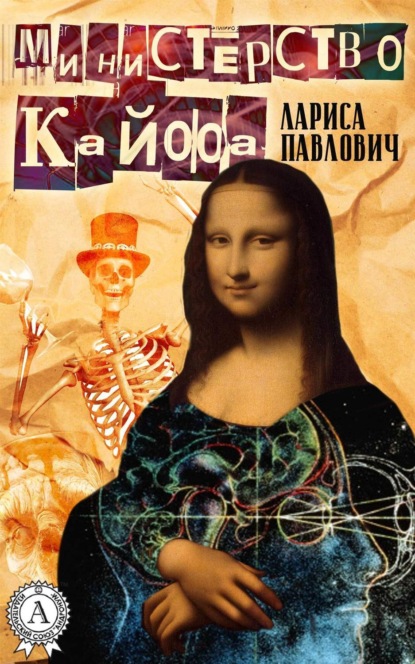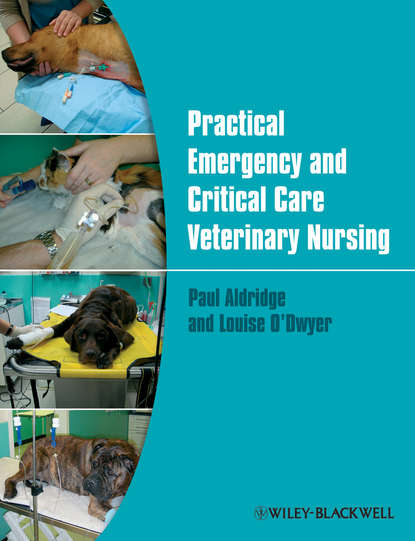Теология образования в христианской парадигме
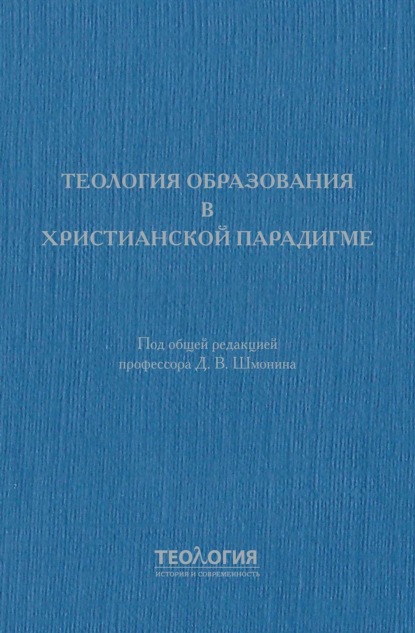
- -
- 100%
- +
Меланхтон был вынужден решать ряд острых проблем в области образования, возникших в ходе Реформации. Если в Католической Церкви богословское образование традиционно требовалось прежде всего для принятия священного сана и монашества, распространение протестантизма привело к закрытию многих образовательных учреждений при соборах и монастырях (преподаватели оставляли сан и вступали в брак, разрушалась прежняя система финансирования и т. д.). С другой стороны, ряд представителей радикального крыла Реформации выступал против гуманистического образования, делая акцент на непосредственном просвещении Духом Божиим[30]; это могло приводить даже к общественным беспорядкам (например, в Виттенберге в 1521 г.). Очевидно, что для успешного решения возникших проблем требовалось вмешательство светских властей, которые нужно было убедить в необходимости долгосрочной и систематической поддержки образовательной сферы в новых общественных условиях. Именно Меланхтон сыграл в этом важную роль, проводя разъяснительную работу среди протестантских земельных князей и городских советов, создавая новую образовательную систему (без прежней опоры на монастыри), открывая школы, готовя учебники, в которых он стремился объединить христианский и гуманистический подходы. Безусловно, он осуществлял эту деятельность не один, его соратниками были Иоганн Бугенхаген (1485–1558), Иоганн Агрикола в Айслебене (1492–1566), Иоганн Бренц в Вюртемберге (1499–1570), Иоахим Камерарий в Заксене (1500–1574), Иоганн Штурм в Страсбурге (1507–1586) и др. Их силами была создана новая система немецкоязычных школ (прежде всего в Северной Германии)[31]. Возникновение этого нового общедоступного уровня, в рамках которого дети крестьян также могли овладевать культурой чтения и письма, было важным шагом. До сих пор в основе образования лежало изучение классической латыни (характерно, что еще в 1570 г. ок. 70 % всех книг в Германии издавались на латинском языке), знание которой являлось границей между образованным меньшинством и неграмотным большинством. Именно эта «новая школа» была призвана стать основой развития «новой Церкви». Такая активная деятельность привела к тому, что еще при жизни Меланхтона называли «учителем Германии» (praeceptor Germaniae).
Безусловно, быстрое распространение Реформации было немыслимо без университетов. Характерно, что она началась в 1517 г. в молодом Виттенбергском университете (основан в 1502 г.) – именно здесь были написаны знаменитые 95 тезисов, целью которых был не разрыв с Римом, но начало академической дискуссии. Успеху нового учения во многом способствовала именно университетская среда, предполагавшая широкие научные дискуссии и делавшая акцент на свободном развитии индивидуума. Лютер и многие его соратники первоначально озвучивали свои богословские мысли в кругу студентов, которые затем активно распространяли новые идеи. Многие важные события в истории немецкой Реформации (напр., Лейпцигский диспут) также происходили в форме академических дискуссий, а благодаря книгопечатанию их аудитория быстро расширялась. Новая Церковь нуждалась в своей собственной системе высшего образования пасторов, преподавателей, ученых; латинский язык при этом оставался важным средством интернационализации протестантизма. Поэтому Лютер, резко критикуя традиционную схоластическую образовательную систему своих противников[32], одновременно горячо призывал курфюрстов поддерживать университеты в качестве интеллектуальных центров протестантских земель. Так, в 1532 г. евангелическим стал университет в Базеле, в 1535 г. – в Тюбингене, Грайфсвальде и Ростоке, в 1539 г. – в Франкфурте-на-Одере и Лейпциге; в качестве протестантских были основаны университеты в Марбурге (1527), Кенигсберге (1544), Йене (1558). Важнейшим кальвинистским университетом стала основанная в 1559 г. Женевская академия.
Тем самым в XVI в. на Западе возник новый интерес к сфере образования и воспитания. Реформация и государственная власть стремились совместно организовывать и контролировать эту сферу для решения задач, возникающих перед Церковью и обществом. Богословская рефлексия и практические реформы шли рука об руку, в результате появился уникальный симбиоз протестантизма и образования, идеи которого во многом определили динамику развития последующих столетий: всеобщее образование, равенство возможностей, государственная поддержка образования как служение общественному благу, дальнейшее самостоятельное формирование педагогики как науки.
Конфессионализация и секуляризация: утрата позиций (Д. В. Шмонин)
О католическом ответе на богословско-педагогические идеи реформаторов написано достаточно много, в том числе, и авторами нашей монографии[33]. Ориентируя читателя на эту доступную литературу, отметим лишь имена важных для сохранения принципов христианской образовательной парадигмы теологов и деятелей образования эпохи контрреформации: доминиканца Франсиско де Виториа (1492–1546), основателя Общества Иисуса Игнатия Лойолу (1491–1556), Петра Канизия (1521–1597), Иеронима Надаля (1507–1580), Клавдия Аквавиву (1543–1615, генерала ордена иезуитов с 1581 г.). Педагогические заслуги каждого из них достойны, как минимум, отдельного очерка, а список далеко не полон. Заметим только, что иезуитам в XVI в. удалось выстроить обновленную модель католического университетского образования.
Более того, в конкурентной борьбе с гуманистическими и протестантскими педагогами они создали модель средней и старшей школы (l'enseignement secondaire, la segunda enseñanza), которая оказала влияние на становление школьного образования в европейских странах[34]. Среди известных теологов и педагогов, работавших в условиях формирования секулярной парадигмы, отмечают Жана-Батиста де Ла Саля (La Salle, 1651–1719), создателя учебных заведений нескольких типов, в том числе – первой в католической Европе учительской семинарии. Он особо известен как родоначальник Конгрегации братьев христианских школ (Institutum Fratrum Scholarum Christianarum или Fratres Scholarum Christianarum) – мощной ассоциации католического образования, сформировавшей целую систему ласальянской педагогики[35]. В евангелическо-лютеранском ареале аналогичной работой занимался Герман Август Франке (1663–1727), профессор университета в Галле, «автор идеи» пиетистских школ (collegia pietatis) и создатель едва ли не первого в протестантской Европе специализированного педагогического училища (Seminarium selectum praeceptorum)[36].
Религиозное разделение христианской Европы, послужившее причиной снижения нормотворческого влияния теологии на систему образования несмотря на развитие протестантских и католических моделей, дало, тем не менее, определенный импульс развитию христианской педагогической мысли и школьного образования в Новое время, в условиях начинавшейся секуляризации.
Усиленная Просвещением и научным прогрессом XIX в., сформировалась новоевропейская, секулярная просвещенческая парадигма, которую можно было считать современной буквально до текущего десятилетия. Очевидно, что эта третья парадигма, эта секуляристская эпоха в образовании в наши дни подвержена внутреннему и внешнему давлению. Глобальный кризис образовательной системы очевиден. Секулярная парадигма перерастает на наших глазах во что-то новое. И осмыслению того, каковы должны быть эти новые формы, также посвящена эта книга.
Далее заметим, что христианская парадигма, утратив свою универсальность в Новое время, осталась ценностно значимой, единственной, чей мировоззренческий ресурс оказывается востребованным, незаменимым, и – по мнению авторов книги – принципиально неисчерпаемым.
Завершающие монографию сюжеты посвящены сравнительному рассмотрению характеристик секулярной и христианской парадигм и с точки зрения вечности, и в плане формирования новой образовательной парадигмы, которая призвана впитать, вобрать в себя лучшее из предшествующих парадигм с опорой на парадигму главную – христианскую.
Авторы показывают необходимость жизненной сверхзадачи и высшей истины в любой мировоззренческой системе и разрушительность снижения высоких идеалов образования, их замены исключительно экзистенциально-прагматическими целями.
В наши дни следует говорить уже не столько о секулярном веке[37], о социальных опасностях глобально ускоряющегося технологического развития, о комплексе проблем мультикультуралистского мира и, одновременно, о способе их решений, но об опасностях стремительно меняющегося общего рисунка планеты, об обостряющихся формах борьбы новых и старых центров силы на ней, об искусственном создании и намеренной подпитке этими старыми центрами межрелигиозных, межконфессиональных конфликтов как инструментов, как видов оружия в этой борьбе. С кризисом миропорядка тесно связан ценностно-мировоззренческий кризис. В нем авторы усматривают отражение запечатленной в библейской истории ошибки праотцев, устремившихся к решению жизненной сверхзадачи вне Бога.
Конечно, мы не предлагаем механического возвращения к идеализированному средневековому мировосприятию. Мы предлагаем использовать духовный и интеллектуальный ресурс, данный человечеству Богом и запечатленный в теории и практике христианской образовательной парадигмы.
В этом – общая идея монографии: развернуть очерки, описывающие предысторию, рождение и развитие христианской образовательной парадигмы, причем в актуальном для нас и менее исследованном ее православном изводе, и дополнить их введением в теологию образования.
Теология образования (Д. В. Шмонин)
В современной ситуации образование должно стать – выразимся метафорически – «защищенной статьей бюджета» в нашем обществе, в нашем государстве, в нашем сознании. Иными словами, проблемы образования должны решаться в приоритетном порядке; следовательно, они требуют первоочередного качественного анализа в контексте истории, философии и теологии.
Место религии в образовании определяется ее ролью – ролью хранительницы ценностно-мировоззренческого ядра культуры, нравственных устоев и социальной этики, т. е. тех самых абсолютных ценностей, о которых мы сказали выше. Религиозная традиция аккумулирует в себе эти ценности и смыслы, а теология раскрывает их, выполняя дескриптивную и нормативную функции одновременно.
Исторически и методологически теологию образования можно рассматривать уже с точки зрения традиционных, восходящих к Аристотелю классификаций наук, в которых теология рассматривалась как высший – метафизический, «перво-философский» и собственно богословский (наука о божественном) – уровень осмысления всего сущего.
Напомним в связи с этим о редко разбираемых изменениях смысла и содержания философии при переходе от платоновско-аристотелевского к позднеантично-раннесредневековому ее формату, когда под философией начинают понимать сумму знаний о мире, а наука о сущем – та самая первая философия, метафизика, теология – вымывается из тривиально-квадривиальной последовательности дисциплин и превращается в теоретическое «знание причин вещей божественных и человеческих», «госпожу всех предварительных наук», по выражению Климента Александрийского[38]. Спекулятивный уровень мышления, нацеленный на высшее сущее, понимается и как рационально-теологическое знание о Боге и как философский синтез знаний о мире. И строится указанный синтез трудами перечисленных выше отцов Церкви и церковных писателей, которые пользуются философским инструментарием платоников, перипатетиков, стоиков и т. п., не обращая особого внимания на происхождение попавших в их руки инструментов.
Как мы показали выше, в Новое время правительства стран постепенно оттесняют Церковь от надзора за высшим и средним образованием, заменяя ее попечение своим административным управлением. В этот период закрепляется разделение образования на религиозное (конфессиональное) и государственное (светское), когда забота о школе и об университете приобретает утилитарный характер. Школа и университет становятся местом подготовки кадров для государства.
В философских учениях Нового времени, определивших лицо секулярной образовательной парадигмы[39], было относительно небольшое число крупных мыслителей (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант и др.), благодаря которым составили набор авторитетных подходов к педагогической антропологии и вопросам образования. Эти философские подходы заменили теологию, ранее выполнявшую нормотворческую функцию в образовании. Педагогики-теоретики и педагоги-практики, в том числе в России, в основном строили свою работу исходя из учений философов, под влиянием которых находились[40].
В конце XIX и первые десятилетия XX вв. появилась и стала усиливаться настороженность педагогов по отношению к философии как теоретическому регулятиву. На это повлияли и разнообразие неклассических философских учений, и социальные катаклизмы, изменившие лицо мира – Первая мировая война, революции, распад крупных христианских империй, который повлек отказ от религии как от источника ценностно-мировоззренческой нормы в образовании в возникших на их месте государствах.
«Слабость и растерянность педагогической мысли», «внутренний тупик, в котором находится современная педагогика», констатирует в первой половине 30-х гг. прошлого столетия В. В. Зеньковский (позднее – протопресвитер Василий), которого можно назвать не только замечательным историком русской мысли, но выдающимся православным педагогом и теологом образования. Причины тупиковой ситуации, по его мнению, связаны с тем, что педагоги, не видя толку в философии, ориентируются на свои «непосредственные интуиции» и «педагогические замыслы». «Природа педагогического вдохновения не вмещается в систему философских идей нашего времени»; «близорукий эмпиризм» и «натурализм» приводят к тому, что за частными методиками и технологиями мы утрачиваем видение педагогики как целостной системы, а «достижения педагогического творчества теряют самое значительное и существенное, что в них есть» – высшую цель развития человеческой личности[41].
Схожие мысли о кризисе взаимоотношений педагогики и философии высказывают педагоги, стоящие на иных мировоззренческих позициях. А. С. Макаренко, например, в педагогике первой трети XX в., «разрываем[ой] на части многочисленными школами и „новаторами“, бесконечными колебаниями от крайнего индивидуализма до бесформенного и нетворческого биологизма», видит искусственное разделение между изучением человека и задачей воспитания личности[42].
Своеобразным ответом на подобные запросы станет философия образования, рожденная в середине 40-х гг. XX в. (т. е. уже с учетом уроков Второй мировой войны) в общении ученых, так или иначе занимающихся проблемами образования и воспитания[43]. В дальнейшем дискуссии превратятся в прикладной раздел философии и – в силу разнообразия течений последней – найдут развитие в различных направлениях: аналитическом, антропологическом, герменевтическом, критико-рационалистическом, экзистенциально-диалогическом, вплоть до разных постмодернистско-деконструктивистских[44] вариантов.
В аналогичных терминах можно говорить о советской теории воспитания и образования. Тот же А. С. Макаренко определил как «достойную нашей эпохи задачу» «создание метода, который, будучи общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности развивать свои особенности, сохранять свою индивидуальность. Такая задача была бы абсолютно непосильной для педагогики, если бы не марксизм, который давно разрешил проблему личности и коллектива»[45]. П. П. Блонский также полагал, что «только марксистский метод делает педагогику наукой, и только марксистская педагогика может быть свободна и от обывательской логики, и от утопических педагогических романов»[46].
К концу XX в. всевозможные «неклассические образы образования» будут проявлять все меньшую способность противопоставить что-либо убедительное кризису (пост)просвещенческой секулярной образовательной парадигмы. «Множественность педагогических миров», «антицелостность» поликультурного разнообразия в образовании[47], осознание системного кризиса, трудности в определении идеалов и целей[48] вновь обращают философов и педагогов наших дней к необходимости поисков общецивилизационного мировоззренческого единства подходов к образованию. Некоторые ищут «новую чистую идею образования», в которой нуждается сегодняшний глобальный мир, в современном марксизме[49] или «обновленном» гегельянстве[50]. Иные продолжают попытки самообоснования педагогической теории или ее построения на началах современной постнеклассической науки и практики[51]. Есть и альтернатива таким поискам – отказ от педагогической антропологии и теории образования в пользу эмпиризма в технологически инновационных, а потому – захватывающих форматах цифрового образования. В этом случае все «совсем просто»: критерием оценки нашей работы становится прагматичное «оправдание в опыте»[52], включая число слушателей курсов или подписчиков, количество просмотров, «лайков» и т. п.
Мало кем оспаривается тезис о том, что необходимо осознанное обращение к ценностно-мировоззренческим основаниям образования. Мы дополняем и конкретизируем этот тезис предложением усилить теологическую составляющую в разработке новой образовательной парадигмы. «Надлежащее свое осмысление педагогическое творчество может найти лишь на почве религии, в частности в системе христианской антропологии», – замечает протопр. Василий Зеньковский[53].
Для этой цели предлагается использовать концепт теологии образования в узком смысле и теолого-педагогический ресурс в широком смысле. Подчеркнем, что речь идет о христианской теологии образования (с учетом конфессиональной специфики – православной, католической, лютеранской и др.), поскольку именно христианская образовательная парадигма сформировала основные существующие в мире институты образования – школу и университет, миссия которых приобрела универсальный характер[54].
Для удобства определим теологию образования как одну из возможных форм философии образования[55], которая, если оставить в стороне «разноречия в трактовке предмета, целей и задач»[56], описывается как «тематизация общего поля работы философов и педагогов, рефлексия, в которой не просто осознаются, но и конструируются и новая область исследований, и новые подходы, и новые методики совместной деятельности»[57].
Именно теология образования как дисциплина и как направление исследований призвана показать, что христианское мировоззрение предполагает иной путь решения сверхзадачи в рамках обожения, понимаемого как действенное единение человека с Богом и с себе подобными.
Образование как раскрытие человеком в себе образа Божиего, как преображение – путь, направляющий, ведущий человека к обожению. Основанием этой удивительной возможности человека является исходная со-образность человека Творцу, а воплощенным идеалом обожения – Личность Христа. Во Христе и в Его Церкви стремление к обожению может быть достигнуто безопасно, а сверхзадача реализована планомерно. Образование, воспитание, просвещение, обучение – суть инструменты, которые должны использоваться на этом пути. И эти инструменты требуют теологического описания.
Разумеется, важна включенность теологии образования в общебогословский (догматический, христианско-антропологический, морально-теологический и др.) контекст. Более того, пересечение христианской антропологии, теологии образования с педагогическими науками раскрывает необходимый сейчас способ приобщения к знаниям, отношение к личному общению и бытийному единению с другими личностями, свободе и воспитанию воли.
Мы предлагаем христианский подход к образованию, который, по мнению авторов, несет высший идеал гармонично развитой личности человека с созидательной жизненной позицией, исходящей из принципа общечеловеческого блага в свете высшего призвания человека, достигаемого посредством действительного приобщения источнику бытия – Богу.
Как вершина самопознания, миропознания и богопознания, обожение рассматривается как цель цело-жизненного нравственного и аскетического пути человека. Оно начинается в земной человеческой жизни, хотя полностью будет реализовано в будущем веке.
Это важно понимать, экстраполируя христианско-теологический, философский и педагогический опыт на ближайшее будущее наук об образовании и практику образования, шире – на дальнейшую перспективу жизни человечества. Жизни, которая в наши дни нового геополитического противостояния может (по крайней мере в относительно мирном и привычном нам за вторую половину XX в. и первые два десятилетия XXI в. виде) просто исчезнуть.
БиблиографияАристотель. Политика // Его же. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4 / Пер. с древнегреч. М.: Мысль, 1983. С. 375–644.
Архипова О. В., Шор Ю. М. Идея образования в контексте постнеклассической парадигмы // Universum: Вестник Герценовского университета. 2013. № 4. С. 3–12.
Блонский П. П. Марксизм как метод решения педагогических проблем // Его же. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1979.
Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990.
Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М., 1998.
Дивногорцева С. Ю. К. Д. Ушинский и православная педагогическая культура середины XIX века // Вестник ПСТГУ. Сер. IV: Педагогика. Психология. 2014. № 2 (33). С. 102–110.
Зеньковский В. В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Изд-во Свято-Владим. Братства, 1993. 224 с.
Исидор Севильский, свт. Этимологии, или Начала в XX книгах. Книги I–III: Семь свободных искусств. СПб., 2006.
Климент Александрийский. Строматы Кн. I–III. СПб., 2003.
Куренной В. А. Философия либерального образования: принципы // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 8–39.
Макаренко А. С. Цель воспитания // Его же. О коммунистическом воспитании. М., 1952.
Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. 516 с.
Повзло А. Н. Марксистский «вектор» диалектики образования в системе рыночных отношений // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. 2011. Вип. 27. С. 141–146.
Повзло А. Н. Философские аспекты марксистской концепции воспитания и образования и их современное значение: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 1991. 15 с.
Прозументик К. В. Марксистская антропология и теория воспитания // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2011. № 3 (7). С. 18–26.
Религиозное образование в России и в Европе в XVI веке / Под ред. Е. С. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Изд-во РХГА, 2010. 184 с.
Религиозное образование в России и в Европе в XVII веке / Под ред. Е. С. Токаревой, М. Инглота. СПб.: Изд-во РХГА, 2011. 320 с.
Романенко И. Б. Экзистенциализм и персонализм: определение образовательных идеалов XXI века // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2005. № 5 (10). С. 59–65.
Романенко И. Б., Романенко Ю. М. Становление рационально-экспериментальной образовательной парадигмы в немецкой классической философии // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 4 (87). С. 274–281.
Сергейчик Е. М. Философия образования и педагогика // Философские науки. 2009. № 8. С. 6–19.
Тейлор Ч. Секулярный век / Пер. с англ. М.: ББИ, 2017. XIV, 967 с.
Шмонин Д. В. Античные и иудейские религиозно-педагогические компоненты в истории формирования христианской образовательной парадигмы // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016. Т. 10. № 1. С. 183–195.
Шмонин Д. В. В тени Ренессанса. Вторая схоластика в Испании. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 277 с.
Шмонин Д. В. Религиозное образование и образовательные парадигмы // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. № 2. С. 47–64.
Шмонин Д. В. Тайна ответа: введение в рациональную теологию. СПб.: Изд-во СПбПДА; Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 459 с.
Шмонин Д. В. Технология блага. Очерки теологии образования. М.: Познание, 2018. 222 с.
An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, daß sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen // Luther M. Ausgewählte Schriften / Hrsg. K. Bornkamm, G. Ebeling. Bd. 5. Frankfurt a.M., 1983. S. 40–72.
Bomfim L. S. V. Menschliche und vermenschlichende Praxis: zur Antropologie von Marx im Hinblick auf ihre Pädagogischen Kosequenzen. Kassel, 2000.
García Ahumada Е. (F. S. C.). La Salle y teología de la educación. Rome: Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2013.