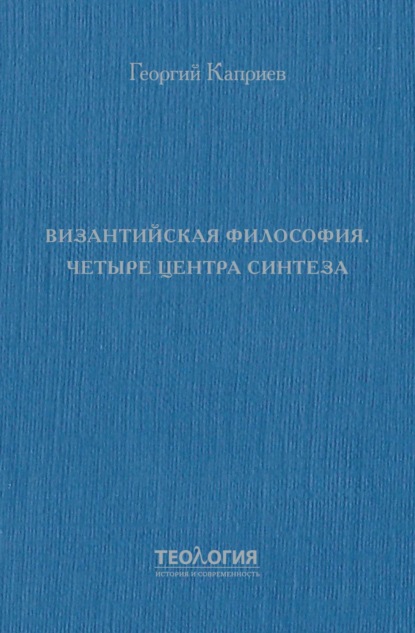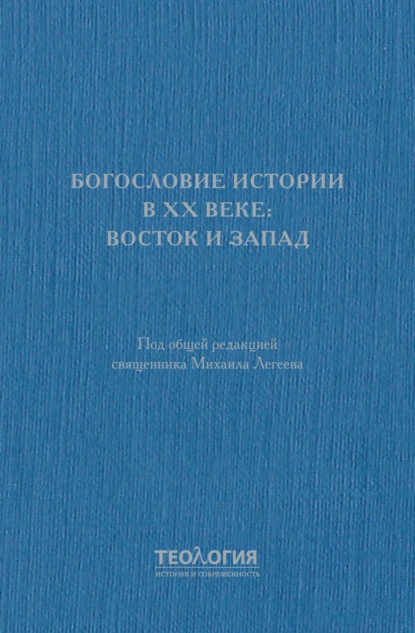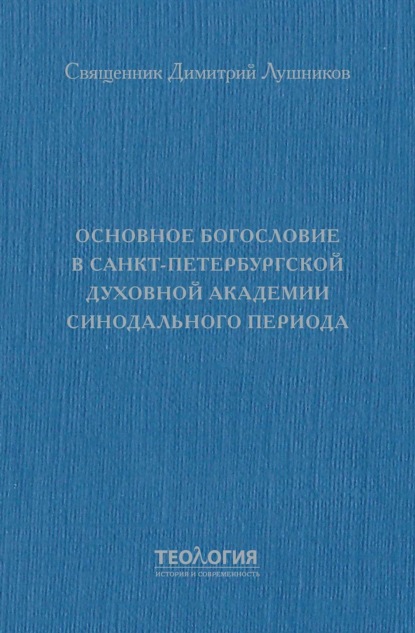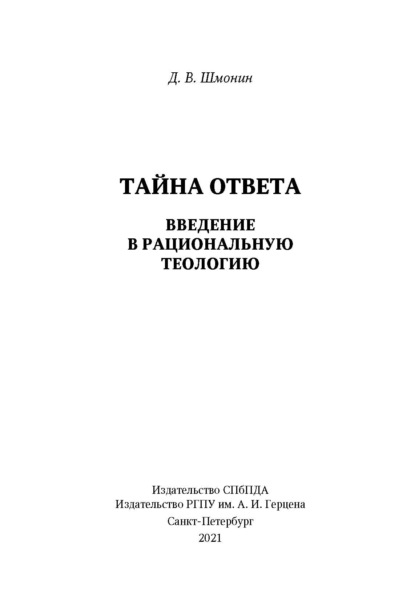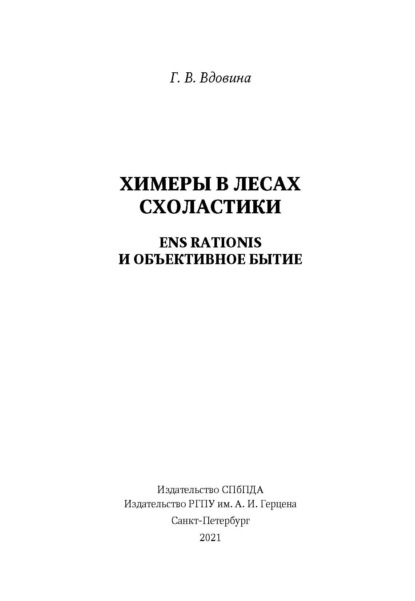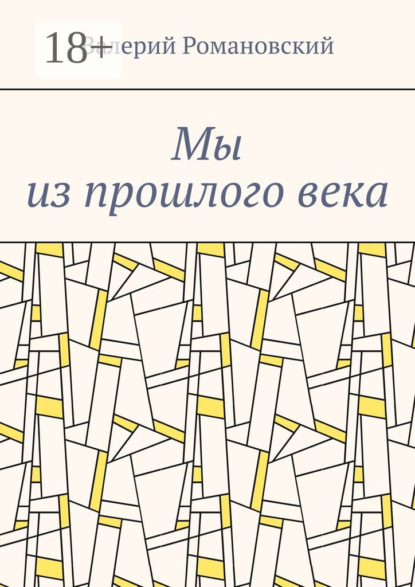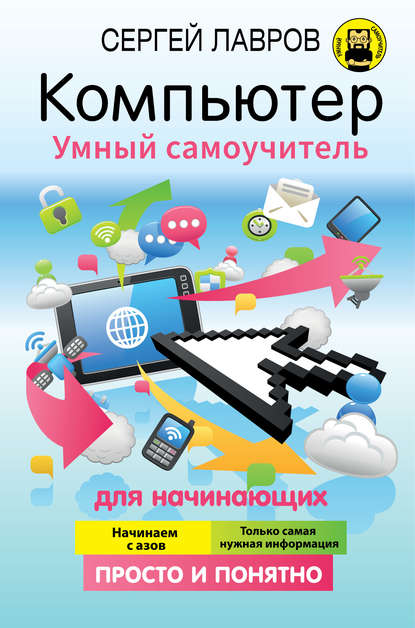Теология образования в христианской парадигме
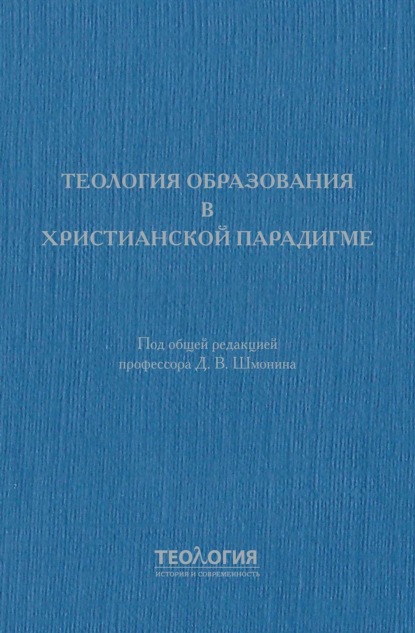
- -
- 100%
- +
Hedtke R. Erziehung durch Kirche bei Calvin. Heidelberg, 1938.
Ioannis Calvini opera quae supersunt omnia / Ed. G. Baum e. a. Berolini, 1863–1900. Vol. 10. Pars 1.
Melanchton P. De corrigendis adolescentiae studiis // Melanchton deutsch. Bd. 1. Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und Politik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997.
Melanchton P. In laudem novae scholae // Melanchton deutsch. Bd. 1. Schule und Universität, Philosophie, Geschichte und Politik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997.
Melanchton P. Loci communes 1521: Lateinisch-deutsch / Hrsg. H. Pöhlmann. Gütersloh, 1993.
Melanchton P. Oratio de necessaria coniunctione scholarum cum ministerio evangelii // Melanchton deutsch. Bd. 2. Gebete, Bibelauslegung, Theologie, Kirchenpolitik / Hrsg. M. Beyer e. a. Leipzig, 1997.
Melanchton P., Luther M. Unterricht der Visitatorn // WA. Bd. 26. S. 195–240.
Predigt, daß man Kinder zur Schule halten solle // Luther M. Ausgewählte Schriften / Hrsg. K. Bornkamm, G. Ebeling. Bd. 5. Frankfurt a.M., 1983. S. 90–139.
Sermon von dem ehelichen Stand // Luther M. WA. Bd. 2.
Ruiz Amado R. (S. J.) Historia de la educación y la pedagogía. Décima edición. Barcelona: Editorial Librería religiosa, 1948.
Глава 1. Античные корни христианской образовательной парадигмы (Р. В. Светлов)
О «теологиях» в языческих религиях: начало благочестия
Чтобы с современных христианских, православных позиций понять теологическую составляющую образования в античности, нужно четко понимать, что представляли собой античные религии. Мы в любом случае можем судить о них в сравнении с тем, что понимаем под религией сами, т. е. с точки зрения нашего вероучения или, шире, авраамических религий. Полагаем, что такое сравнение будет вполне уместно для наших целей, поскольку задачей не является герменевтическая реконструкция языческого богопочитания, а то, каким образом оценивалось образование в религиозной перспективе. Но прежде всего уточним некоторые важные понятия.
Говорить о теологическом подходе к образованию в античном мире мы можем только с одной оговоркой: слово «теология» в «естественном языке» древних эллинов имело очень широкий спектр значений и было связано с понятиями, отражавшими весьма разнообразный круг явлений тогдашней культуры. Так, «теологионом» (θεολογεῖον) называлось место над сценой, откуда появлялись и вещали актеры, исполнявшие роли богов во время театральных представлений. Теологией порой называлось восхваление богов во время молитвы – когда перечислялись божественные атрибуты и деяния богов. В этом случае «богословие» было своего рода «богославием» – торжественным повествованием о них. С другой стороны, в эллинистических магических папирусах «теология» – это заклинания, которые имеют своей задачей привлечение и «привязывание» божественных сил ради совершения теургического праксиса.
Согласно блж. Августину, теологом именовался поэт, реальный или легендарный, который говорит нам о богах. Блж. Августин пишет: «в тот же период времени существовали поэты, которых называют теологами за то, что они писали стихи о богах, но о богах таких, которые были… людьми, или были стихиями… мира, или же по воле Творца и за свои заслуги облечены были начальствованием и властью» (De Civ. XVIII 14). Блж. Августин называет конкретно Орфея, Мусея, Лина (все персонажи – мифические). Вполне вероятно.
Трудно сказать, насколько это именование легендарных поэтов теологами действительно имеет древний характер. Но в «Государстве» Платона именно такое понимание теологии получает некоторую терминологическую четкость: «Но вот это – основные черты, каковы они в учении о богах (θεολογίας τίνες)?
– Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и надо изображать, выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии» (Resp. 379a.)
О древних, занимавшихся теологическими вопросами, говорит и Аристотель в «Метеорологике» (Meteor. 353a35, Met 1091a34–1091b5 и в других местах)[58].
Однако в эпоху эллинизма слово «теология» все-таки достаточно часто и точно обозначает то направление мысли, которое сейчас называют «философской (или рациональной) теологией», о чем мы будем писать ниже.
Разберем еще несколько ключевых понятий (не пытаясь, безусловно, исчерпать все античные термины, имеющие отношение к теме религиозного). Слово «религия» заимствовано современной культурой из латинского языка (religio). Греки использовали иной термин, threskeia (θρησκεία), который обозначал собственно религиозные отправления, которые считались нормативными для общества. Соблюдение этих норм являлось делом благочестия (θεοσέβεια – благоговение перед богом, страх божий; латинский вариант – pius, pietas). Слово πίστις (лат. fidem) в греческом обозначало правильное убеждение, уверенность. В его семантике значительно большую роль играла верность традиции, чем индивидуально-личностная связь с богами. Θρησκεία, θεοσέβεια и πίστις передают суть античной религии – тщательное и скрупулезное исполнение обязанностей перед богами и предками. Все сказанное нами не отрицает наличие у древних эллинов и римлян опыта «нуминозного» (от лат. numen – интенсивное переживание близости сверхъестественных начал). Но «духовный опыт» и «мистическое видение» едва ли были целью религиозных практик и эллинов, и римлян, даже если мы говорим о мистериальных действах, подобных знаменитым Элевсиниям. Религиозные отправления имели коллективное, а не индивидуальное предназначение и обеспечивали единство и успешность общины (позднеантичные интерпретации мистерий как средств достижения индивидуальной святости и гнозиса являются очевидной их модернизацией).
Противоположными этим понятиям являлись ἀσέβεια (лат. impius, impietas) – отсутствие благочестия, страха перед богами, вольное или невольное осквернение религиозных атрибутов или церемоний, а также δεισιδαιμονία (латинский вариант – superstitio), суеверие, излишнее, надуманное почитание, выходящее за рамки принятого обществом. Интересно, что последний термин часто встречается в греческих текстах со времен ученика Аристотеля Теофраста, обозначившего им один из типов характера (т. е. со второй половины IV в. до Р. Х.). Возможно, чрезмерное увлечение всем имеющим отношение к умилостивлению богов – одно из свидетельств «индивидуализации» религиозного чувства во времена, наступившие после Александра Великого (эпоха эллинизма), о чем мы скажем ниже. Ведь «суеверное» проявление религиозности – это забота в первую очередь о себе и своих близких, в отличие от стандартного богопочитания, которое, повторимся, имеет в первую очередь общественный характер.
Аналоги священных книг
Сердцевиной религии в современных представлениях является Св. Писание. В античных Греции и Риме имелись его аналоги. Но это не Гомер, несмотря на все воспитательное значение эпических поэм. Аналогом христианского Божественного Откровения являлись сборники оракулов, составлявшиеся во всех основных оракульных центрах Древней Эллады, а в случае Рима – «Сивиллины оракулы». Эти тексты до нашего времени не дошли и по объективным причинам («Сивиллины оракулы» погибли во время пожара Рима в 83 г. до Р. Х.), и по субъективным (сборники античных оракулов не «переиздавали» в Средние века). В итоге мы знаем теперь совсем немногое из их содержания, в основном благодаря античным историческим повествованиям. Чаще всего это либо двусмысленные предсказания, неправильно истолкованные людьми, либо же какие-то примечательные события, вроде оракула, полученного Хэрефонтом, по поводу мудрости Сократа.
Однако можно с уверенностью судить, что это были откровения, дарованные ad hoc. Советы богов всегда уникальны и конкретны. Даже в Риме, в правовом сознании которого принцип прецедента играл важнейшую роль, обращения к «Сивиллиным оракулам» имели всегда «точечный» характер и вызывались обычно общественными бедствиями.
Иными словами, языческие священные тексты – а оракулы с точки зрения языческого сознания есть прямые откровения со стороны богов – не могли выступить основаниями для религиозной метафизики и даже для религиозного учения в том смысле, в котором мы используем сейчас эти слова. С этой точки зрения языческие «писания» принципиально уступали Библейской традиции, что в первые века нашей эры побудит языческую интеллигенцию создавать свои варианты «боговдохновенных» религиозных текстов («Халдейские оракулы», «Герметический корпус», орфическая поэзия, интерпретация неоплатониками корпуса текстов Платона как боговдохновенного источника).
Из-за своей специфики сборники оракулов не обладали центральным положением в системе античного воспитания. По ним не учились грамоте, как в России когда-то учились по Псалтири и Часослову.
Зато античное мифологическое Предание играло в образовании решающую роль. Мы имеем в виду эпические поэмы и, прежде всего, «Илиаду». По Гомеру учились читать и писать, поэтому события Троянской войны, а также странствия Одиссея были у античного человека, можно сказать, в образовательной «подкорке». В одноименном Платоновском диалоге софист Протагор сравнивает обучение людей законам и нормам человеческого общежития с обучением письму по прописям: упражнение вырабатывает привычку, привычка становится чем-то обязательным и естественным. Точно так же чтение Гомера создавало общий культурный, мифологический и эпический горизонт, в котором существовали древние эллины.
В вопросах, связанных с темой происхождения богов, а также с нормами благочестивого образа жизни не меньшую роль играл и Гесиод, которого Гераклит называет «учителем многих».
В целом поэты, причем не только рапсоды, были учителями как авторы общепризнанных текстов, так и в буквальном смысле этого слова: достаточно вспомнить Тиртея, обучавшего спартанцев хоровой лирике, общему пению-речитативу текстов, в которых восславлялись добродетели патриота-воина.
Мифологический текст не создает напрямую нормы жизни тех, для кого он является авторитетным повествованием. Однако воображаемая реальность, в которой жили его герои, их подвиги, их слова, оценки их действий эпическим рассказчиком создают систему ценностей, которая влияет на поведение людей. К тому же для древнего эллина эпос – это почти реальная история, пусть случившаяся в иные, славные, времена, когда боги были ближе к людям. Эпос позволяет человеку воспринимать себя как один этнос, выделять себя среди других народов и государств. В какой-то момент героическая мораль гомеровского повествования обернется проблемой для становящегося полиса, но мы отдельно будем говорить, как эта проблема решалась.
Важным элементом в религии является ее обрядово-ритуальная сторона. В наше время Церковь отделена от государства, участие или неучастие в жизни какой-то религиозной общины является делом свободы воли гражданина, каковая закреплена в Конституции Российской Федерации и других государств. Но в Древней Греции участие в религиозных обрядах, которые совершала община в целом (например, Панафинеи в Афинах, Карнеи в Спарте) или в ритуалах, которые были предназначены для каких-то социальных, возрастных и гендерных групп (обряды посвящения для юношества, обряды для женщин) являлось обязанностью гражданина. Мы хорошо помним те преследования, которым подвергались ранние христианские общины за отказ от участия в общественных богослужениях. Но такому же преследованию в Древней Греции мог подвергнуться тот, кто отказывался от их исполнения, пародировал их (известное дело 415 г. против Алкивиада и его друзей, спародировавших Элевсинские мистерии) или же измышлял новых богов. Последнее было одним из обвинений против Сократа, повлекших за собой смертный приговор.
Все дело в том, что религиозный элемент был настолько сплетен с общественной жизнью, что древний эллин или римлянин порой просто не мог отделить их друг от друга. Характерным примером является казус философской школы Эпикура. Хотя этот мыслитель и признавал, и даже доказывал существование богов, его самого и его последователей назвали атеистами за утверждение, что боги никак не воздействуют на мир. Ведь это означало, что обряды, «склеивающие» общество в целое, связанные с поклонением и умилостивлением богов, не имеют никакого смысла.
Все, что наиболее представлено в современной школьной и популярной литературе по поводу Древней Эллады – спорт, музыка, песнопения, театр, – было связано с почитанием богов: и Олимпийские игры, знаменитые спортивными состязаниями, и Делии, во время которых хоры соревновались в воспевании Аполлону дифирамбов, в равной мере являлись религиозными празднествами. К ним относятся и Великие Дионисии, во время которых проходили афинские театральные фестивали. Воспитание, которое получал молодой эллин, служило восхвалению и прославлению его богов, предков, города. Очень часто – и совершенно справедливо – подчеркивается соревновательность древнегреческой культуры[59]: действительно, и религиозные фестивали сопровождались соревнованием хоров, рапсодов, музыкантов, спортсменов, и театральные фестивали долгое время имели соревновательный характер.
Воспитание являлось, с одной стороны, важнейшим политическим делом в Древней Греции, с другой же, как мы уже видели, связывало воспитуемого с традиционной культурной и мифо-религиозной традицией как Эллады в целом (можно сказать, глобальный уровень), так и отдельного города в ней (локальный уровень). Конечно, в Древней Греции не было теологии в современном нам смысле этого слова, ее место занимали рассказы о деяниях богов, их генеалогия (Гесиод), а также эпос. До Платона и Аристотеля не было и того, что мы сейчас называем философской или рациональной теологией[60]. Однако отношение религии и образования в Древней Элладе представляется очевидным: они прямо связаны друг с другом, т. к. имеют непосредственное отношение к стабильности общества.
Боги и дидаскалы: образы наставников в раннегреческой культуре
Кто был наставником в греческой школе, тем, кто воспитывал юношей в духе идеалов, которые брались из эпических повествований или конструировались на их основе? По греческим мифам, первыми наставниками были боги: Гефест и Афина, которые обучили людей навыкам ремесла, или Прометей, подаривший человечеству разум. В эпических преданиях упоминаются, например, Лин, наставник Геракла, Хирон – Ясона, Диоскура и других, Феникс – Ахилла. Впрочем, уже эти мифологические персонажи показывают своеобразный статус педагога в Греции. Часто он был ксеном, т. е. иноземцем: Лин, сын Аполлона, скорее всего прибыл в Фивы из Фракии, Феникс бежал от своего отца Аминтора из Ормения во Фтию к Ахиллу и Патроклу. Кентавр Хирон учил на горе Пелион, и чтобы учиться у него, нужно было покинуть свою отчизну и ехать в иные земли.
При этом двое из названных персонажей были убиты своими учениками, точнее учеником – Гераклом. В случае Лина он ответил на удары наставника, в случае Хирона убийство было случайным.
Все это показывает своеобразную диалектику образа наставника в античном сознании (особенно характерную для эпохи до появления таких образовательных и научных институтов как Академия, Ликея, Стоя и Александрийские Мусейон и Библиотека). С одной стороны, наставники были носителями знаний, их покровителем являлся Аполлон – бог, «ответственный» за воспитание юношества (к слову, сам пришелец в мире греческих культовых реалий (см. «гомеровские гимны», посвященные его рождению и созданию его прорицалища в Дельфах)). Их знания опирались на силу – вспомним, что и Аполлон неоднократно применяет силу по отношению к тем, кто сопротивляется его воле, или пытается соперничать с ним в знаниях и искусстве (сатир Марсий, Ниоба и ее дети).
С другой стороны, они не были равны «полноправным» гражданам; наставники часто иноземцы (правда, обязательно получившие разрешение на ведение занятий), даже рабы. И это накладывает достаточно специфический отпечаток на образ учителя в греческой литературе и изобразительном искусстве. Он осуществлял свою деятельность через силу и даже насилие, что неоднократно подчеркивается в современной литературе. Судя по всему, в какой-то момент слова, обозначающие наставника (прежде всего διδάσκαλος), начинают активно применяться по отношению к деятельности тиранов[61].
Сохранились свидетельства и об иных образовательно-воспитательных практиках, особенно связанных с именами ранних тиранов. В псевдо-платоновском «Гиппархе» рассказывается о настоящей образовательной программе, которую сыновья тирана Писистрата проводили в отношении афинских крестьян. Причем речь шла не только об умении читать, но и о закреплении неких моральных норм, которое происходило благодаря своеобразной «наглядной агитации» – надписям на столбах-гермах, находившихся на половине пути от деревни к городу (Hipparch. 228b-229b).
Вообще, поскольку тираническая форма правления позволяла в большой степени контролировать частную жизнь граждан, тираны могли использовать какие-то образовательные практики для «идеологического» подкрепления своего права на власть. Поэтому уже указанное нами выше употребление в речах тиранов античными драматургами слов, обозначающих образование, имеет, вероятно, и какие-то исторические основания.
Первые школы и программы
То, что мы можем назвать школами – в более или менее современном смысле этого слова, т. е. в смысле места, где дети получали знания грамоты, счета, игры на музыкальных инструментах, физкультуры, – появляются в VI в. до Р. Х., а к концу этого века становятся, видимо, достаточно обычным явлением. В городах появляются палестры (παλαίστρα), где ведется обучение детей и подростков. Причем они, как это видно на примере Афин, отделялись от мест, где физическими упражнениями занимались взрослые (уже один из законов Солона определял время и нормы деятельности палестр). В конце V в. зафиксировано одно слово для обозначения школы – διδασκαλεῖον (см. напр.: в «Истории» Фукидида VII.29.5). Комедиограф Аристофан дает, вероятно, ироническое обозначение места, где тогдашние мудрецы-софисты вели свои занятия, уже дополнительные по отношению к традиционному образованию – φροντιστήριον, т. е. место для размышлений, «мыслильня» (Clouds, 95).
В Спарте образовательные институты радикально отличались от «школы» в других античных городах и были основаны на тотальном контроле над временем и занятиями подрастающего поколения мальчиков, вырванных из семьи[62]. Но и в других городах образование – по крайней мере, грамматике, музыке (в т. ч. хоровому пению), – судя по многим примерам из V в. до Р. Х., имело общественный характер и осуществлялось в большинстве случаев на общественные деньги, хотя и не «экспроприировало» дитя из семейной жизни[63].
Можно сказать, что ребенок получал два образования – «общекультурное» и, можно сказать, «техническое».
Первое – благодаря тем текстам, которые ему читали, его семье, его «мамкам и нянькам», благодаря поучениям старших, тому, что он слышал в храмах, во время религиозных и театральных фестивалей. Наконец, земледелию молодой человек учился также у своего окружения.
Второе – получение навыков, без которых уже невозможно было оставаться эффективным членом общества. Это грамотность, счет, музыка и гимнастика. Какими бы ни были ценностями физическая культура, победа на гимнастических соревнованиях или в соревнованиях хоров, эти навыки прививались в большей степени в школе, чем дома. То есть, как мы видели, там, где учителями часто были неполноправные люди или приезжие. К таким навыкам могли относиться также ремесло и врачевание, если получающий образование в будущем должен был стать ремесленником или врачом. Видимо выражая эту тенденцию, Платон в «Законах» передает большинство «технических» видов обучения наемным наставникам.
Важным периодом жизни юноши была «эфебия» – очень сложное явление, связанное в первую очередь с обрядами перехода от юношеского, неполноправного, с гражданской точки зрения, статуса к статусу гражданина[64]. Она охватывала возраст 18–20 лет. В институт полноценной военной подготовки в Афинах эфебия превратится лишь после реформы Эпикрата (336/5 гг. до Р. Х.), произошедшей после поражения афино-фиванской армии под Херонеей (338 г. до Р. Х.) в условиях все возраставшего военного могущества Македонии. До этой реформы военная подготовка была только частью этого весьма архаического по происхождению социального явления, очень ритуализованного и странного для современного человека, которое имело своей целью посвящение молодого человека в новый статус.
Формирование философско-теологического взгляда на образование
Внутреннюю эволюцию, имевшую место в античном образовании, которая может быть предметом отдельного рассмотрения, оставляет на втором плане самая настоящая педагогическая революция, совершенная античными философскими школами. Эта революция была вызвана вполне объективными обстоятельствами, связанными как с переменами в «количестве знаний», которые приходили в Элладу в процессе расширения ее культурных связей, так и с серьезными изменениями общественного сознания[65].
Становление гражданского коллектива приводило к формированию морали, которая противоречила «эпическим» ценностям, зафиксированным в поэзии Гомера и Гесиода[66]. Действительно, едва ли поведение в стиле Ахилла или Диомеда – гомеровских героев, которые самоутверждались на поле боя, следовало переносить на гражданские отношения внутри коллектива. Недаром поэт и мудрец Ксенофан из Колофона еще во второй половине VI в. до Р. Х. начинает призывать к другому образу жизни. Как в свое время писал о Ксенофане И. В. Шталь, «войны, раздоры и мятежи теперь не поле действия героев, не средство выявления их героического эпического „я“, но событие всегда нежелательное…»[67] Почести, отдаваемые победителям состязаний, кажутся Ксенофану неуместными. Наоборот, почитания достоин мудрый муж, ведь «благозакония» от наличия в городе победителя Пифийских или каких-либо еще игр не прибавляется. Проповедь Ксенофаном благоразумия и благозакония приобретает в исполнении Диогена Лаэртского характер интеллектуального аристократизма: «Еще он сказал, что большинство хуже ума» (De Vita IX. 19).
С этикой непосредственно связаны «теологические» воззрения Ксенофана. Божественный порядок – та инстанция, которая санкционирует формы жизни и поведения человека. Ксенофан уже «изыскал», что старая теология, дававшая санкцию на «эпический» стиль жизни, неверна:
– Все на богов возвели Гомер с Гесиодом, что толькоУ людей позором считается или пороком:Красть, прелюбы творить и друг друга обманывать [тайно].(Adv. Mathem. IX, 193, пер. А. В. Лебедева.)На смену преданиям о поколениях богов, историям об их конкуренции, героических и не слишком деяниях приходит религиозный скептицизм, вынуждающий Ксенофана не приписывать божеству антропоморфных черт, и, быть может, приведший его к первой попытке создать «монотеистическую» философскую теологию, рассказ о которой содержится в псевдоаристотелевском сочинении «О Мелиссе, Ксенофане и Горгии». Хотя греческая культура сохранит за Гомером место «воспитателя Эллады», но отныне она будет вынуждена понимать его тексты не «напрямую», а создавая разного рода толковательные техники («аллегорезы»), которые позволяли совместить повествования Гомера и Гесиода с полисными нормами жизни. Так, противостояние богов и героев «Илиады» Теаген Регийский в начале V в. до Р. Х. толковал как борьбу природных стихий.
Очевидно, что вместе с критикой этических норм эпоса (которые совершали такие «гомерохулители» как Ксенофан, Гераклит, «вольнодумцы» V–IV вв.) в какой-то момент начинает требовать переоценки и вся мифологическая модель мира, что было связано с бурным развитием античной философской космологии, астрономии, медицины и физики. Таким образом, уже ранние философские школы начинают предлагать иную, дополнительную или даже альтернативную модель образования, связанную с их критической переоценкой эпической картины мира и традиционных представлений о богах. Пифагорейский союз был наиболее известным примером формирования образовательной программы закрытого типа, напоминающей обряды посвящения, только перенесенные в область педагогики. Полученные в пифагорейском кружке знания имели прямое отношение и к тому, что можно назвать науками о природе, человеке и обществе, и к знаниям религиозного характера, прежде всего связанным с бессмертием души и темой реинкарнации[68]. Полученные знания накладывали обязательства на пифагорейцев, которые вели особенный, более аскетический, чем остальные эллины, образ жизни. В частности, скорее всего они первыми стали носить плащ-трибон, который позже станет античным признаком философского образа жизни.
Таким образом, педагогика в случае пифагорейцев начинает выполнять роль не только общественную (формирование благочестивого, обладающего нужными навыками гражданина полиса), но и индивидуальную: ее адепты заботились не только о благополучии полиса, но и о собственной судьбе после смерти и будущего рождения. Эта индивидуалистическая составляющая уже в V в. до Р. Х. начинает вызывать настороженность среди античных граждан, настроенных более традиционалистски, что видно, например, в антипифагорейских выпадах авторов афинской комедии.