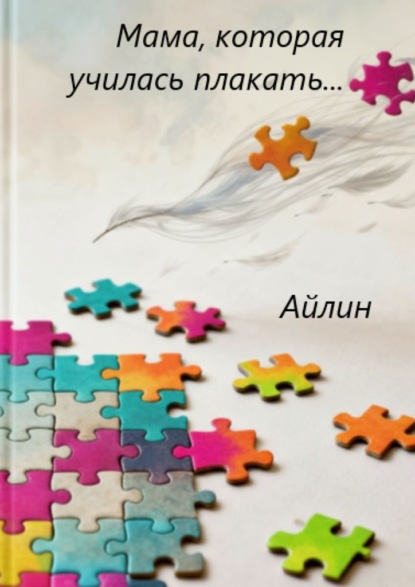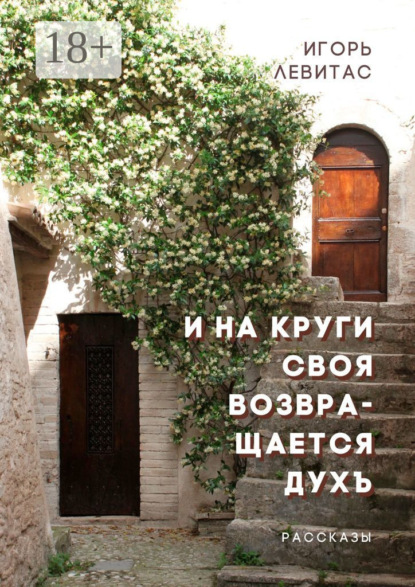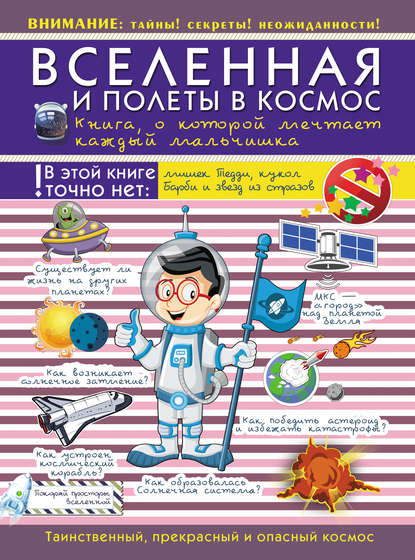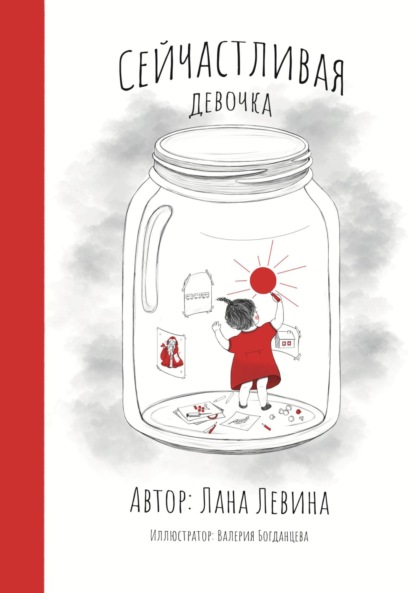- -
- 100%
- +

© Айлин, 2025
ISBN 978-5-0068-3737-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Эта книга – наша с Лёшей история. История о том, как рушатся иллюзии и рождается настоящая сила. О том, что счастье – это не идеальная картинка, а тихая победа, случившаяся после долгой битвы. О том, что даже в самой густой тьме можно найти свет, если не сдаваться.
Потому что материнство – это не только про колыбельные и смех. Иногда оно начинается с молчания. С отчаяния. С вопроса, на который нет ответа. И именно тогда в женщине рождается мать. Та, что будет драться до конца. Та, что не сдастся. Никогда.
Это история о том, как я училась быть мамой. Мамой, которой оказалось нужно совсем не то, о чем она мечтала. Но которой было даровано гораздо большее. Мамой, которая училась плакать…
Что для счастья надо?
Всё у меня было. Красивая, молодая, с блестящим дипломом и карьерой, которая стремительно шла вверх. Коллеги уважали, зарплата позволяла не отказывать себе почти ни в чём. Казалось, жизнь – это идеально сложенный пазл, где не хватает последнего фрагмента. Любви. Семьи. Ребёнка.
И вот он появился. Миша. Таким внимательным, таким заботливым. Таким… правильным. Штамп в паспорте стал волшебной палочкой, которая превратила принца в надзирателя. «Не так посмотрела», «не то подумала», «не там была». Его маниакальная потребность контролировать каждый мой вздох стала тюрьмой. Он не любил меня, он проверял меня на соответствие некоему идеалу в своей голове. А я… я терпела. Глупая, наивная. Я верила, что это – «притирка». Что рождение ребёнка всё изменит. Что он смягчится, станет настоящим отцом, настоящим мужем.
Как же я ошиблась.
Две полоски на тесте. Мы прыгали от счастья, как дети. Обзвонили всех. УЗИ показало мальчика – наследника, продолжателя его дела. А я просто молилась, чтобы малыш родился здоровым.
Беременность стала адом. Мой «заботливый» муж доводил меня до слёз, до истерик, до немого отчаяния, прикрываясь якобы заботой. «Я старше, я лучше знаю, ты всё делаешь не так». Я была куклой, марионеткой на ниточках его бесконечных придирок.
Роды. И вот он, мой сын. Мой Лёша. Крепенький, 8/9 по Апгар. А я… пустая оболочка. Домой мы вернулись в обычный кошмар. Подгузники, бутылочки (грудное вскармливание убила лактазная недостаточность), и бесконечный, пронзительный, душераздирающий плач.
Он плакал всегда. Не спал. Не успокаивался. Никакие укачивания, песенки, ношение на руках не помогали. Через два месяца от меня осталась тень. Синяки под глазами, трясущиеся руки, взгляд в никуда. Самое страшное? Он не успокаивался у меня на руках. Мои прикосновения, мое сердцебиение, мой запах – всё это его раздражало, вызывало новый виток крика.
В отчаянии я соорудила гамак из простыни. Запеленала его туда, и… о чудо! Он затихал. В объятиях холодной ткани, а не в объятиях матери. Так я и стояла над кроваткой, часами, раскачивая этот проклятый гамак. Руки отваливались, спина горела огнём. Но стоило остановиться – и детский крик вновь разрывал тишину. Сходить в душ? Поесть? Невозможно. Я умоляла мужа или родных посидеть с ним, просто подержать этот гамак, пока я на пять минут сбегу в ванную. В ответ – тяжёлые взгляды.
И слова. Те самые, что резали сердце острее любого ножа: «Он чувствует, что ты холодная, бесчувственная мать. Поэтому и не идёт к тебе на руки. Дети чувствуют фальшь».
Фальшь? Я истекала кровью от любви к нему! Я мечтала прижать его к груди, зацеловать, чувствовать его тепло. А он… он отстранялся. С первых дней жизни. Я была ему не нужна. Та, что выносила его в муках, родила, не спала ночами – я была раздражителем. Это ранило глубже любой физической боли. Это убивало во мне всё.
Я исчезла. Исчезла та красивая, успешная женщина. Исчезла жена. Не появилась мать. Я стала призраком, функцией по раскачиванию гамака и приготовлению смеси. Депрессия накатывала тяжёлыми, солёными волнами. Я плакала. Каждую ночь. До тех пор, пока подушка не становилась мокрой, а глаза не опухали так, что я почти не могла видеть.
В одну из таких ночей я поняла – слёзы не помогают. Они только разъедают душу. И я открыла ноутбук. И начала писать. Сначала это был поток сознания, боль, вылитая в текст. Потом подключилось воображение. Я начала придумывать миры. Далёкие страны, сильных героинь, истории, где была любовь и понимание. Получалось криво, косо. Я перечитывала и стирала, стирала целые главы. Не знаю, сколько таких «книг» я похоронила в недрах жёсткого диска.
Но это меня спасало. Это был мой параллельный мир. Мой крошечный островок спокойствия в аду реальности. Набирая слова на клавиатуре, я по капле собирала себя обратно. Я ещё не знала, кто я теперь. Но я начала догадываться, что я – не только мать, которой не принимает её ребёнок. И не жена-неудачница. Я была женщиной, которая, стиснув зубы, искала спасения. И находила его в строчках на экране. Это было начало. Начало долгого пути назад к себе.
Была у меня на рабочем столе компьютера папка под названием «Душа», это был сборник зарисовок из жизни матери ребенка с аутизмом, писала я туда редко, но никогда не удаляла написанное. Так начала рождаться книга «Мама, которая училась плакать…».
Лишняя
Уложить спать моего Лёшу всегда было сражением. Не просто трудностью, а именно тяжёлым, изматывающим боем, который начинался с его рождения и, кажется, не закончился до сих пор. Я помню те дни, когда мы жили в том старом доме с зелёным двором. Там было настоящее мамино братство.
Мы, мамочки с колясками, как по расписанию, собирались в одно и то же время. Солнце, смех, гул голосов. И дети… все дети, кроме моего. Они весело дрыгали ножками в колясках, сидели, слюнявя яркие погремушки, с любопытством разглядывая мир. А мой Лёша… мой Лёша начинал кричать почти сразу.
Я брала его на руки – ему не нравилось. Включала мобиль с музыкой – он успокаивался на минуту-другую, а потом снова надрывался, его крик, пронзительный и полный непонятной мне тоски, резал воздух.
И вот мы выдвигались в путь – «обходить район», как мы это называли. Девушки шли тесной группой, болтали о прикорме, о первых зубках, о мужьях, смеялись. А я… я шла чуть поодаль. Потому что к моменту, когда мы делали первый круг, их малыши уже начинали клевать носами, засыпая под мерный стук колёс. А мой всё кричал.
Я видела их взгляды. Сначала – косые, раздражённые. Потом – умоляющие.
– Маш, может, ты его покачаешь? – робко говорила Катя. – А то мой Ваня только заснул, а твой его будит.
Мне хотелось провалиться сквозь землю. Я отставала, пыталась укачать его с новой силой, бешено кружа коляску по тротуару. Я пела, шептала, умоляла его уснуть. Всё было тщетно. В итоге я просто сдавалась и уходила другой дорогой. Шла одна, слушая, как вдали затихает их счастливый гул.
Я смотрела им вслед и завидовала. Белой, горькой, щемящей завистью. Я завидовала их простому счастью, их усталости, которая была здоровой, а не истощающей душу. Я не винила их. Я вдруг с ужасной ясностью поняла: я лишняя в их компании. Потому что мой ребёнок – не такой.
Это было, наверное, первое осознание. Не чёткое, не сформулированное, а как туманная, холодная тень на сердце. Почему он? Почему всегда кричит? Почему не хочет на руки? Почему трёхчасовая прогулка в быстром темпе не усыпляет его, а только распаляет? Почему у всех этих детей, таких разных, есть общая программа – «спать на прогулке», а у моего – нет?
Однажды, в одну из таких одиноких прогулок, меня догнала наша соседка, женщина постарше, с умными, усталыми глазами.
– Маша, ты только не обижайся, – начала она осторожно. – У меня трое своих, я по одному крику могу понять. Твой малыш… он не просто капризничает. Его что-то беспокоит. Слишком он беспокойный, слишком много плачет. Я ведь твоя соседка, – она понизила голос, – я слышу через стенку. Как он надрывается. Сходи к неврологу, милая. Пожалуйста. Пусть посмотрят.
У меня в горле встал ком.
– Спасибо, – прохрипела я. – Я… я обязательно схожу.
Мне не хватило духу сказать ей правду. Что я уже была. И не у одного невролога. Что я даже пробилась на консультацию к детскому психиатру одна, без Лёши, потому что в его возрасте их ещё не смотрят.
Помню тот кабинет. Психиатр, немолодая женщина, смотрела на меня снисходительно, как на назойливую муху.
– Молодая мама, вам бы отдохнуть надо, – говорила она, глядя в мою медкарту. – Некоторые дети просто тяжелее адаптируются. Это особенности темперамента.
– Но он не спит! Вообще! – пыталась я вставить, чувствуя, как снова накатывают слёзы бессилия.
– Купайте в пустырнике, гуляйте больше, мультики не включайте, – звучал заученный ответ.
У меня было желание закричать: «Да я готова гулять с ним сутками! Я уже не помню, что такое мультики! Я сама почти не сплю! Помогите мне!»
Но я молчала. Они разводили руками. Самый «проницательный» из них предположил, что у меня послеродовая депрессия.
– Обратитесь к родственникам, отдохните, и вам перестанет казаться, что ребёнок постоянно кричит. Вы увидете, что всё в пределах нормы.
В пределах нормы. Эта фраза стала для меня приговором. Я так и не дождалась помощи. Ни от одного специалиста. Потому что ребёнок был мал, и кроме меня никто не видел в его бесконечном крике тревожный звонок. А мне не верили. Потому что я выглядела как измождённая, полусумасшедшая женщина. Возможно, они думали, что врач нужен мне самой.
Со стороны я, наверное, и правда была похожа на такую. Депрессия, страх, отчаяние и полное непонимание окружающих сделали своё дело. Я и сама себе уже не верила. Я плавала в этом океане усталости и не знала, что реально, а что мне уже кажется.
Признаться самой себе, что с твоим ребёнком происходит что-то странное и страшное – это первый шаг. И бывает так сложно его сделать, что на это уходят годы. А пока я просто шла по своей, одинокой дороге, катая коляску с кричащим сыном, и тихо завидовала всем тем мамам, чьи дети мирно спали.
Боль
Мой мир сузился до тридцати упаковок пластилина. До земляной тропинки, по которой нужно было идти, невзирая на грязь или гололед. До одних и тех же качелей, на которые нужно было только сесть, ни разу не качнувшись. Мой сын, мой Лёша, выстроил для нас обоих клетку из ритуалов, и малейшее отклонение от них вызывало ад.
Он не играл, он расставлял. Машинки – ровной линией, от самой большой до самой маленькой. Кубики – не для строительства, а для перекладывания с места на место, под один и тот же монотонный гул. А наши прогулки… «День сурка» был бы отдыхом. Каждый день один маршрут: подъезд → качели (посидеть!) → арка → земляная тропинка → магазин → пластилин → дом. Всегда один и тот же пластилин. Однажды я попыталась свернуть с тропинки, испугавшись огромной лужи. То, что последовало, было не детской истерикой. Это был животный ужас, вывернутый наизнанку. Он закричал так, будто его резали, упал в грязь, забился в конвульсиях, а в магазине начал бить руками по витрине, пока та не задрожала.
Через месяц продавцы смотрели на меня с жалостью. Через два хозяин магазина, седой мужчина с усталыми глазами, отвел меня в сторону. «Девушка, хватит. Берите, – он махнул рукой на коробку с пластилином. – Пусть берет каждый день. Просто так». Я плакала от благодарности и от стыда. Мы приносили пачку домой, Лёша пересчитывал свою коллекцию перед сном. Их должно было быть ровно тридцать. Если я пыталась подсунуть лишнюю, он с отвращением швырял ее в мусорное ведро. Он не лепил. Он покупал, приносил и считал. Маленький скульптор, который не создавал ничего, кроме стен вокруг себя.
А вокруг меня звучал хор «мудрых» советчиков. Свекровь, деверь – все в один голос твердили:
– Да у него просто характер такой, педантичный! – свекровь гладила Лёшу по голове, а он не замечал. – Это хорошо, что любит порядок. Это ты его нервируешь своими попытками перевоспитать. Ты ему травму наносишь!
И я, отчаянно цепляясь за надежду, что они правы, верила им. Я так хотела, чтобы мой ребенок был «нормальным», что закрывала глаза на правду. Я упустила два драгоценных года.
После той злополучной прививки в год и восемь месяцев все покатилось в тартарары. Как будто кто-то щелкнул выключателем. Исчезли слова. Пропал взгляд – он больше не смотрел мне в глаза. Пропал указательный жест – он перестал просить вообще. А потом началась война с едой. Месяц – только рис и свиная котлета. Потом – только суп с фрикадельками. Потом – гречка и курица. Он никогда не возвращался к старой еде. Он словно наедался ей навсегда. Попытка уговорить его заканчивалась одной реакцией – рвотой. Я сходила с ума от боли. «Разве это нормально?» – спрашивала я их, рыдая. В ответ слышала: «У тебя опять истерика. Врача себе найди, а ребенка оставь в покое». Меня стыдили. И я затихала, съедаемая чувством вины.
Пинком, который заставил меня очнуться, стал ларингит. Лёша задыхался, мы попали в больницу, но нас выписали из-за карантина по ветрянке. Дома – уколы, ингаляции и сироп эреспал. Он вызывал у него дикое отвращение. Но врачи сказали – обязательно. И я, послушная, вливала ему в рот эту гадость. И тут его заклинило. Он отказался от всего. От воды. От еды. Шел третий день. В глазах потемнело.
– Да он просто боится, что ты снова дашь сироп! – убеждала меня свекровь. – Пройдет день-другой, и всё наладится!
Но это была не шутка. Ребенок умирал у меня на руках. Что-то во мне щелкнуло. Я схватила его, одела куртку и понесла в поликлинику. Не помню, как шла. Помню только свинцовую тяжесть в ногах и его горячее, легкое тельце.
В очереди какая-то женщина начала возмущаться: «Без очереди – к заведующей!» Ее злость была подарком судьбы. Я почти вбежала в кабинет. Заведующая, женщина лет пятидесяти с умными, уставшими глазами, смотрела на меня, а я не могла вымолвить и слова, только тряслась.
– Доктор… он не ест… не пьет… три дня… – выдохнула я.
Она внимательно посмотрела на Лёшу, на меня, и в ее глазах мелькнуло что-то тяжелое, понимающее.
– Присаживайтесь, – сказала она тихо, поправляя халат. – Я вам помогу, все разъясню.
Она направила нас в психоневрологический диспансер ук участковому психиатру.
Слова регистратора из психоневрологического диспансера врезались в память навсегда: «Вы что, с ума сошли? Ребенок не ест, а вы записываетесь на прием? Везите сюда, немедленно!»
Свет в кабинете врача психиатра был холодным и безжалостным, он выхватывал из полумрака плакаты про психическое здоровье человека. Я сидела, прижимая к груди теплый, по-кошачьи гибкий комочек – моего трехлетнего сына. Его взгляд блуждал где-то за моим плечом, по потолку, и в его глубоких, не детски серьезных глазах отражался этот самый мертвенный свет.
Слова врача доносились до меня сквозь плотный ватный кокон, в который я заворачивалась с той самой секунды, как он произнес «РАС».
– …нужно сдать ребёнка в специализированный интернат, – его голос был ровным, как линолеум на полу. – Там ему будут обеспечены… ну, необходимый уход. Вы молодая, родите нового, здорового. Этот… этот не вылечить. Не мучайте ни его, ни себя.
«Этот». Мой сын. Мой мальчик, который заливается смехом, когда я щекочу ему пятку, который часами может выстраивать в идеальный ряд свои разноцветные кубики. Который не говорит «мама», но чье дыхание у моего виска – самая настоящая молитва.
«Родишь нового». Словно он сломанная игрушка, которую нужно выбросить и купить другую. Словно он не живой. Словно его сердце не стучит сейчас, прижавшись ко мне, такое частое и трепетное.
Я смотрела на доктора – усталое лицо, руки, сложенные на столе. Он был не злой. В этом был самый ужас. Он был… констатировавший. Как инженер, осматривающий бракованную деталь. Он говорил о будущем, о какой-то абстрактной, правильной жизни, в которой нет места моему неровному, особенному, но такому родному солнышку.
– Вам нужно подумать о будущем, – повторил он, видя мое окаменевшее лицо. – О своей жизни. О карьере.
А я в это время думала только об одном: о побеге. Мне казалось, что стены этого кабинета, пропитанные запахом антисептика и равнодушия, сейчас сомкнутся и раздавят нас. Мое сердце колотилось, как птица в клетке, требуя вырваться отсюда, под открытое небо, где нет этих страшных, бесчеловечных слов.
Я обняла сына крепче. Он тихо агукнул и уткнулся носом мне в шею. Его дыхание было горячим и живым. Таким живым.
«Неужели это так страшно?» – пронеслось в голове. Страшно? Да. Бывает страшно от незнания, от бессилия, от бессонных ночей. Но в его словах был не диагноз. В его словах был приговор. Отказ от моего ребенка. От моей крови. От моего мальчика.
Я поднялась с кресла. Ноги были ватными, но они держали меня.
– Спасибо, – почему-то прошептала я, сама не понимая, за что благодарю. Возможно, за то, что он обнажил всю пропасть, через которую нам предстоит перейти. Вдвоем.
Я вышла из кабинета, не оглядываясь. Не на того, кто советует «сдать» живую душу. Дверь захлопнулась, отсекая тот холодный, искусственный мир.
На улице пахло дождем и свежестью. Сын поднял лицо к небу, и на его щеку упала прохладная капля. Он улыбнулся. Смущенной, растерянной, но такой прекрасной улыбкой.
И в этот миг весь ад остался там, за спиной. А здесь, на воле, под дождем, держа за руку свое маленькое, не такое, как у всех, чудо, я поняла. Наш диагноз – это не приговор. Это просто другая карта. И мы будем искать по ней дорогу вдвоем. Не сдадимся. Никогда.
Слово «аутизм»
Первые недели после диагноза прошли в тумане. Слово «аутизм» висело в нашем доме тяжелым, ядовитым облаком, проникало во все щели, в сам воздух, которым я дышала. Но хуже всего были ночи. Когда засыпал Миша, затихал город, и в кромешной тишине на меня обрушивалась одна-единственная, изматывающая душу мысль: «Почему?»
Это был не вопрос, а пытка. Я перебирала всю свою жизнь, как четки, в поисках того рокового проступка, за который меня теперь так жестоко наказали.
«Что я сделала не так?» – шептала я в подушку, чувствуя, как сжимается горло. Может, виновата та таблетка от головы, выпитая за месяц до того, как я увидела две полоски? Может, я слишком много работала, нервничала из-за дедлайнов, не ела нужных витаминов? Я выискивала малейшие свои грехи, складывая их в тяжелый, давящий на плечи чемодан собственной вины.
Потом пришел гнев. Слепой, яростный гнев на всю несправедливость этого мира. Я видела в парке других мам, их улыбчивых, лепечущих детей, которые играли в догонялки. А мой мальчик, мой Лёша, мог часами молча раскачиваться, глядя в одну точку на обоях, и не оборачивался, когда я звала его по имени. Я смотрела на них и думала, сжимая кулаки: «Им-то что? Они лучше меня? Их Бог любит больше?» Внутри все клокотало от бессильной злости. Почему именно я? Почему наша семья? Мы же хорошие люди. Миша так ждал сына. Мы читали книги, готовились, купили кроватку, выбирали имя. За что?
Мысли становились все чернее и страшнее. «Как я буду жить?» – этот вопрос парализовал, не давал дышать. Я представляла себе бесконечный коридор из серых, однообразных дней, наполненных терапиями, странными взглядами в магазине, борьбой с истериками. Все мои мечты – о совместных походах в кино, о семейных поездках на море, о простом, таком естественном счастье хвастаться успехами сына в песочнице – рассыпались в прах. Мне казалось, что нормальная жизнь закончилась навсегда. Впереди была только безнадежная пустота и долг перед ребенком, который я никогда не смогу оплатить.
Я ловила на себе взгляды. Взгляд свекрови, полный немого вопроса и упрека: «Наверное, что-то с тобой не так, раз ребенок такой». Взгляд моей собственной матери, полный такой жалости, что хотелось провалиться сквозь землю. Я закрылась. Перестала ходить в гости, отвечала односложно на звонки подруг. Мне было стыдно. Стыдно за Лёшу, стыдно за свои черные мысли, стыдно, что я не могу принять и справиться.
Однажды ночью я не выдержала. Вышла на балкон, впилась пальцами в холодные перила и закричала внутрь себя, в черное небо, к Богу, в никуда: «Что я сделала?! Почему я?! Я не хочу этой доли! Я не справлюсь!»
От бессилия я сползла на холодный пол и разрыдалась. Эти слезы были другими – не тихими и горькими, а яростными, вырывающимися из самой глубины, из самого нутра.
А наутро случилось маленькое, странное чудо. Лёша, который обычно вообще не реагировал на мое состояние, подошел ко мне, пока я сидела на кухне с опухшими глазами. Он не обнял меня, не посмотрел в лицо. Он просто ткнул пальцем в мою мокрую от слез щеку, чтобы смахнуть слезинку.
В этом жесте не было любви в том виде, в каком я ее ждала. Но в нем было внимание. Был контакт. Пусть искаженный, проходящий через призму его особого мира, но настоящий контакт.
И в этот миг та каменная стена, что выросла у меня внутри, дала трещину. Я с мучительной, ослепляющей ясностью поняла: он не специально. Он не мучает меня назло. Он просто другой. Он живет в своем стеклянном шаре, и он не виноват в его существовании так же, как не виновата и я.
Вопрос «Почему я?» медленно, мучительно начал превращаться в другой, тихий вопрос: «А что, если это не наказание?» Что, если это просто… данность? Как цвет волос или форма ушей. Не хорошо и не плохо. Просто факт. Наша реальность.
Я поняла, что смириться – это не значит перестать чувствовать боль. Это значит перестать искать виноватых. Это значит перевести взгляд с разрушительного «почему» на единственно возможное «что теперь». Жить дальше оказалось не героическим подвигом, а цепью крошечных, едва заметных шагов. Шаг – найти дефектолога, который не будет кричать. Шаг – увидеть, как после месяца занятий Лёша на секунду сам взял меня за руку. Шаг – перестать оборачиваться на шепот за спиной в поликлинике.
Мне все еще было страшно. Будущее по-прежнему казалось огромным и пугающим. Но тот тяжелый, уродливый камень вины, что лежал у меня на душе, наконец-то сдвинулся с места. Освободившееся пространство саднило и болело, но в этой боли уже была возможность сделать глубокий вдох. И возможность разглядеть в своем мальчике не наказание, а просто сына. Другого. Сложного. Но своего. Моего Лёшу.
Стена непонимания
Стена. Именно так я называла это состояние. Стена непонимания, выстроенная из взглядов моих же родных, из их слов, из их молчаливого осуждения. Она поднималась всё выше с каждым днём, с каждым месяцем, и вот уже я осталась одна в этом каменном мешке. Давление этой стены было страшнее любого диагноза. Страшнее истерик Лёши, страшнее его молчания.
Муж, родители, сестра – все они смотрели на меня как на неудачницу. Как на бракованную мать, которая не может справиться с «обычным» ребёнком. Их замечания висели в воздухе, тяжёлые и ядовитые: «Ты его просто балуешь», «У всех дети как дети, а твой…», «Хватит уже выдумывать свои болезни!»
И в какой-то момент я начала верить им. А что, если это правда я? Я? Я сошла с ума, я всё придумала, я – плохая мать, и всё, что происходит – это моя вина.
В тот вечер всё достигло пика. Муж, вернувшись с работы, с порога начал с того, что я не так сложила его вещи, не так посмотрела, не так дышу. Очередное замечание прозвучало как последняя капля.
Я почувствовала, как по мне пробежала мелкая дрожь. Сначала по кончикам пальцев, потом затряслись колени. Я попыталась сжать губы, но из горла вырвался странный звук. Что-то среднее между стоном и смехом. И потом меня уже не остановить.
Это был не смех. Это была истерика, вывернутая наизнанку. Я хохотала, закатываясь, рыдая и давясь этим ужасным, нечеловеческим хохотом. Я повалилась на кровать, уткнулась лицом в подушку, пытаясь заглушить этот кошмар, но смех продолжал рваться из меня, сотрясая всё тело.
Муж стоял надомной, и его лицо искажалось от злобы и брезгливости.
– Ты совсем одурела? Совсем крыша поехала? – его голос резал слух. – Прекрати этот цирк! Мне надоели твои истерики! Если не прекратишь, вызову скорую, упекут в психушку, где тебе и место!
Мне было всё равно. Абсолютно. Этот смех был единственной возможностью выплеснуть наружу весь тот ужас, что копился месяцами. Это было освобождение. Пусть они думают, что я сумасшедшая. Так я и буду себя вести. Получайте.
И тут раздался оглушительный удар. Звон бьющегося стекла заставил меня резко обернуться. Окно в спальне… его не было. На полу лежали осколки, а муж стоял с довольным выражением лица, держа в руке тяжелую пепельницу.
– Ну что? Счастлива? – прошипел он. – Успокоилась, истеричка? Приди в себя. Сходи к психиатру, пусть тебе таблеток выпишут. В конце концов, ты мать. Вечером придут, окно вставят. А сейчас займись ребёнком и приведи себя в порядок. И чтобы я больше не слышал твоих припадков. Поняла меня?