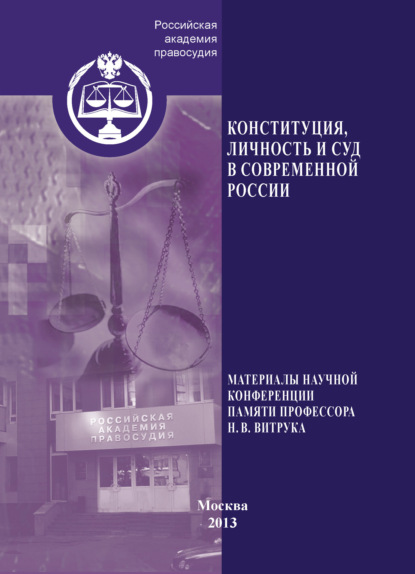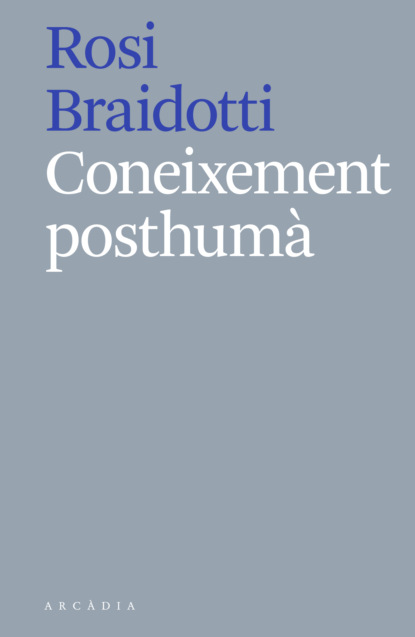- -
- 100%
- +
Он развернулся и ушёл, хлопнув дверью.
Я сидела на кровати и смотрела на зияющую дыру в окне. На острые, блестящие осколки на полу. В голове зазвучал навязчивый, шёпчущий голос.
«Всего шестой этаж… Может, не убьешься, а только покалечишься? Это ещё хуже… А вот осколки… Они такие острые… Это надёжнее…»
Я медленно подошла к осколкам. Присела. Протянула руку. Соблазн был так велик. Один резкий взмах – и всё закончится. Вечная тишина. Отсутствие этой давящей стены, этих взглядов, этой боли.
И тут с гостиной раздался душераздирающий крик. Лёша. Его крик, полный настоящей, животной паники. Я вскочила и побежала.
Он сидел на ковре. Его машинки, всегда выстроенные в безупречный ряд, доходили только до середины ковра. А дальше – пустота. Двух машинок не хватило. Его мироздание, его строгий, понятный порядок – рухнул. Он бился головой об пол, заливаясь исступлённым плачем.
И в этот миг до меня дошло. У меня нет права. Нет права уйти. Потому что он не сможет. Не сможет найти свои машинки. Не сможет понять, почему мир снова стал хаотичным и страшным. Не сможет есть, мыться, жить без меня. Я – его проводник. Его переводчик. Его стена от этого мира.
Истерика как рукой сняло. Всё внутри замерло и стало кристально ясным. Я подошла к нему, нашла две закатившиеся под диван машинки и молча положила их в конец ряда.
Крик прекратился мгновенно. Он всхлипнул и снова погрузился в свою игру, завершая безупречную линию.
Я села рядом. Взяла коробку с кубиками и начала выкладывать свой, параллельный ряд. Длинный-длинный, вдоль всего ковра. Я не смотрела на него. Просто клала один кубик за другим.
Прошло несколько минут. И тогда он протянул руку. Взял один из моих кубиков. И поставил его в свой ряд. Потом ещё один.
Он не смотрел на меня. Но он играл со мной. Мы делали одно дело. Наши миры, пусть ненадолго, соприкоснулись. По этому хрупкому мостику из кубиков.
Я сидела и смотрела на его маленькие, сосредоточенные пальцы, и понимала – это мой выбор. Я остаюсь. Не потому, что я сильная. А потому, что у меня просто нет другого выхода. Я – его мама. И пока он дышит, я буду его стеной. Даже если от самой меня к этому времени уже ничего не останется.
Иллюзия семьи
Идеальная семья. Именно такой нас хотели видеть все вокруг, а особенно – родители моего мужа. И ради этой картинки они были готовы на всё. Даже на то, чтобы спрятать собственного внука.
Помню, как впервые прозвучала эта просьба. Свекровь говорила мягко, но в её тоне сквозила сталь.
– Милая, мы приедем в субботу. Ты, пожалуйста, приготовь тот торт, что муж так любит, и уберись в гостиной. И… Лёшу лучше отвези к своей маме на день.
Я онемела от изумления.
– То есть… мне не быть дома, когда вы приедете? И Лёше тоже?
– Ну что ты, не драматизируй! – вмешался муж, Миша. – Просто сейчас не время для лишних вопросов. Мама права. Если родственники увидят, что с ребёнком не всё идеально, начнутся расспросы, советы, они будут везде сунуть нос. А так… пока они ничего не знают, у нас есть время всё исправить. Так лучше для всех.
«Всё исправить». Эти слова резали слух. Они говорили о нашем сыне, как о сломанной игрушке, которую нужно починить до того, как её увидят гости.
– Но он не испорчен! – хотелось крикнуть мне. – Он просто другой!
Но я молчала. А потом это стало правилом. Перед каждым их визитом – один и тот же ритуал. Тщательная уборка, готовка, и – исчезновение. Иногда мне «разрешали» остаться, но Лёшу всё равно увозили заранее.
А потом начинался спектакль. За столом, уставленным моими же пирогами, родственники мужа с умилением спрашивали:
– Ну, как наш внучек? Наверное, уже бегает? Наверное, уже вовсю лопочет?
И мой муж, мой собственный муж, расплывался в улыбке и начинал врать. Гладко и уверенно.
– О, да он у нас непоседа! Постоянно в движении. И болтает без умолку, вот только выговора некоторые буквы не даются, но это же мелочи!
Я сидела, сжимая в коленях пальцы, вцепившиеся в скатерть. Внутри всё кричало. Каждое его слово было ножом. Он описывал ребёнка, которого у нас не было. Ребёнка из их больных фантазий.
Мне хотелось вскочить, сгрести со стола всю эту душевную посуду и швырнуть её об пол. Чтобы звон разбитого хрусталя наконец заглушил этот поток сладкой, ядовитой лжи. Хотелось закричать: «ВРУН! Он не говорит! Он часами может сидеть, раскачиваясь и глядя в стену! Он не ваш „молодец“, он – мой мальчик, которому нужна помощь, а не ваши притворные восхищения!»
Но я молчала. Я улыбалась. Тонкой, натянутой улыбкой, которая, казалось, вот-вот треснет и осыплется, как штукатурка с фасада нашего «идеального» дома.
И самое страшное было то, что я… завидовала его лжи. Я слушала, как он описывает сына, который смеётся, бегает и болтает, и в каком-то извращённом уголке души мне тоже хотелось, чтобы это была правда. Чтобы это была не ложь, а наша жизнь. Чтобы мне не приходилось прятать собственного ребёнка, как позорную тайну.
Но это была ложь. Сплошная, тотальная ложь. И я была её соучастницей, запертая в этой красивой, нарядной клетке молчания. Потому что «так лучше для всех». Лучше для всех, кроме моего Лёши. Которого в его же доме сделали невидимкой. И кроме меня. Которая с каждым таким визитом чувствовала, как её сердце превращается в комок горькой, непролитой боли.
Мусорное ведро
Каждый день начинался и заканчивался мусорным ведром. Оно стояло посреди комнаты, как укор, как памятник моему бессилию. Пластиковое, синее, абсолютно обычное. Но в моей жизни оно превратилось в самую неприступную крепость.
Две недели. Четырнадцать дней бесконечных, изматывающих повторений. Я уже ненавидела фразу «брось мусор в мусорное ведро». Она звучала в моей голове и вслух десятки, сотни раз. Я произносила ее ровно, с улыбкой. Произносила ее весело, как игру. Потом – устало. Потом – с мольбой. Потом – с отчаянием.
Я брала руку четырехлетнего Леши в свою, его маленькую, напряженную ладошку, и вела его через всю комнату. Вкладывала в его пальцы смятый фантик, подводила к ведру, направляла его руку, чтобы тот разжал пальцы. «Брось мусор, Леша. Молодец!» – звучало как заезженная пластинка. А в ответ – ничего. Ни понимания, ни осознания. Только сопротивление мышц, только уход в себя, только пустой взгляд, устремленный куда-то в сторону.
Я читала, что нужно разбивать задачу на шаги. Я пробовала. «Возьми мусор». Непонимание. «Пойдем к ведру». Сопротивление. Я клала ведро прямо перед ним. Он просто обходил его, как невидимую преграду.
Сегодня я сломалась. С самого утра что-то внутри перегорело. Я механически проделала ритуал еще раз, мой голос звучал плоско и бесчувственно. Леша, как всегда, не отреагировал, увлеченный кручением колесика от машинки. И я отпустила его руку. Просто отпустила.
Я опустилась на диван и уставилась в стену. Мысли были тяжелыми и липкими. «Это бессмысленно. Он никогда не поймет. Никогда не сможет жить обычной жизнью. Я трачу силы впустую». Отчаяние накатило густой, черной волной. Я не плакала. Слез уже не было. Была только пустота и тихая, холодная уверенность в своем поражении. Я сдалась. Окончательно и бесповоротно.
Я сидела так, может, минут десять, двадцать, не в силах пошевелиться. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь монотонным постукиванием колесика по полу.
А потом я увидела движение краем глаза.
Леша отложил машинку. Он встал. Его движения были немного неуклюжими, как всегда. Он подошел к столу, где лежал тот самый смятый мною утром бумажный шарик от пробы «возьми мусор». Он взял его. Не глядя на меня, не глядя на ведро. Он просто повернулся и пошел через комнату. Прямо к тому самому синему ведру, которое так и стояло на своем посту посреди ковра.
Сердце у меня замерло. Я боялась дышать.
Он подошел к ведру. Остановился. На его лице не было выражения осознанного действия, это было скорее автоматическое, точное движение. Он протянул руку и разжал пальцы. Бумажный шарик упал на дно пластикового контейнера с глухим, самым прекрасным стуком, который я слышала в своей жизни.
Он не посмотрел на меня с триумфом. Он не ждал похвалы. Он просто развернулся и пошел обратно к своей машинке, как будто только что выполнил самый естественный ритм вселенной.
А я сидела на диване, и по лицу текли тихие, горячие слезы. Это были слезы стыда за свое малодушие, за то, что я сдалась всего пять минут назад. И слезы бесконечного, оглушительного облегчения.
Он не просто бросил мусор. Он разрушил стену моего отчаяния. Он доказал, что все мои усилия – не крик в пустоту. Они – семена, которые прорастают в его собственном, непостижимом для меня темпе. Тихо, незаметно, и тогда, когда я уже перестает ждать.
Я подошла к мусорному ведру и заглянула внутрь. Там лежал не просто смятый листок. Там лежала моя надежда. И на этот раз она была настоящей.
Маршрут от точки А в точку Б
Каждая прогулка с моим сыном – это не отдых. Это стратегическая операция по преодолению маршрута от точки А до точки Б. И каждая такая операция выжимает из моей нервной системы все соки, оставляя после себя лишь выжженную землю усталости.
Мы выходим из подъезда, и я чувствую, как внутри все сжимается в комок. Предчувствие. Предчувствие надвигающегося ада.
Мой мальчик не похож на других детей, которых везут в колясках или несут на руках, обняв. Его мир устроен иначе. Коляска – это тюрьма. Стоит мне попытаться усадить его и застегнуть ремни, как его тело напрягается, а из груди вырывается пронзительный, раздирающий душу крик. Он еще не говорит, поэтому крик – его единственный язык, чтобы выразить весь ужас несвободы и дискомфорта.
«Нет, Лёша, не надо, посидим, хорошо?» – умоляюще шепчу я, но он уже выгибается, его лицо заливается краской. Приходится вытаскивать.
Попытка взять его на руки и просто донести – тоже провал. Мои прикосновения, мои объятия, которые должны нести утешение, для него – еще один источник паники. Он выгибается, бьется, его крик становится еще отчаяннее. А он уже тяжелый, мои руки дрожат после минуты такой борьбы, и я сдаюсь, опуская его на асфальт.
Самое сложное – уговорить его идти за ручку. Он не ведомый, он – самостоятельная планета со своей орбитой. Он пойдет только туда, куда хочет сам. Силой не выйдет – это знает каждая клеточка моего тела. Попытка повести его за руку заканчивается одинаково: он с криком вырывается, его маленькое тело обмякает, и он падает на асфальт, заливаясь истеричным плачем. Сердце разрывается на части, когда я вижу его, лежащего в пыли, такого потерянного и несчастного.
И тогда начинается наш сюрреалистичный, изматывающий марафон.
Я подхватываю его на руки, пока у меня еще есть силы. Несу его, он бьется и кричит мне в ухо. Через двадцать шагов я выдыхаюсь, опускаю его. Он падает на землю, рыдает, а я стою над ним, дышу как загнанная лошадь и молюсь, чтобы он успокоился. Минута, другая… Он замолкает, встает. И, о чудо, иногда он делает несколько шагов в нужном мне направлении.
«Молодец, Лёшенька! Идем к автобусу!» – пытаюсь я вложить в голос энтузиазм, которого нет и в помине.
Он бежит. Я бегу за ним, сердце колотится, пытаясь просто корректировать его траекторию, как слабый магнит, пытающийся управлять шаловливым электроном. Он сворачивает, я снова хватаю его на руки, разворачиваю, несу несколько метров, ставлю, он снова падает и кричит.
И так, рывками, в грязи, в слезах, в поту, мы продвигаемся вперед. К тому моменту, как мы добираемся до заветной остановки общественного транспорта, я уже не человек. Я – пустая оболочка, залитая адреналином и отчаянием. Он – истощенное, заплаканное существо, у которого тоже не осталось сил.
Он прекрасно понимал, куда мы идем. И он не хотел туда. Эта остановка ассоциировалась у него с поездкой к врачу. С людьми, с давкой, с чужими голосами. Его негативная реакция начиналась не на улице, а еще дома, в прихожей, когда я брала в руки его куртку. Он чувствовал мое напряжение, мой страх, и отвечал на него своей бурей.
Каждая наша поездка в автобусе – это не логистика. Это минное поле. И я знаю, где заложена каждая мина, но обойти их не могу. Я могу только пройти по ним, чувствуя, как разрывается всё внутри.
Вот мы на остановке. Лёша замер, его маленькая рука сжимает мою с такой силой, что кости ноют. Его взгляд прикован к месту, откуда должен появиться автобус. Его мир сейчас сузился до одной-единственной цели: сесть в ПЕРВЫЙ подъехавший автобус. Для него это не вопрос удобства. Это закон мироздания, незыблемый и абсолютный. Он весь – ожидание. Он дышит им.
И вот он, гул мотора. Лёша поднимается на цыпочки. А я… я уже вижу предательскую цифру на лобовом стекле. Не 34. 76.
Сердце начинает стучать где-то в горле. Внутри всё сжимается в ледяной ком.
– Лёшенька, – тихо говорю я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. – Это не наш. Наш будет следующим.
Он не слышит. Он видит открывающиеся двери. Видит спасительный порог. И мой запрет обрушивает его вселенную.
Сначала он замирает, будто не понимая. Потом тихий стон, который за секунду перерастает в оглушительный, разрывающий душу крик. Он не плачет. Он кричит от боли, будто его режут. И он падает. На асфальт, в пыль, в лужу – неважно. Он бьётся в истерике, весь в грязи, не видя и не слыша ничего вокруг.
А вокруг – они. Люди. Их взгляды – тяжёлые, колючие, полные непонимания и осуждения.
– Какой невоспитанный ребёнок! – слышится чей-то возмущённый шёпот.
– Мамаша, может, ему плохо? – пытается помочь пожилая женщина, наклоняясь к нему.
– Не трогайте его, пожалуйста! – умоляю я, едва сдерживая слёзы. – Ему нужно просто время.
Я опускаюсь рядом с ним на колени. Не пытаюсь поднять. Не кричу. Я просто сажусь в эту грязь рядом со своим сыном, положив руку ему на спину. Я тихо шепчу ему на ухо бессмысленные слова утешения, которые он не слышит. Я просто жду. Жду, пока этот ураган боли не выдохнется. Внутри меня всё дрожит. Я привыкла? Нет. К этому нельзя привыкнуть. Можно только окаменеть на время, собрать всю свою боль в кулак и переждать.
Истерика всегда заканчивается. Он затихает, обессиленный, всхлипывая. Я поднимаю его, отряхиваю. Он смотрит пустым, уставшим взглядом. И вот он – наш, заветный, 34-й.
Мы заходим. И начинается вторая битва. Он должен сесть на определённое место. Рядом с кондуктором. Если оно занято, всё начинается снова. Тихий стон, раскачивание, он тычется пальцем в плечо незнакомого мужчины.
– Извините, – мой голос звучит виновато и устало, – можно Вас попросить… это его ритуал… ему нужно именно это место…
Реакции бывают разные.
– Воспитывать надо лучше, а не потакать капризам! – бросает женщина, отворачиваясь к окну.
– А на то свободное место нельзя? – раздражённо указывает кто-то пальцем.
– Да какая разница, где сидеть! – ворчит подросток.
Мои кулаки сжимаются от бессилия. Я готова провалиться сквозь землю. И вот случается чудо. Молодой парень, просто смотревший в телефон, поднимает на меня глаза. Видит моё отчаяние, видит Лёшу, который начинает теребить его рукав. И без единого слова, без вздоха, без упрёка – он просто встаёт и пересаживается.
В этот момент комок в горле подступает так близко, что я не могу сдержать слёз. Я киваю ему, беззвучно шепча «спасибо», боясь, что если заговорю, разрыдаюсь. Эта простая, молчаливая доброта бьёт сильнее любой грубости.
И вот подходит наша остановка. Я знаю, что будет. Я вижу её в окне, и снова эта знакомая дрожь.
– Лёша, солнышко, выходим.
Он упирается. Я мягко, но настойчиво веду его к выходу. Он мычит, его тело становится тяжёлым и непослушным. Двери открываются с щелчком. Он издаёт пронзительный крик, когда я вывожу его на тротуар. Он проходит три шага и снова падает – теперь на асфальт. И снова истерика. Отчаяние, что любимая поездка закончилась.
И я снова сажусь рядом. Глажу его по мокрым от слёз волосам и шепчу: «Всё хорошо, мой хороший. Всё уже позади. Скоро мы придём домой». И я жду. Снова жду. Потому что это – наша жизнь. Бесконечный цикл из предчувствия, боли, стыда и тихого, изматывающего ожидания, когда буря утихнет. До следующей поездки.
Мы никогда не ездили куда-то просто так, «погулять». Слишком дорогой была цена за такой маршрут. Слишком разрушительным было это испытание.
Я смотрю на его спящее лицо после одной из таких вылазок, вытираю с его щеки размазанные следы слез и грязи. И думаю: сколько еще таких маршрутов впереди? Хватит ли у меня сил быть для него и руками, и ногами, и щитом, пробивающим стену его страхов? Но потом я вспоминаю, зачем мы это делали. Ради логопеда, который однажды научит его говорить. Ради врача, который поможет ему чувствовать себя лучше.
И этот хрупкий лучик смысла заставляет меня завтра снова набраться терпения, сделать глубокий вдох и снова открыть ту самую дверь, за которой начинается наш личный ад – маршрут от точки А до точки Б.
Поход в поликлинику
Я держала его за руку, и эта рука была моим барометром. Сначала она была просто теплой и мягкой. Потом стала влажной. А сейчас, после двадцати минут в этой душной, пропахшей лекарствами и чужими болезнями очереди, она напряглась, как струна. Лёша начал раскачиваться. Сначала почти незаметно, потом все сильнее. Его взгляд уперся в трещинку на кафельном полу, и я знала – мы на грани.
«Еще пять минут, солнышко, еще чуть-чуть», – прошептала я, больше успокаивая себя. Я достала из сумки заветный конверт. Справка об инвалидности. Наше право на маленькое чудо – не ждать.
Когда подошла наша очередь к окошку регистратуры, я уже чувствовала, как по спине бегут мурашки. Лёша издал тихий, высокий звук, похожий на писк зажатого зверька.
– Добрый день. Мы к врачу, можно без очереди по инвалидности, – сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал, и протянула справку.
Женщина за стеклом бросила равнодушный взгляд на Лёшу, который сейчас смотрел в потолок, крутя пальцами перед лицом.
– А что с ним не так? На вид здоровый мальчик. Все ждут.
Ком в горле встал мгновенно. «На вид здоровый». Эта фраза, как удар тупым ножом.
– У него аутизм. Ему очень тяжело ждать в очереди, сенсорная перегрузка. Мы можем пройти без очереди?
Из-за спины послышался резкий голос:
– Ой, все мы устали! У меня тоже ребенок, и мы ждем! Что за блатные? «Аутизм»… Сейчас модно стало диагнозы клеить.
Я обернулась. На меня смотрели десятки глаз. Усталые, раздраженные, полные непонимания. В них я прочитала не просто злость, а обвинение. Меня обвиняли в том, что я хочу пролезть без очереди, прикрываясь «несуществующей» болезнью моего «нормального на вид» сына.
Лёша, почувствовав напряжение, начал громче гудеть и тереть уши. Он тянул меня к выходу, его раскачивание стало опасным.
– Прошу вас, – голос мой предательски задрожал, – вы видите, ему плохо!
– А что я могу? – развела руками регистраторша. – Люди не понимают. Идите, ждите, как все.
И тут Лёша не выдержал. Резкий, оглушительный крик, который резанул по ушам всей очереди. Он повалился на пол, закрывая уши ладонями и рыдая. Это был не каприз. Это был крик его нервной системы, крик о помощи, который никто, кроме меня, не понимал.
Я опустилась на колени рядом с ним, пытаясь обнять его, создать хоть какое-то безопасное пространство в этом аду. А над нами нависла та женщина:
– Вот, довели ребенка! Истерику устраивает, чтобы пропустили! Ну и воспитание!
В этот момент во мне что-то сломалось. Не злость. Не ярость. Полная, абсолютная беспомощность. Слезы, которые я сдерживала все эти годы – на детских площадках, когда над ним смеялись, в магазинах, когда он кричал от яркого света, на семейных праздниках, где его считали невоспитанным, – хлынули ручьем. Я плакала молча, сидя на грязном полу поликлиники, прижимая к груди своего рыдающего сына. Я плакала не из-за хамства этой женщины. Я плакала от одиночества. От того, что мир, который должен быть терпимым, оказался таким жестоким и слепым.
Мои слезы, кажется, ошеломили всех больше, чем крик Лёши. Гул возмущения стих. Кто-то смущенно отворачивался.
В этот момент из кабинета вышла врач. Увидев нас, она вздохнула и резко сказала регистратору: – Марья Ивановна, сколько можно? Ведите их ко мне. Немедленно.
Она помогла мне подняться, и мы, двое рыдающих – я и мой сын, – пошли в кабинет. Дверь закрылась, отгородив нас от осуждающих взглядов.
Я успокаивала Лёшу, а сама не могла остановить дрожь. Врач молча дала мне стакан воды. И в ее глазах я увидела не жалость, а усталое понимание. Она видела это не раз.
В тот день мы получили нашу справку. Но я унесла с собой не ее. Я унесла ощущение глубокой раны. Раны от того, что тебе не верят. Что твою ежедневную битву, твое мужество и мужество твоего ребенка, кто-то может посчитать симуляцией ради места в очереди к врачу.
Этот случай не сломил меня. Но он научил меня быть готовой. Теперь я вхожу в поликлинику не с робкой надеждой, а с броней из документов и готовностью бороться. Но до сих пор, подходя к окошку, я невольно сжимаю кулаки и чувствую тот самый ком в горле. Потому что ни одна справка в мире не может защитить от боли, когда невидимую инвалидность твоего ребенка и твое родительское сердце публично объявляют обманом.
«Волшебная страна»
Я все делала по книжкам. По советам «опытных» мамочек из интернета. Говорили же: «Дети с аутизмом нуждаются в структуре и предсказуемости». Что ж, я могла стать для моего сына лучшей в мире структурой.
Я выбрала самый спокойный, по отзывам, развивающий центр. «Волшебная страна». Ироничное название. Я привозила Лешу за полчаса, а то и за сорок минут до начала занятия. Чтобы он успел. Привык.
Я сажала его на тот же желтый стульчик в углу. Клала перед ним те же самые кубики. Он тихо постукивал ими, не строя башни, а просто слушая звук. Его взгляд блуждал по комнате, и в эти минуты тишины и пустоты я позволяла себе надеяться. Смотри, как ему спокойно. Смотри, он изучает игрушки. Сегодня все будет по-другому.
Я знакомила его с преподавателем, Аней Сергеевной. «Леша, смотри, это Аня Сергеевна. Она добрая». Он не смотрел на нее, но, казалось, принимал ее присутствие. Я верила, что эти ритуалы создадут для него невидимый кокон безопасности.
А потом приходили они.
Сначала слышны были голоса в коридоре – звонкие, радостные, перебивающие друг друга. Потом дверь распахивалась, и в кабинет врывался вихрь курточек, шапок и смеха. Мир Леши рушился в одно мгновение.
Сначала он просто замирал, будто каменел. Потом начиналось раскачивание. Вперед-назад, вперед-назад, все быстрее, как маятник, отсчитывающий секунды до взрыва. Потом он начинал стонать. Тихий, отчаянный звук, который рвался из самой глубины. Он бил себя ладонями по лбу, по ушам, словно пытаясь выбить оттуда этот шум, этот хаос, этих непонятных, быстрых, громких других детей.
«Леша, смотри, девочка играет в машинку! Леша, давай поздороваемся с мальчиком!» – я пыталась своим голосом, дрожащим от паники, стать для него якорем. Но он уже не слышал меня. Его мир сузился до паники. Он срывался с места и нырял под самую дальнюю парту, забивался в угол, прижимал колени к груди и закрывал уши. Он был похож на раненого зверька, который хочет одного – исчезнуть.
Я ползала на коленях, пытаясь уговорить его выйти. «Выйди, солнышко, давай попробуем». В ответ – только учащённое дыхание и взгляд, устремленный в никуда. А вокруг нас кипела жизнь. Дети лепили, рисовали, пели песенку. Их мамы украдкой бросали на нас взгляды – не осуждения, нет, скорее растерянной жалости. И это было еще невыносимее.
Аня Сергеевна подходила ко мне с мягким, виноватым лицом. «Мария, может, сегодня… он просто не в духе? Не заставляйте его».
«Не заставляйте». Это слово было сигналом капитуляции. Я знала, что мы проиграли. Снова.
Я собирала наши вещи дрожащими руками. Вытаскивала Лешу из-под парты, он упирался, его тело было напряжено, как струна. Мы шли по коридору, а из-за двери доносился смех и веселая музыка. У меня щемило в горле. Я чувствовала себя полной неудачницей. Я провалила это. Снова.
Мы меняли кружки. «Может, тут другая атмосфера?» – спрашивала я себя с новой, безумной надеждой. Но сценарий повторялся с пугающей точностью: приезд заранее, тишина, надежда – и затем взрыв, раскачивание, стоны, парта.
В тот день, когда я в очередной раз, не дождавшись конца занятия, повела его к выходу, а он, уже в раздевалке, снова начал бить себя по голове, меня накрыло. Я прижала его к себе, не слышавший меня в своем ужасе комочек, и поняла. Это не он не подходит этому миру. Это этот мир, с его громкостью и скоростью, не подходит ему. И моя задача – не впихнуть его в чужую структуру, а найти ту, в которой ему будет не больно. Какой бы другой она ни была.
Я плакала тихо, чтобы он не видел. Потом вытерла слезы, взяла его за руку, и мы вышли на улицу. Нас ждал не «Волшебная страна», а тихая скамейка в парке, где не было никого, кроме нас и воркующих голубей. И для Леши этого было достаточно.