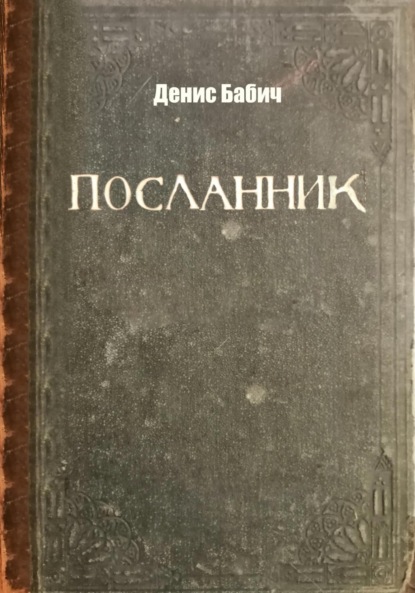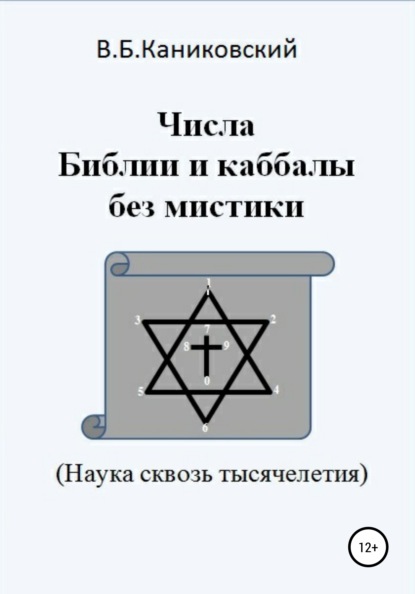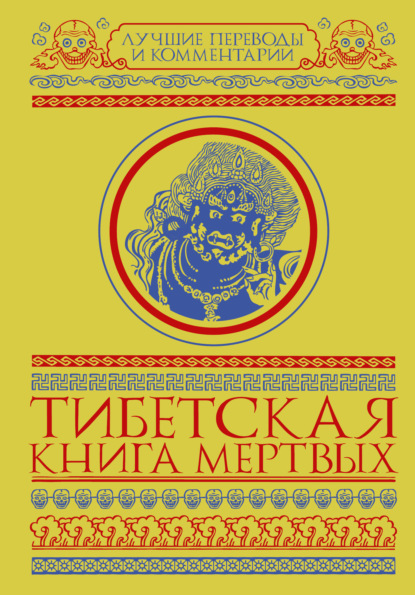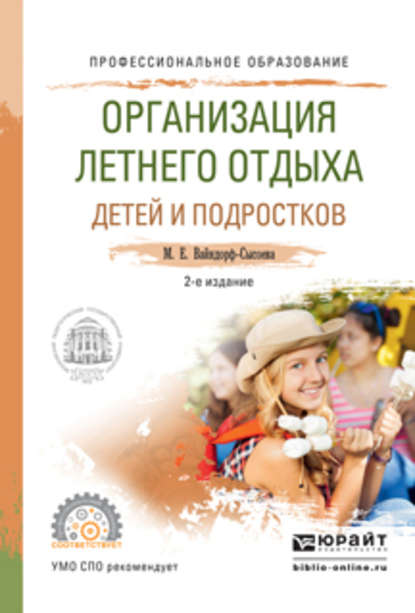- -
- 100%
- +
– Правильно, потому что они переняли его у татар.
– А почему они переняли у татар, а не татары у них?
– Потому человечество произошло от татар.
Покровский не решился пойти по второму кругу этой логической цепочки и промолчал.
– Ну что, готовы посетить нашу баньку? – попытался разрядить обстановку Вася.
– Такой вкусный стол, что прям нет сил из-за него встать, – ответила Олеся, поедая домашнюю колбасу.
– Были когда-нибудь в настоящей татарской бане? – не обращая внимания на Олесю, спросил Камиль Покровского.
– Наверное, нет. Только в русской был.
– Так это и есть татарская.
– Русская?!
– Русских с баней познакомили татары в период татаро-монгольского нашествия. До этого у русских были землянки, в которых на костре разогревали камни. Бани по чёрному.
– Хоть что-то хорошее досталось русским от татарского нашествия, – обрадовался Покровский.
– Татары подарили русским не только бани. Они сформировали русскую государственность.
– Да ладно?!
– А Вы думали, это сделали скандинавы?
– Насчёт скандинавов я совсем не уверен, норманнская теория очень спорна.
– Нормандская теория – полная чушь, – поставил точку в многовековом споре норманистов и антинорманистов Камиль. – Именно татары подарили русским государство. Вплоть до татаро-монгольского нашествия Русь состояла из множества разрозненных княжеств.
– Простите, – возразил Покровский, – но это не доказательство. Русь объединилась для борьбы с иго, то есть иго косвенно повлияло, конечно, но до ига Русь уже была государством, хоть потом и имела место раздробленность.
– Скандинавы не могли создать государство на Руси, они не оставили следов своего воздействия, – аргументировал своё мнение Камиль. – В русском языке почти нет скандинавских слов, а это немыслимо, если предположить, что скандинавы правили в России несколько столетий. А вот татарских слов в русском языке больше половины. Кроме того, почти все знатные фамилии на Руси – татарского происхождения.
– Слушайте, а может мы зря сбросили это иго? – предположил Покровский. – А то бы нам татары еще что-нибудь подарили.
– А иго никто не сбрасывал. Татарские цари правили Россией вплоть до Петра Первого. Иван Грозный, Борис Годунов…
– Иван Грозный?! – удивился Покровский.
– А Вы не знали?
Покровский в ужасе покачал головой.
– Его мать, Елена Глинская, чистокровная татарка, приходилась по мужской линии родной внучкой Мансура-Кията, старшего сына эмира Золотой Орды, наместника крымского улуса-юрта Мамая. Сам Иван Грозный относил себя к прямому потомку темника Мамая, внешность его – тоже чисто татарская.
– Насколько я знаю, Иван Грозный относил себя к потомку римского императора Августа, – попытался возразить Покровский.
– Это он так себя называл для поднятия своего политического веса в глазах европейских монархов.
– А, понятно… – кивнул Покровский. – Борис Годунов, как я понимаю, тоже татарин?
– Он потомок Четы-мурзы, внук татарина Ивана Годуна.
– А русские к управлению русским государством случайно не были причастны, ну хоть кто-то, в виде исключения? – робко подала голос Олеся.
– Русское боярство убило сына Ивана Грозного царевича Дмитрия, что привело к смутному времени и интервенции поляков и шведов. Если бы не татары Минин и Пожарский, Россия перестала бы существовать как государство.
– Минин и Пожарский тоже татары!? – поразился Покровский.
– Пожарский по матери из татарского рода Беклемишевых. Кузьма Минин это Кириша Мининбаев.
– Кто?!
– Отец Кузьмы Минина, Мина Анкундинов, был крещеный татарин. Минин – это отчество, которое превратилось в фамилию, но про это все забыли. Мина Анкундинов был солепромышленник. Когда он со своим сыном Киришей переехал в Нижний Новгород, Кириша занялся торговлей рыбой и мясом. Для удобства он взял местное имя Кузьма. Так и получился Кузьма Минин.
– А Минибаев здесь при чем? – уточнил на всякий случай Покровский.
– Его фамилия была Мининбаев – это древняя татарская фамилия, от которой и произошла фамилия Минин.
– Постойте, Вы же сказали, что фамилия Минин произошла от имени Мина, что это отчество, превращенное в фамилию?
– Ну да.
– А Мининбаев тогда откуда взялось?
– Мининбаев – это татарская фамилия, от которой произошла русская фамилия Минин. Её взял Кириша Мининбаев для удобства общения с местным населением. Так он стал Кузьмой Мининым.
– Но если он был Мининбаевым, то как его отец мог быть Анкундиновым???
– Он не был Мининбаевым. Точнее, сначала не был! Его фамилия образовалась от имени его отца, Мины, то есть от его отчества!
– Ты поняла? – в недоумении произнёс Покровский, с надеждой посмотрев на Олесю.
– Простите, – подала голосок Олеся, – а почему русская фамилия Минин произошла от татарской Мининбаев, а не наоборот, татарская Мининбаев от русской Минин. Дело-то в Нижнем Новгороде было, в русском городе.
– Потому что у татар есть фамилия Мининбаев.
– Предельно логично, – резюмировал Покровский.
– А я-то, дура, всю жизнь думала, что фамилия Петров – русская, – развела руками Олеся. – А она оказывается армянская, потому что у армян есть фамилия Петросян. Интересно, а в России есть хоть что-нибудь русское?
Камиль пожал печами.
– Я не изучал этот вопрос. – ответил он, наморщив лоб. – Если принять во внимание поговорку «русского поскреби – найдешь татарина», то маловероятно. Во всяком случае, все великие люди России – татарского происхождения.
– И кто, например? Кроме Кузьмы Минина и Ивана Грозного, – с интересом спросил Покровский.
– Начнём с Петра первого. Его мать, Наталья Нарышкина, чистокровная крымская татарка.
– А это из чего следует?
– Из фамилии следует, из фамилии. Нарыш – известная татарская фамилия. И очень древний татарский род.
– Но ведь фамилия Нарышкина могла произойти и от древнего русского имени Нарышка, которое происходит от прозвища Нарыж, то есть рыжий.
– Исключено. Мать Петра была знатного происхождения. А все знатные фамилии на Руси – татарские.
– А, ну да, – вспомнил Покровский. – А еще кто?
– Графы Шереметьевы. От татарского Шеремет – бедолага.
– А почему граф и вдруг бедолага? – перебил Покровский.
– Потому что богатым не всегда хорошо живётся, – обиженно ответил Камиль.
– Особенно Шереметьевым, – сочувственно покачал головой Покровский. – Продолжайте, пожалуйста.
– Пожалуйста. Генерал Аракчеев. Его предок – казанский татарин по прозвищу Аракычы. Адмирал Апраксин – потомок татарина Салхомира, чей правнук на Руси получил прозвище Опракса.
– Опракса – это, насколько я знаю, река в Нижегородской области, – сказал Покровский.
– Да, от неё, – продолжил Камиль. – Затем, Суворов.
– Суворов?! – не выдержала Олеся.
– Обязательно! – сказал Покровский, – без Суворова этот список был бы не полным.
– Происходит от татарского слова Сувора – наездник, – невозмутимо продолжил Камиль. – Тургенев – потомок мурзы Арслана Тургена, Достоевский – потомок Аслана-Челеби-музры, Тютчев – потомок татарина Тютши; историк Карамзин – потомок татарского воина Кара-Мурзы; Куприн – потомок князя Кулунчака; писатель Аксаков – от аксак – хромой; Михаил Булгаков – от булгак – внушительный. Да ещё много: Шаляпин, Бунин, Менделеев, Павлов, Мичурин, Гагарин…
– Гагарин – татарин?! – не выдержал Покровский.
– А Вы не знали?
– Да как-то… не предполагал…
– А почему? – опять вмешалась Олеся.
– Во-первых, у него классическое татарское лицо, во-вторых татарская фамилия.
– Почему Гагарин – татарская фамилия? – не понял Покровский.
– Это легко определить. Созвучно с «татарин». Гагарин, Шаляпин, Куприн, Карамзин…
– Пушкин? – испугалась Олеся.
– Мусины-Пушкины – старинный татарский род, – кивнул Камиль. – Потомки татарина Мусы, сам Пушкин об этом не раз писал.
– В братьях Карамазовых?
– Возможно. Не готов точно сейчас сказать.
– Слушайте, – обратился потерявший самообладание Покровский ко всем присутствующим. – Много лет назад смотрел я телепередачу, где представитель татарской общины рассказывал о татарах и об их знаменитых представителях. Татарами оказались, как справедливо заметил хозяин дома, Карамзин и Тимирязев, созвучные с Кара-Мурзой и Тимир-Газой; Менделеев, который якобы гордился своими татарскими предками; Шаляпин, который родился в Казани, куда из Вятской губернии переехали его родители; Александр Матросов, который был не украинским беспризорником из Екатеринославля, как это всегда считалось, а Шакирьяном Юнусовичем Мухамедьяновым из Башкирии и так далее. А через неделю на ту же передачу пригласили представителя цыган, и он поведал, что Шаляпин – чистокровный цыган, потому что хорошо пел, Наталья Сенчукова – цыганка, потому что у цыган есть фамилия Сенчук и, самое интересное, что цыганом оказался Чапаев. Когда обалдевший ведущий не выдержал и спросил, почему Чапаев, он получил в ответ, что, во-первых, Чапаев прекрасно скакал на лошади, а во-вторых, потому что он был очень смелым, а смелость – отличительная черта всех цыган. Вот такие аргументы…
– И что Вас смущает? – наморщил лоб Камиль. – Шаляпин, конечно, не мог быть цыганом, но Чапаев – вполне возможно. Цыгане – действительно очень смелый народ.
– Конечно! И единственный, который не смог создать своего государства, – вставил Покровский. – Их гнали отовсюду, куда бы они ни приходили. Видимо, надо иметь большую смелость, чтобы постоянно переселяться с места на место.
– А это Вы всё к чему сейчас рассказали? – спросил Камиль.
– К тому, что Вам не кажется, что с точки зрения исторической науки для установления истины не достаточно только лишь отдаленного сходства фамилий?
– А Вы историк? – строго спросил Камиль.
– Я палеонтолог.
– Может, тогда Вы предоставите историкам решать такие вопросы?
– А Вы – историк? – в свою очередь поинтересовался Покровский.
– Историк, – ответил Камиль.
Олеся уже раскрыла рот, чтобы напомнить историку Камилю, что палеонтология – это историческая дисциплина, но Покровский толкнул ее под столом ногой, а Вася встал и поднял стакан.
– Ну, давайте, что ли, за дружбу народов!
– Давайте, – разрешил Камиль.
Все чокнулись и выпили.
– А теперь – в русско-татарскую баню! Баня русская, банщики татарские, – торжественно произнёс Вася.
– Я, пожалуй, воздержусь, – сказала Олеся к большому удовольствию Покровского.
Трое мужчин вышли из-за стола и направились к выходу. Анна позвала Олесю:
– Пойдём, я угощу тебя.
Баня располагалась в строении, которое Покровский сначала принял за маленький сарай. В тесном предбаннике места хватало только для двоих, поэтому Вася разделся на улице. Из предбанника сразу открывался вход в парилку, меж старых досок которой просвечивали щели.
– Сейчас поддадим! – весело сказал Вася.
Из бочонка плеснули на камни электрической печки. Жар ловко просочился сквозь стены, и через минуту баня остыла.
– Веники-то есть? – спросил Вася у брата.
– Есть, но они еще не ферментировались.
– Ничего, мы простынями! – сказал неунывающий Вася и начал пропеллером из простыни крутить над головами.
Стало теплее.
Анна привела Олесю в небольшую комнатку с уютным диванчиком. В комнатке на столике и на полочках стояли пузырьки разного размера и с разным содержимым.
– Скажите, – произнесла Олеся, разглядывая баночки, – а травами правда можно всё вылечить?
– Правда.
– И рак?
– И рак.
Олеся нашла свои любимые мухоморы и остановилась возле них.
– А откуда Вы всё это знаете? По наследству?
– По наследству.
– А мухоморы для чего?
– Для многого. Но тебе они помогут лучше узнать себя.
– А я думала, они для глюков.
– Нет, – улыбнулась Анна, – для глюков вот это. – Она указала на маленькую баночку с розовым корешком.
– А есть травка, чтобы мозги лучше работали?
– Есть, но тебе не надо. Тебе надо это…
Анна взяла баночку с мухоморами и поставила перед Олесей.
– Страшно… – улыбнулась Олеся. – Я не умру?
– Нет, – ответила Анна и открыла крышку.
Олеся понюхала мутноватое содержимое. Запах был резкий, но приятный. Анна налила мухоморовку в маленькую рюмочку и поднесла Олесе.
– Что, прям пить? – спросила Олеся, с испугом глядя на рюмку.
Анна промолчала. Олеся выдохнула и медленно выпила настойку.
– Вкусненькая, – сказала он, поморщившись.
Вдруг Анна вынула из баночки мухомор и протянула Олесе.
– Откуси.
Олеся неуверенно приоткрыла ротик и откусила от края гриба. Она стала жевать его, пытаясь почувствовать вкус. Мухомор похрустывал на зубах и был безвкусен. Анна смотрела на Олесю и улыбалась. Вдруг она произнесла:
– Я тебя примерно такой и представляла…
Олеся проглотила мухомор и вопросительно посмотрела на Анну. Вдруг её тело приобрело странную легкость. Она приподнялась на носочках и слегка оттолкнулась от пола. Ей показалось, что приземление произошло как-то слишком плавно. Тогда она упёрлась руками о воздух и аккуратно подняла ноги. Ноги на пару секунд зависли над полом. Олеся подпрыгнула выше и поджала коленки. Балансируя руками, как на поверхности воды, она несколько секунд удерживала тело в воздухе. «Я летаю! Так вот, оказывается, как надо это делать, – радостно подумала она, – надо запомнить».
В следующее мгновение она опёрлась руками о воздух и легко вознеслась под самый потолок. Внизу она увидела Анну, которая, улыбаясь, смотрела на неё.
Чтобы насладиться этой новой способностью, Олеся, зависнув в воздухе, открыла окно и вылетела на улицу.
Стояла теплая безветренная ночь. Олеся легко поднялась над домами. Далеко внизу в вечерней полумгле виделись крыши и верхушки деревьев. Это выглядело необычно – дома и деревья под ногами. Не испытывая страха, Олеся решила лететь вверх, насколько это будет возможно. Она оттолкнулась руками от воздуха и с огромной скоростью стала подниматься всё выше и выше, в чёрное звёздное небо. Её удивляло то, что она будто бы знала, куда лететь. Где-то в глубине вселенной была ее цель.
Звёзды окружили Олесю со всех сторон. Земли больше не было видно. Олеся пыталась отыскать хоть какие-то известные ей созвездия среди небесного хаоса, чтобы определить, в какую часть вселенной она так уверенно стремится, но измерить земными мерками звёздный океан, среди которого она очутилась, было невозможно.
Вскоре одна из маленьких белых звёздочек стала увеличиваться. Когда она выросла до размеров футбольного мяча, Олеся увидела прямо по курсу огромный темный шар. Она почувствовала, что это небесное тело и есть цель ее путешествия. Олеся понеслась навстречу загадочной планете и через несколько мгновений влетела в её сине-коричневую атмосферу с едва различимыми серыми облаками. Вглядываясь в темноту, она пыталась рассмотреть поверхность, на которую ей предстояло опуститься.
Было темно. Олеся замедлила полёт и, наконец, увидела сквозь серую мглу непривычные ее земному глазу очертания странного рельефа в виде огромных фигур с правильными формами. Она мягко спланировала на светло-коричневый каменистый грунт и оказалась то ли среди невысоких гор, то ли среди искусственно созданных сооружений пирамидальной и кубической формы. И строения, и дорога, проходившая между ними, тускло освещались каким-то скрытым источником света, а может, светились сами собой. Олеся посмотрела на этот странный пейзаж и вдруг ясно поняла – это её дом… Она чувствовала, что жила здесь невероятно долго, целую жизнь. Она опять приподнялась над поверхностью и полетела в направлении остроконечных гор, виднеющихся вдалеке. С каждой секундой Олеся переполнялась незнакомым, но очень приятным чувством абсолютного спокойствия, уверенности и собственной значимости.
Горы оказались разной высоты кубами и пирамидами с гладкой поверхностью. Пролетев между ними и достигнув последней пирамиды, Олеся увидела то, что, как она теперь поняла, стремилась увидеть всю свою жизнь. Перед ней был вход в огромный стеклянный лабиринт. Лабиринт был высотой, казалось, до неба, и представлял собой куб, вершина которого растворялась в темноте. И Олеся знала, что она – хозяйка этого лабиринта.
Лабиринт подсвечивался изнутри всё тем же мягким белым светом. Кругом была ночь, а там был день. Олеся вошла в прозрачный светлый коридор. В стенах коридора были входы в другие коридоры, но Олеся искала только один, правильный, в котором была лестница. Совершив несколько поворотов, Олеся дошла до полупрозрачных ступенек и стала подниматься, поворачивая в нужных местах и выбирая нужные коридоры. Со всех сторон, сверху и снизу, её окружали прозрачные туннели. Олеся шла к самой высшей точке лабиринта. Она чувствовала, что там её ждёт… счастье. Это было похоже на детское ожидание, что вот-вот в глубине шкафа найдётся заветный подарок, спрятанный родителями ко дню рождения.
С каждым новым этажом в Олесе пробуждались новые, а точнее, давно забытые ощущения. На середине пути она была уже другой Олесей. Во всяком случае, ей так казалось. Ей казалось, что она долго спала, а вот теперь проснулась, и новая, истинная, реальность пробуждает настоящие черты её характера. Она увидела над собой темное небо и поняла, что дошла до последнего этажа. Перед ней был длинный коридор, в самом конце которого виднелась прозрачная дверь. Олеся в необычайном волнении преодолела этот последний участок своего удивительного путешествия и подошла к двери. Как только она дотронулась до нее рукой, дверь растворилась. Олеся оказалась на пороге светлой комнаты с прозрачными стенами и прозрачной мебелью. У неё защемило сердце. Это была её комната, её любимая комната. Сейчас она видела её впервые, но чувствовала, что жила здесь много лет. Вот столик, посмотрев на который у Олеси на глаза навернулись слёзы – так он был ей дорог, и так много было связано с ним. Олесе казалось, что сейчас она вспомнит что-то важное. В ней ожило так много неизвестного и удивительно приятного и все это было хаотично разбросано по её изменившемуся восприятию самой себя. Не хватало лишь одного небольшого толчка, воспоминания или предмета, чтобы сложить эту мысленную мозаику воедино.
Олеся подошла к столику. На нём стояло её любимое, родное зеркало. Столько лет она смотрела в его отражение, любуясь собой и мечтая о чём-то очень хорошем. Олеся чувствовала, что если сейчас она посмотрит в это зеркало, то всё встанет на свои места. Она присела у столика и повернула зеркало к себе. В его отражении Олеся увидела прекрасную молодую женщину с собранными в длинный пучок на затылке светлыми волосами, с умным и волевым лицом и огромными чёрными глазами. Это была она, Эриния, мудрая и справедливая властительница Селиона, огромного государства, которому подчинены все секторы планеты Этерус.
Через мгновение Олеся должна была вспомнить, что произошло с ней и её планетой когда-то очень давно, много миллионов лет назад, это воспоминание уже коснулось её памяти, но резкий толчок в плечо спутал все её мысли.
Олеся внезапно оказалась лежащей на диване в комнате Анны. Рядом с ней стоял Покровский.
– Вставай! – он нежно потрогал ее за плечо. – Идём завтракать.
Олеся осмотрела себя. Она лежала в одежде и без ботинок.
Она встала. Ощущения от волшебного сна медленно покидали её. Она пыталась удержать приятное чувство собственного величия, пыталась вспомнить своё имя, название страны и планеты, но буквы путались и складывались в какие-то другие, совсем не те слова.
За столом сидели Анна, Вася и Покровский. Они ели овсяную кашу и пили чай. Больше всего сейчас Олеся хотела остаться наедине с Анной и спросить, что значило её ночное путешествие. Она решила отложить этот разговор до удобного момента.
– А где Камиль? – спросил Покровский, – не пережил баню?
– Он уже на работе, – ответил Вася.
– Что за работа у историка в воскресенье? – удивился Покровский.
– Он таксует.
– В смысле?
– В смысле он таксист.
– Он разве не историк? – переспросил Покровский.
– Историк. Еще какой. После каждой смены такие истории рассказывает! – улыбнулся Вася. – То Ксения Собчак у него на автозаправке интервью брала, то он подвозил Шамана и тот ему всю дорогу пел «Я русский».
– Ясно… – протянул Покровский.
– Вы на него не злитесь, особенно за Минина и Пожарского.
– Если кто-то ворует историю чужого народа, то он этим заявляет об убогости истории своего, – сказал Покровский. – Но у татар, я думаю, древняя и интересная история. Так что это вы должны злиться на таких «историков».
Вася улыбнулся и пожал плечами. Анна встала и принялась убирать со стола. Олеся тоже взяла пару тарелок и пошла за Анной на кухню.
– Что это было? – наконец задала она мучивший её вопрос.
– Это тебе решать, – ответила Анна. – Слушай сердце и доверяй чувствам.
Анна сложила посуду в раковину и вернулась в комнату. Покровский и Вася уже собрали вещи и стояли у двери. Анна подошла к Покровскому и дала ему маленький пузырёчек, в котором плавали белые ягодки.
– Возьми, это скоро тебе понадобиться.
– А что это?
– Выпей, когда будет очень страшно, – ответила Анна.
Покровский повертел пузырек в руках и положил в карман. Вскоре троица вышла из дома и села в машину.
– Интересно, что она мне дала, – сказал Покровский, когда фура выехала на трассу.
– Это белена, – ответил Вася.
– Ого! – удивился Покровский. – Зачем же она мне понадобиться…
– Если она сказала, то так и будет, – ответил Вася.
– Анна ясновидящая? – догадалась Олеся.
– Ясновидящая.
– И травы все знает, и ясновидящая, что же она замуж вышла, извините, за Вашего брата?
– Они не женаты, – сказал Вася. – Она нашла его в лесу.
– Почему-то я не удивлена, – пробурчала Олеся.
– Камиль в 18 лет заболел менингитом. – продолжил Вася. – От этой болезни, если её запустить, либо умирают, либо остаются идиотами. Доктора в деревне не было, а когда мы довезли его до больницы, там сказали, что у него уже последняя стадия, неизлечимая. Мы повезли его обратно, а он по дороге сбежал в лес. Искали его, искали. Думали, всё, там и сгинул. Анна его случайно нашла и своими травами выходила. Через год он вернулся – вспомнил, где живёт. Анна теперь с ним постоянно, травами поддерживает. Без них болезнь вернётся.
– Она святая! – выдохнула Олеся. – Принести в жертву всю свою жизнь ради помощи чужому человеку!
– Она говорит, это ее искупление. За прошлую жизнь.
– Как интересно! – сказала Олеся. – Что же Вы раньше не сообщили, что она имеет такие способности. У меня к ней столько вопросов!
– Она сказала ровно столько, сколько вам положено знать, – ответил Вася. – Значит, больше не надо.
Олеся задумалась. Получается, что ночное видение имеет важное значение для её дальнейшей жизни. Оставшуюся часть пути она пыталась вспомнить и проанализировать события своего сна. Ощущение своей значимости и воспоминание о своём величии не покидало её всю дорогу.
Покровский же думал, что делать дальше. До Москвы оставалось несколько часов. Домой ни ему, ни Олесе ехать было небезопасно: нельзя было исключать вероятность проверки ближайших родственников на предмет возвращения кого-либо из группы. Можно было остановиться у брата, но Олеся предлагала более безопасный вариант: «кинуть булки» у ее тетки в Балашихе. «Тетка, конечно, тоже близкий родственник, – рассуждал Покровский, – но это лучше, чем родной брат из Москвы».
В десять вечера Фура въехала в Балашиху и припарковалась на заправке недалеко от дома Олеси.
– Ну, прощай, Василий, – сказал Покровский. – Надо бы сказать, если окажешься в Москве, обязательно заезжай в гости, но у нас нет сейчас даже мобильных телефонов, чтобы с тобой связаться.
– Я понимаю, – ответил Вася, – в дороге всякое случается.
– Можно попросить тебя еще об одном одолжении, – сказал Покровский. – Не мог бы ты на своё имя купить нам две симки?
– Конечно, – ответил Вася. – Заодно и телефонами обменяемся.
– Не думаю, что эти номера надолго. Но кто знает… – сказал Покровский.
Через пять минут Вася принес две симки и два кнопочных дешевых мобильных.
– Думаю, вам надо именно это, – сказал он. – Всё-таки запишите мой номер. Хорошие вы люди, а хорошими людьми разбрасываться не надо.
Покровский и Олеся записали номер Васи и позвонили ему со своих новых телефонов.
– Прощайте, – сказал Вася. – Меня, кстати, Зуфяр зовут.
– Я догадался, что не Вася, – улыбнулся Покровский, и они обнялись.
Забежав по дороге в магазин, путешественники подошли к дому Олеси и поднялись на пятый этаж. Олеся позвонила в дверь. Никто не открыл.
– Я знаю, где ключи, – сказала Олеся и пошарила рукой за старой тумбочкой. – Мы приклеиваем ключ на жвачке с обратной стороны.
Она открыла дверь. Дома никого не было.
– Очень странно, – пожала плечами Олеся, – тётя пенсионерка, ей некуда уходить в такое позднее время… Как Вы думаете, не опасно будет ей позвонить?