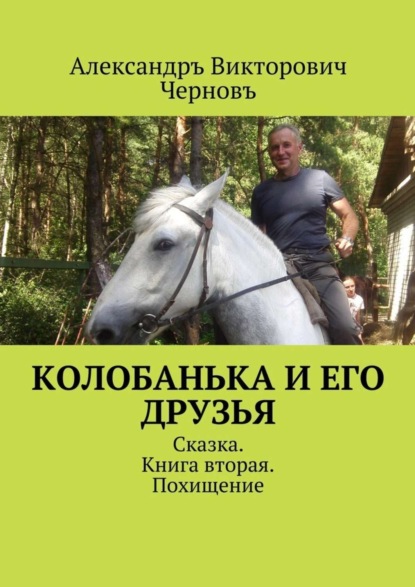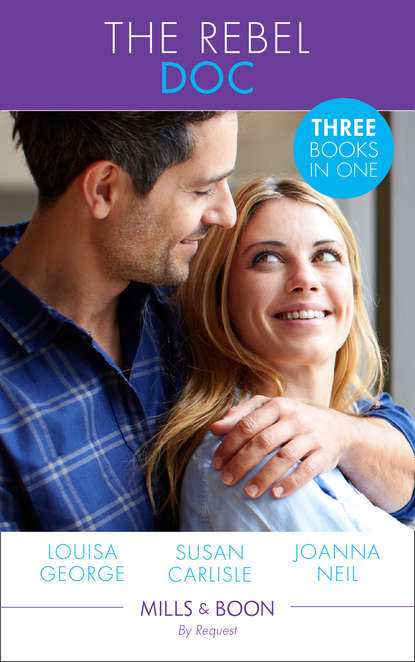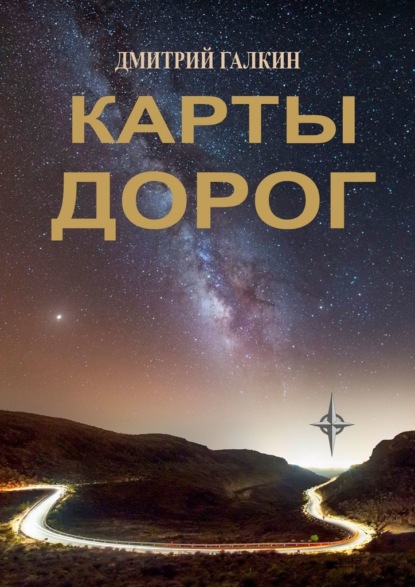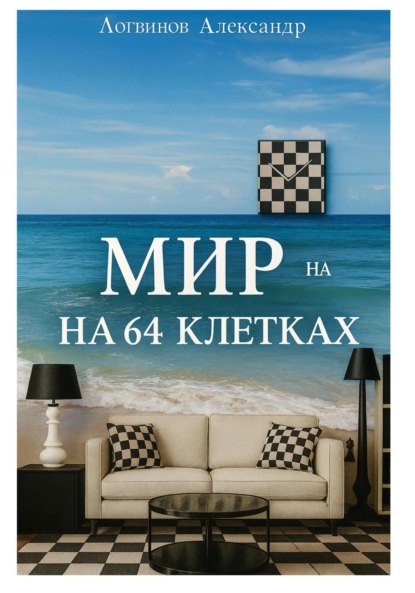Дороги и Судьбы
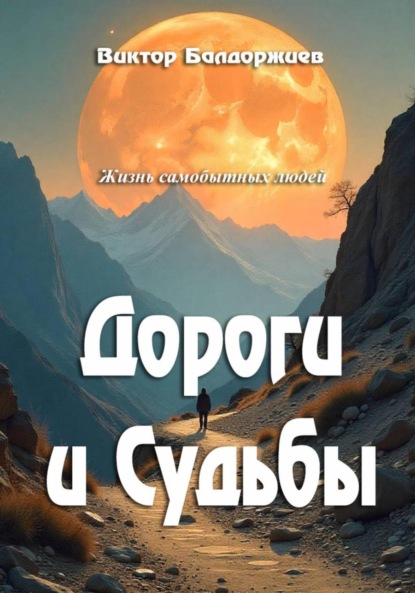
- -
- 100%
- +

Дороги и судьбы
©Виктор Балдоржиев
Все персонажи, упомянутые в книги, принадлежат к разряду общественных достояний, большинство из них давно умерли. Публикация не является нарушением законодательства и общепринятых норм, напротив – она направлена на созидание России в рамках Указов об историческом просвещении страны.
Намнай-багша
Какие же ламы и интересные люди жили на Алханае, кто дал эти чудесные названия, которые до сих пор волнуют паломников?
Расскажем же о Намнай-багше. Этот человек впервые дал религиозные толкования и освятил места Алханая. Атмосфера высокой духовности, которой он овеял Алханай, жива по сей день. Каким же он был – Намнай-багша?
При рождении его назвали Шагдаром. Его отец, Уридхын Намнай, жил около горы Хаан Уула (Царь-гора), недалеко от современного села Боржигантай, и кочевал со своим скотом по необъятным просторам Приононья. Шагдар родился в конце тридцатых годов XIX века. В то время все буряты были верующими. Родители отдали маленького Шагдара в Цугольский дацан послушником-хувараком… Цугол тогда был одним из крупных религиозных центров Ара-Халхи, имел несколько факультетов, в монастыре занимались книгопечатанием. Говорят, что там было более тысячи лам и хувараков. Там же, в 1845 году, начал работу первый в Забайкалье факультет философии буддизма.
Шагдар целиком отдался учению и постепенно поднимался по ступе-ням ламаистской иерархии. Глубоко изучал буддийскую философию, участвовал в диспутах (шойр). После посвящения в ламы он был наречен тибет-ским именем Жанчиб Од, что в переводе означает – Луч просветления. В народе он остался как Намнай-багша…
Из устных преданий мы узнаем, что роста он был невысокого, тело-сложения плотного, смуглолицый, его бритая голова всегда была приподнята. От других служителей религии отличался своенравием, подвижностью во всем и остроумием. Вообще, он родился подвижником. К 1860 году Жанчиб Од получил степень гэбшэ-ламы. Теперь он сам был учителем и обучал несколько групп послушников.
Буддизм в XIX столетии стремительно развивался, в Забайкалье местные ламы становились настоятелями монастырей, получали духовные звания, образовывалась прослойка высокообразованных и высоконравственных лам. За ними следовали все остальные ламы, которые практиковали разные пути просветления и познания, изучали тибетскую медицину, астрономию, искусства…
Всякая мысль рождается и развивается в одиночестве, у Намнай-багши появилось стремление уйти в горы и продолжить изучение таинств буддийской религии. Однажды он обратился к своему мудрому учителю за советом. После долгих раздумий учитель разрешил ему медитировать на Алханае. Молодой лама отправился в путь.
Перед началом праздника обоо-тахилган он встретился с зайсаном и знатными людьми Алханая. Договорились о временном устройстве ламы Жанчиб Од. Приютили его Самбу Жаб и Жигжит Баханхай, стоянки которых располагались у реки Убжогое… Это было время, когда у подножия Алханая, собиралось более тридцати шаманов, которые привлекали внимание паломников, совершали обоо-тахилганы, а также другие шаманские обряды и требы. В этих условиях Намнай-багша начал практиковать буддизм на Алханае… Весть о том, что появился молодой ученый лама, который проводит молебствия и читает проповеди, разнеслась быстро. Местные жители построили ему избушку недалеко от Храма Ворот. На этом месте через много лет люди обнаружили молитвенный камень… Стремясь превратить Алханай в святыню буддистов на земле Ара-Халхи, Намнай-багша прожил в отшельничестве год. Язычники-шаманы продолжали камлания, собирая толпы людей, лама мо-лился в одиночестве…
После этого он решил посетить Тибет, чтобы воочию увидеть божество Ямантаки, укрепиться духом. Он покинул Алханай и начал путешествие из Цугольского дацана вместе со своими верными учениками – Агваном Доржиевым и Арбаалай-б\тээлшэ, который впоследствии и рассказал землякам об этом труднейшем путешествии во имя процветания земли Ара-Халха.
Однажды, в алашаньской пустыне у путников кончилась вода. Они медленно умирали от зноя и жажды. Вдруг Намнай-багша начал усиленно молиться… И вот на горизонте показался мираж – всадник. Но он становился все ближе и ближе и оказался монголом, скачущим прямо к путникам. Монгол подскакал к ламам, подал им воду в кувшине.... Вчетвером они сели чаевать, а чай не кончался! Утолив жажду и поблагодарив спасителя, ламы двинулись в путь.
На одном из горных перевалов Тибета они заметили в скалах огонек лампады. Направились туда. В темной пещере увидели старика, который был погружен в глубокую медитацию. Во время затвора аскеты не разговаривают. Путники подошли к старику, чтобы тот их благословил священной книгой, но тот вдруг вгляделся в Намнай-багшу и, благословляя лам книгой, спросил: «Марба, откуда ты появился?» Наши ламы вышли из пещеры, и Намнай-багша недоуменно сказал: «Что он говорит? Наверное, пересидел»… Через много лет Арбаалай-б;тээлшэ говорил в Цуголе, что, возможно, тот отшельник увидел в Намнай-багше тибетского перерожденца Марба-гэгэна…
Наши путники посетили Утайские святыни, где находятся пять вершин, помолиться на которых – мечта каждого буддиста. Покровителем Утайского храма считается божество Манзашире – покровитель искусства и науки. На окраине города путники зашли в дуган-часовню с красивейшим алтарем и множеством книг. В дугане сидел китаец, который благословил лам не книгой, а тапочкой, обшитой золотыми узорами. Выйдя из дугана, Намнай- багша сказал, что они видели божество Уран Манзашире (Искусного Манзаширэ).
В Тибете они побывали в нескольких монастырях. Посещая буддийские святыни, они получали благословения от великих мудрецов, сокровенные адис, лун, урил и другие драгоценные талисманы. Намнай-багша часто уходил в горы один. Как-то раз, у водопада, он увидел дряхлого старца, который стирал одежду в деревянном корыте. Намнай-багша поздоровался, но старик не обращал на него внимания. Может быть, это божество Ямантаки в виде старика? Только лама подумал об этом, как старик зачерпнул чашкой помои из корыта и подал ему, показывая, что надо выпить. Намнай-багша решился и выпил. Отшельник подарил страннику платок-хадак, который вытащил из-за пазухи и знаками показал, что ему следует покинуть это место.... Так Намнай- багша уверился, что он теперь крепок духом и встретил именно того, кого искал…
На обратном пути, когда путники пришли в Ургу, Намнай-багша решил продолжить паломничество через восточные окраины Монголии, побывать в монастырях, оттуда спуститься по реке Онон…
Путь был долгим и трудным. Но Намнай-багша сполна выполнил свои намерения, созерцал природу, близкие ему по духу народы и племена, предавался размышлениям и практиковал учение Будды. И вот, в один из летних дней, он спустился с Тарбагатайского хребта.
Паломник вернулся на Родину!
Настоятелем Тарбагатайского дацана в то время был Осор-лама, бывший ученик Намнай-багши по Цугольскому дацану… Одежда и обувь Нам-най-багши за долгий путь превратились в лохмотья. Он остановил какого-то путника и попросил его передать Осор-ламе, что Намнай-багша остановился у богатого скотовода Шойнхор Ринчина, стойбище которого было недалеко от дацана.
У Ринчина в это время шел молебен «Жасаа», на котором усердствовал бродячий лама Жунлай. В это время и подошел странник в лохмотьях. Он поклонился Жунлай-ламе, тот благословил его священной книгой. Намнай-багша отошел и сел у двери. Во время чтения молитв, Жунлай-лама велел страннику вынести на улицу догжуур, наказал, чтобы тот не отворачивался и тряс колокольчиком. Намнай-багша беспрекословно выполнил его требования.
Подъехал на тарантасе Осор-лама. Он был в красивом одеянии, на го-лове его блестела шапка духовного лидера с позолоченным верхом. Узнав Намнай-багшу, он низко поклонился ему, помолился и сел ниже его. Увидев это, Жунлай-лама весь побагровел. Почему же настоятель дацана сел ниже какого-то бродяги? Не убраться ли ему отсюда подальше? Жунлай-лама собрал вещи и скрылся… После взаимных приветствий и трогательной беседы, Намнай-багша попросил Осор-ламу закончить ритуальное молебствие…
Отдохнув, Намнэй-багша направился в сторону Алханая. Чтобы замкнуть путь великого гороо, он появился в Нури Хунды, у стойбища Гогсын Сэбэн. Люди восторженно встретили великого странника в лохмотьях. Он назвался им именем Намнай-б;тээлшэ. Б;тээлшэ – творец, исполняющий желания.
После недолгого отдыха и поездки в Цугольский дацан, Намнай-багша собрался на гору Алханай. Местом затворничества выбрал площадку под Нара Хажад. Начал богослужение божеству Далха, согласно традиционному обряду воткнул стрелу с медным наконечником, обернутую платком, который подарил ему старец в Тибете, разукрашенную разноцветными хадаками. Теперь он жил совершенным аскетом на Алханае, молился днями и ночами. Шаманы покинули здешние земли и расположились в низовьях рек Ага и Онон.
В конце XIX века Намнай-б;тээлшэ для продолжения отшельничества и познания поднялся выше на 300 метров. Люди построили там избушку, выкопали колодец… Сегодня, рядом с новыми домиками для отшельников, мы видим полуразвалившиеся венцы той избушку и глазурованные кирпичи – остатки колонн Цугольского дацана, завезенные сюда после его закрытия и осквернения. Молитвенный камень с красным текстом, начертанным Намнай-багша, теперь стоит у дороги…
Намнай-багша после паломнических путешествий в Тибет и по дацанам Халхи и Ара-Халхи, долгого изучения буддийской философии приобрел волшебный дар и силу природы. Многократно навещая скалы, изучая формы, местоположения, он пришел к мысли, что природные Храмы – чертоги буддийских божеств. Тридцать лет своей благородной жизни Намнай-багша – лама Жанчиб Од посвятил обустройству и освящению Алханая – главного природного культового объекта на земле Ара-Халхи.
Когда в 1850-ых годах вокруг горы Алханай проводились геолого-изыскательские мероприятия Намнай-багша пророчил, что аршан южного ущелья уйдет под камень на 100 лет. Действительно, эта незамерзающая це-лебная вода была обнаружена в начале 1960 года. Также передают его благословение: «Пусть народ прокормится, добывая золото на северной стороне Алханая». Китайцы начали мыть золото в пади Yлэнтэ с 1851 года. Прииск золотодобычи был закрыт в 1962 году, там сейчас расположено село Ара-Иля. Под непосредственным участием Намнай- багши в 1884 году был сооружен субурган под Храмом Ворот, в 1891 году – алханайское обоо, в местности Хужарай Хунды – Димчик дуган.
Духовный лидер бурят и государственный деятель конца XIX и начала XX веков Агван Доржиев в молодости был учеником Намнай-багши, который был наставником, учителем и другом многих деятелей науки, культуры и искусства. Намнай-багша видел в Агване Доржиеве человека с большой будущностью. В Лаврине он внес большие денежные пожертвования от имени Агвана Доржиева, говоря, что молодому пригодится слава, а старому, кроме могилы, ничего уже не нужно. Благодаря именно его рекомендациям Агвану Доржиеву было суждено стать учителем по богословским дисциплинам Далай-ламы XIII. В 1927 году, будучи в Урге, Агван Доржиев заехал к своему земляку Мунхоеву из Ильки, переехавшему в 1909 году в Монголию. Мунхоев также был учеником Намнай-багши. Он рассказал Доржиеву, что сопровождал своего учителя в Баргузинский дацан, и видел, как стекаются богатства к известным ламам-знаменитостям и как они распоряжаются ими… Намнай-багша пророчил Чойнзон-Доржи Иролтуеву, что он станет хамбо-ламой Восточной Сибири через три года и подарил ему 8000 рублей, собранных в Баргузине. Ровно через три года после пророчества Иролтуев стал хамбо- ламой Восточной Сибири.
В 1894 году Намнай-багша подарил великому путешественнику Гомбожабу Цыбикову большой хадак, с которым путешественник не расставался во время своего посещения святынь Тибета. Хадак принес ему удачу и успехи в научно-просветительской работе.
Известный бурятский деятель Даши Сампилон в первую мировую войну был руководителем бурят, призванных на тыловые работы под Минск. Старики рассказывали, что Сампилон взял в эшелон лам и эмчи-лекарей, благодаря которым буряты избежали вспышек эпидемий в гибельных белорусских болотах. Как очевидец европейских событий, после октябрьской революции 1917 года, по приезде в Агинское, Сампилон характеризировал политическое положение в России и говорил присутствующим: «Теперь нет царя и власти, нет дацанов и лам. Но у нас был и будет Будда. А ламой назовем одного лишь Намнай-багши». В годы гражданской войны Сампилон был членом Бурнардумы. После установления Советской власти в Забайкалье Даши Сампилон эмигрировал в Монголию. Погиб в годы репрессий.
Говорят, что Намнай-багша прожил до глубокой старости и последние дни жизни провел в Цугольском дацане.
На вечную память о великом учителе Намнай-багша – ламе Жанчиб Од на территории Цугольского дацана был установлен памятник-субурган, который, говорят, уничтожили во время съемок советского фильма о монголах. Старожилы Алханая повествуют о Намнай-багши, как о человеке-легенде…
В 1991 году на Алханае побывал Далай-лама XIV, за ним посетили и посещают Алханай многие видные деятели буддизма. В 1998 году Еше-Лодой Римпоче на горе Алханай даровал посвящение Ямантаки, в нем участвовали 16 лам, в течение 9 дней проходили значительные молебствия. Для получивших посвящение Римпоче подготовил текст комментариев к традиционному наставлению по проведению затворничества.
Благодаря деятельности Намнай-багши, гора Алханай известна в религиозном и светском мире далеко за пределами Забайкалья.
2003 год.
Авторизованный и переведенный с бурятского текст Содбо Ешисамбуева для книги «Алханай – Мир Великого Блага».
Дагба Ринчинов
К чему должен стремиться человек?
Начало мая 2020 года. О чём бы я мог беседовать, а иногда и беседую с людьми, которые ещё совсем недавно обсуждали со мной какую-нибудь тему где-нибудь в Улан-Удэ, Чите, Агинском? С русскими, евреями, бурятами. Например, с Георгием Дашабыловым, Цыденжапом Жимбиевым, Сергеем Цырендоржиевым, Батожабом Цыбиковым, Арсаланом Жамбалоном, Гармой Цырендашиевым, Митупом Шагдаровым, Дагбой Ринчиновым?
Много в памяти людей, которые живут во мне и всё ещё говорят со мной. Вот и 3 мая во время своей привычной прогулки по степи я беседовал с ними на протяжении 15 километров.
Настала пора ещё раз переосмыслить время и жизнь.
Наверное, никто ещё не смог предвидеть в процессе жизни тупик или препятствие, с которого начинается время переосмысления. Может быть, человек давно блуждает в тупиках, огибая препятствия, даже не заметив, как вошёл в эти лабиринты?
Время переосмысления приходит только с каким-то потрясением. Иногда несколько раз за жизнь, меняя не только человека, но и его организм. Если хотите, это закон гормонов, каждый из которых срабатывает только при определённых условиях, зачастую, как полагает слабый человек, за пределами возможного.
Какие события и потрясения повлияли на меня так, что с некоторых пор я стал задумываться о том, что и как писал в прошлом, пишу сейчас, о стиле письма, происходящем из опыта и развития когнитивных способностей. Более всего в такие моменты вспоминаются люди, с которыми случалось встречаться на жизненном пути? После этого раскрываются другие возможности и потрясения, от которых я теперь не откажусь уже никогда.
Оказывается, никто из тех, с кем мне доводилось и доведётся встречаться в жизни, не оказал на меня отрицательного влияния. Всё и все только прибавляли и прибавляют. Куда исчезли присущие раньше недовольства и возмущения, от которых я настойчиво и безуспешно пытался избавиться?
Вместе с возрастом наступает иная пора, звучит иная музыка жизни. И в этом звучании проступают знакомые образы.
Переосмысление наступает и тогда, когда человек начинает обнаруживать вокруг себя пустоту. Пространство, которое было заполнено знакомыми, такими естественными и от того кажущимися вечными, людьми начинает опустошаться. Обнаружив пустоту вокруг себя, ты начинаешь говорить с теми, кто был только что рядом с тобой. И они отвечают уже из твоей памяти. И тогда жизнь каждого из них ярко предстаёт перед твоим мысленным взором, затмевая твоё ложное, созданное тобой, значение о себе. Это как в бытующем среди людей искусства нравоучении, когда новорождённый сначала кричит «Я, ЯЯЯ, ЯЯЯЯЯ!», потом до зрелости – «Я и Моцарт!», а к старости остаётся только «Моцарт!». Вот и у меня остались Моцарты, которые говорят со мной издали…
Вместе с такими мыслями появился в памяти Дагба Ринчинович Ринчинов, с которым, как и со многими другими знакомыми, я так и недоговорил при его жизни о чём-то очень важном и вечном. Нет, не о книге, книгу всегда могут издать другие люди. Кстати, пусть издают. Им полезно делать это…
Мысли, с которых я начал свой рассказ во время прогулки, были присущи и ему, ведь музыка рождается не из слов, но из чувств, которые облекаются в незримые и драгоценные оправы слов и мыслей, которая после этого начинает звучать и заполонять мир людей.
Звук всегда первичен, слово – вторично, в звуках – суть, неизвестная, но волнующая любого истина, в слове – смысл. Рождение каждого звука, а в литературе – фонемы, это всегда открытие, а рождение звукоряда – настоящее потрясение души. Неужели открытие истины – не потрясение?
Но разве может человек или музыкальный инструмент, который непрерывно испытывает потрясения души прожить долгую жизнь? Каждый год его жизни – это невероятность, а густо приправленный бытом, семьёй, работой, проблемами – подвиг. Не просто подвиг, а – радостный подвиг. Почему радостный? Потому что он – человек искусства, озарённый звуками и живущий ими. Но и сам он, где бы не был и с кем бы не встречался, тоже весь озарение, радость и доброта, которые он и должен нести людям через собственные потрясения. Ведь освобождать и озарять миры остальных – это его призвание, он рождён для этого.
Вот почему каждая встреча и каждый день жизни такого человека – редкая удача для всех остальных людей, живущих в своих темницах и оковах.
Таким был при жизни и остался в памяти людей Дагба Ринчинов.
Прожил он 73 года…
Теперь можно пересказать его биографию, но читая дальше текст, возвращайтесь к началу моего рассказа…
Дагба Ринчинович Ринчинов родился 18 марта 1934 года в селе Челутай Агинского аймака. В этом моменте некоторые современники вспомнят других музыкантов и песенников, которыми, насколько я знаю, славен Челутай.
У Дагбы Ринчинова был не только дар музыканта, он, как и всякий талантливый человек, он прекрасно рисовал, слагал стихи, ибо такой человек с рождения до смерти живёт в ритмах и тактах, гаммах и нюансах, в красках и штрихах своей души, которая непрерывно занята композицией.
Вечное стремление такого человека к гармонии всегда не в ладу с дисгармонией общественного устройства. Разве возможно сочетание симметрии и асимметрии, гармонии и дисгармонии, порядка и беспорядка? Этот дисбаланс человек искусства приводит к гармонии в своём творчестве, вызывая восторг и восхищение, рождая прекрасное в душе слушателей и зрителей.
Именно этим и занимался всю жизнь Дагба Ринчинов. Сегодня словосочетание Дагба Ринчинов всегда стоит рядом с другими – слова и музыка, что переводится, как поэт и композитор.
Песни его исполняли многие певцы Байкальского региона и Монголии. Они стали органичной частью воспитательного процесса и праздничных мероприятий. Но, мне кажется, что люди ещё не вполне знакомы с творчеством Дагбы Ринчиновы, как и с творчеством многих других талантливых людей, покинувших мир живых.
Вот, скажем так, энциклопедическая биография Дагбы Ринчинова:
«РИНЧИНОВ Дагба Ринчинович (18.3.1934, с. Челутай Агинск. аймака – 30.4.2007, пгт Агинское), композитор, поэт-песенник, музыкант, педагог, самодеятельный художник, засл. работник культуры РСФСР (1965), почетный гражданин Агинск. Бур. авт. окр. (2004). С детства увлекался музыкой, живописью, лепкой, играл на различных музыкальных инструментах. Окончил Агинск. пед. уч-ще (1954), Вост.-Сиб. ин-т культуры (1969). В 1954–96 преподаватель музыки в Агинск. пед. уч-ще им. Б. Ринчино. Рук. окр. секции самодеятельных композиторов. Один из инициаторов создания Агинск. нар. филармонии (1963), чл. художественно-музыкального совета, концертмейстер коллектива, помощник художественного рук. В 1966 награжден дипломом 1-й ст. Всерос. cмотра художественной самодеятельности. Автор более 400 песен, стихов и басен. Основа творчества – песенный фольклор бур. народа. Его песни исполнялись на сценах гг. Чита, Улан-Удэ, Иркутск, а также Монголии. Песни «Победная», «Ага-Хангил» в течение нескольких лет были включены в репертуар Л.Л. Линховоина. Жанровый диапазон творчества разнообразен: песни патриотические, лирические, детские, о родном крае – Аге, Алханае, сс. Хара-Шибирь, Будулан, Цокто-Хангил. Автор музыки к спектаклю Г.К. Кобякова «Кони пьют из Керулена», вокально-хорового цикла «Мы росли вместе с Родиной». Ряд песен написан им в содружестве с заб. поэтами, музыка положена на стихи М. Карима, Д. Кугультинова, М. Джалиля, М. Светлова, А.Т. Твардовского, М. Рыленкова и др. Известными стали песни: «Дружба народов» (слова Ц.-Ж.А. Жимбиева), «Моя земля» (слова В.Г. Никонова), «Перелетные птицы» (слова Д.Р. Ринчинова), «Песня о братстве» (слова А.Ж. Жамбалона), «Помнишь ли?» (слова Ж.Т. Тумунова), «Кукушка» (слова П. Лонке), детские песни «Пять пальцев» (слова Г.Г. Чимитова), «Т-с-с-с» (слова Г.Р. Граубина) и др. Стихи опубликованы в сб., журн. «Байкал», «Д. Вост.», местных газетах. Лауреат Всесоюз. смотра самодеятельного художественного творчества, посвященного 40-летию Великой Победы в ВОВ (1985). Награжден орденом «Знак Почета» (1971), медалями. С о ч.: Москва: стихи // Песни победы. – Агинское, 1950; Защитим детей от грома войны // Агинск. мотивы: сб. стихов. – Улан-Удэ, 1967. Л и т.: Ага литературная. – Агинское, 1972.»
Есть более развёрнутый рассказ дочери Дагбы Ринчиновича Ринчинова – Светланы Дагбаевны Базаровой, которая, продолжая дело Дашицырена Жамбаловича Жамбалова и своего отца, более десяти лет работала одним из руководителей окружного студенческого ансамбля песни и танца «Сансара», созданного на базе Агинского педагогического колледжа.
Приведу только несколько абзацев из этого рассказа, раскрывающих неутомимую жизнь Дагбы Ринчинова, отданную искусству, своим землякам и подрастающему поколению на все времена:
«Дагба Ринчинович с детства увлекался музыкой, живописью, лепкой, играл на различных музыкальных инструментах. В 1954 г. окончил Агинское педучилище. В 1969 г. – Восточно-Сибирский институт культуры. В 1954–1996 гг. – преподаватель музыки в Агинском педучилище им. Б. Ринчино. Руководитель окружной секцией самодеятельных композиторов.
Дагба Ринчинович – учитель по призванию. В свободное время он рисовал, выпиливал и выжигал разные поделки из дерева, делал сувениры из кости и рогов. В народном музее В. И. Ленина в поселке Агинском экспонировались картины Д. Ринчинова «Ленин и Сухэбатор», «Вечно любимый», «Горки». Любимое увлечение – мужское национальное троеборье – стрельба из лука, конные скачки и борьба с восторгом воспеты в его творчестве. Ещё одно увлечение – игра в шахматы. Он является неоднократным призёром, чемпионом районных, окружных соревнований по шахматам. С 2009 года проводится краевое первенство по бурятским шахматам «Шатар» на призы памяти Дагба Ринчинова.
С самого детства и до седых волос Дагба Ринчинович сохранил восторженное отношение к тоонто, улгы нютаг – родному краю, к своей семье. Этот трепет красной нитью проходит через все его творчество, где в стихах и песнях воспеты красота и ширь степной Аги, уважение к предкам, к выдающимся личностям родной земли. В стихах Дагбы Ринчинова – доброта и мудрость, вечно юная любовь к жизни, к родной земле, людям. Многие песни посвящены героям Великой Отечественной войны. Эта тема ему близка как дань памяти отцу, воинам – землякам, павшим смертью храбрых в Великой Отечественной войне, преклонение перед подвигом народа…
Супруга Дагба Ринчиновича Цындыма Жаргаловна, верная спутница, муза и вдохновитель его творческой жизни, Кавалер Ордена «Материнская слава» трех степеней, «Мать-героиня» много лет проработала лаборантом кабинета музыки в Агинском педагогическом училище. Вместе вырастили и воспитали 11 детей. Все дети получили высшее образование, 9 из которых работали и работают в системе образования, 2 инженера, 1 врач, 1 режиссер. Общий педагогический стаж династии на 2019 год – 296 лет.
Дагба Ринчинович – автор более 400 песен, стихов и басен. Основа его творчества – песенный фольклор бурятского народа. Его песни исполнялись на сценах Читы, Улан-Удэ, Иркутска, а также Монголии. Песни «Победная», «Ага-Хангил» в течение нескольких лет были включены в репертуар Л.Л. Линховоина…»