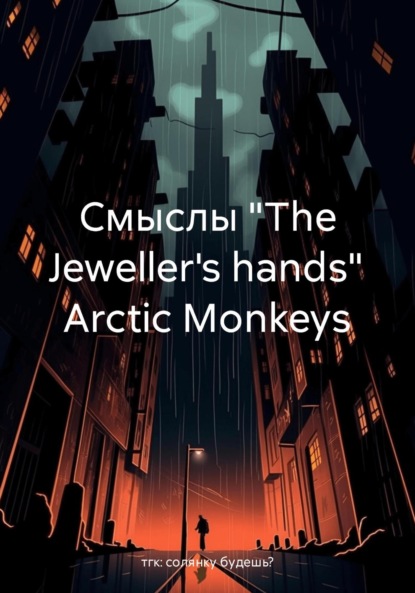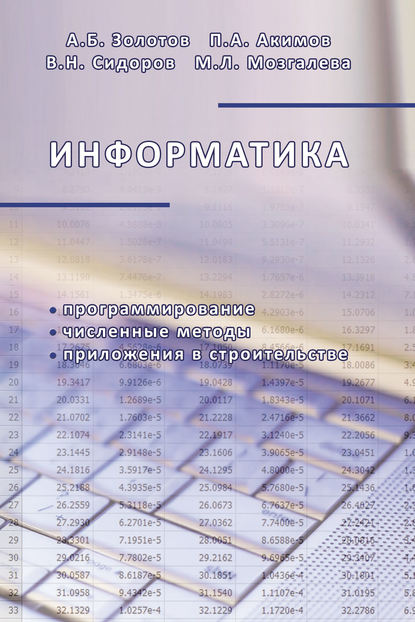В памяти живых
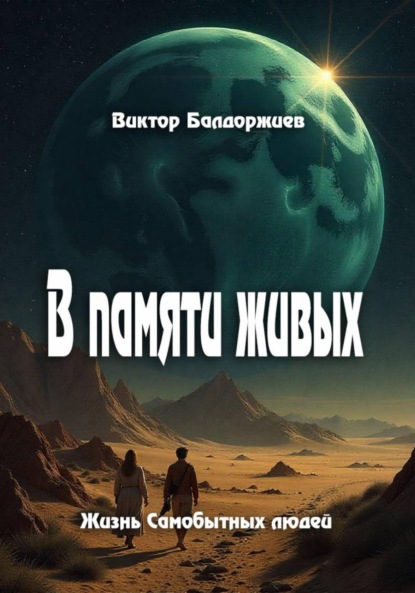
- -
- 100%
- +
Но в 1940 году он тяжело заболел и умер. Шестьдесят лам собрались для проведения обряда. Тело покойного перенесли на возвышение. Ламы совершали молебен, когда с гор, как духи, слетели огромные орлы и разорвали тело… Книги, немногие вещи Дандара-ламы мы разделили между собой».
В дацане Жунды стал учеником Хултын Сандан-габжи, эмчи-ламы. Его стали звать Жунды-Жамсо-лама. Учитель и ученик собирали лекарственные травы, все теплое время года жили в палатках. Успешно защитив звание гэбшэ, Жунды-Жамсо стал служить в Агинском дацане, но в наших краях уже властвовали люди, находящиеся за пределами истины, с которыми невозможно жить по совести.
Дульдургинский район расположен близко к границе и поэтому всегда вызывал у правоохранительных органов особое внимание. Из Алханая выселили на север 15 зажиточных семей, определив их как неблагонадежные, кулацкие, семьи. Еще десять семей и десять лам получили «путевки» НКВД с решением об изгнании их из родных мест. Соглядатаев и доносчиков хватало. Жунды-лама, в числе тысяч репрессированных, оказался в гибельной тайге Красноярских лагерей. Его бедной матери Шэмэд-эжи, оставалось только молиться за сына.
Он прошел сквозь изнурительные лесоповалы, голод и холод, унижения и оскорбления, но от этого стал только крепче духом. Видевший смерть лучше познает цену жизни! Вместе с другим ламой, Дашин Донир, Жунды-лама собирал лекарственные травы и лечил заключенных и ссыльных. Донир-лама был родом из Еравны, после ссылки много лет служил в Иволгинском дацане… Через много лет Жунды-лама весело смеялся и вспоминал: «По сравнению с красноярской тайгой в наших лесах куда больше лекарственных трав»… Известно, что государевы люди ГУЛАГА доверяли священнослужителям, в Соловках, например, епископы России заведовали складами, в одном из которых, кстати, они написали знаменитое письмо советскому правительству, где есть мудрейшие строки о том, что коммунизм унижает человека гордостью, а церковь возвышает его смирением. Естественно, что никаких подозрений не вызывали и ламы. Что непорядочного могло быть в Жунды-ламе? Он был крепок духом и здоровьем, прошел через лагеря и ссылку, изучил русскую грамоту, вылечил многих товарищей по несчастью, был абсолютно честен. Именно в силу этих качеств в 1940 году его призвали в армию. Через год началась война.
Эшелон с новобранцами высадили в Челябинске, до распределения по частям оставалось полдня, Жунды решил пройтись по городу. В смутное время всегда увеличивается число хищников, пройдох, чиновников и предсказателей. Один из них, с помощью белой мыши, гадал в толчее челябинского базара. Рядовой Жапов Жунды решил испытать счастье, и он загадал: «Вернусь ли я домой, увижу ли мать?» Мышь вытащила бумажку, и там было написано: «Вернешься, увидишься». Через много лет Жунды-лама вспоминал об это случае, и лицо его светилось счастьем… Возвращаясь на сборный пункт, Жунды всю дорогу молился, вспоминал Алханай, тарбагатайскую вершину Баян Уула. Но вот выстроилась серая шеренга, офицер стал выкликать фамилии. И вдруг – молнией: «Красноармеец Жапов Жунды». Он шагнул вперед и еще не знал, что судьба отвернула его от фронта. Всю войну Жунды работал на Челябинском военном заводе, делал ружейные приклады, ящики для снарядов, стал столяром шестого разряда…
Закончилась война, но служба продолжалась. Все чаще снилось лицо матери. Через два года после Победы отправился в обратную дорогу и Жунды, десять лет он не был дома!
Вышел на перрон уже знакомого красноярского вокзала, и неожиданно в гудящей толпе прохожих лицом к лицу столкнулся с родным дядей по отцу Абидын Уханаем или как звали его на родине дядей Балданом, отбывавшем здесь ссылку. Обрадованные, они весь день провели в разговорах и воспоминаниях, мечтах и планируя будущее. Потом дядя стал уговаривать Жунды остаться с ним.
«На родине все свои, а на чужбине – только я с дочерью. Поживи с нами, скоро нас отпустят, и мы все вместе вернемся домой», – просил дядя Балдан. Что ж, не зря Жунды впитал обычаи своего народа и постигал буддизм: он всегда выбирал сторону слабого и потому остался с дядей и сестрой. А потом они вместе добирались до Родины, некоторое время жили среди иркутских бурят, потом – среди бурят, живущих в долине Ингоды. Светлую память о них Жунды-ламы сохранил до конца жизни…
После страшной ссылки оставшиеся в живых боялись возвращаться домой. Ведь они были «врагами народа». Еще неизвестно, как их встретят «друзья народа» – местные чиновники. Некоторые семьи ссыльных так и остались на северах, иные предпочли затеряться в русских селениях. До 1953 года Жунды-лама работал скотником на Читинском мясокомбинате. Домой вернулся только в 1955 году, через семнадцать лет!
На родине в это время был уже колхоз «Большевик». Старшие братья работали в Загдачее. Бато – табунщиком, Цыден – скотником, а сестренка Цырендулма – дояркой. Жунды назначили чабаном в местности Нарин, где прошло его детство. Двадцать пять лет вместе с женой Балданэй Дулмой он ухаживал за колхозными овцами, был участником ВДНХ, его, репрессированного ламу, наградили орденом «Знак Почета». Имя Жунды-ламы внесено в Книгу Почета Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. В любое время, в любых ситуациях он оставался верен своему небесному предназначению эмчи-ламы.
После пенсии Жунды-лама работал младшим научным сотрудником Бурятского филиала Сибирской академии наук, переводил с тибетского и монгольского научные труды. Конечно, по сути дела он был незаменимым знатоком восточной медицины, практиковал каждый день, учил «старших и младших» сотрудников разных институтов, которые приезжали к нему из городов СССР, законам человеческого бытия, философии буддизма, учил науке лечить людей. Он старался объединить достижения современной европейской и традиционной восточной медицины. Его дом в Алханае знали тысячи людей. Жунды-лама помогал всем страждущим – от так называемой «элиты» до простых людей, ибо был подвижником и лучшим другом народа. Умер в 1983 году…
Таков земной путь Жунды-ламы. Душа его обрела покой в раю, который буряты называют – диваажан. Помолимся за него, ибо он сам жил в истине, по совести, и завещал жить так нам и нашим потомкам.
Ом-ма-ни-бад-ме-хум!
Содбо Ешисамбуев «Алханай – Мир Великого Блага».
Авторизованный и переложенный перевод Виктор Балдоржиева для книги «Мир Великого Блага».
Сияющий Меч Манзашире – лама Жимба-Жамсо
Есть у начала реки Загдачей тихое и безветренное место Лхамын добо, недалеко отсюда – исток реки Дульдурга. Здесь и родился в 1904 году знаменитый в наших краях Жимба-лама, которого почти через сто лет его ученик Александр Качаров назвал – Сияющий Меч Манзашире, рассеивающий мрак невежества. Он родился, когда его мать Лхама пасла овец. Мальчика нарекли Цыреном (имя Жимба он получил позже, в дацане). И с тех пор все в его жизни было необычайно и таинственно. Старые люди говорят, что у того, кто рождается в бедной семье для того, чтобы стать ламой, бывают уши с удлиненными мочками, он с малолетства понимает молитвы. Сын Лхамы был именно таким. С пяти лет Жимба самостоятельно начищал лампадки, а в семь – лепил из глины статуэтки божков. Их потом бережно хранила его сестра Генигма, прожившая почти до ста лет.
В одиннадцать лет Жимба стал учеником Идам Гава-ламы. Конечно, в те годы он не знал, что учитель его будет репрессирован и не вернется из могильных сумерек ссылки. Жимба только начинал постигать законы истины и служения людям, только начинал понимать, что мглу невежества может рассеять только луч познания. В тринадцать лет он мог уже совершать обряд в честь божества Сунды. В четырнадцать лет Жимба уединился в одиночестве в темной избушке, а когда вышел оттуда, то поразил народ – оказалось, что он нарисовал изображение божества Абида Шангад. В шестнадцать лет Жимба был уже ламой....Но уже тогда он понял, что народ живет вопреки тем законам, которые устанавливают для него люди, живущие за пределами истины и которые пытаются властвовать над народом любыми способами, что за любой идеологией стоит кучка алчных дельцов. Но воин культуры и религии не должен бороться с этим злом, он должен быть выше зла и с этой высоты освещать мглу невежества и причины, которые ее порождают. При свете истины причины зла исчезают.
В 1923 году Жимба подружился с одним хоринским ламой, и они собрались в паломничество в Монголию. Родные сшили ему в дорогу шапку из драгоценной выдры, дали немного кораллов и серебряных монет. Для проживания в Монголии нужно было гражданство, и Жимба принял фамилию Мункуева Цыбена, стал служить в дацане Гандан. Так он стал Цыбеновым, фамилия эта сохранилась за ним до конца его земного пути… У него уже были свои ученики, и был он весь охвачен высокими духовными устремлениями, чтобы внести в этот мир больше независимости и пробудить светлую мысль, зовущую к истине. Ведь именно там спокойны совесть и душа человека, крепок его быт, обустроена жизнь. Только пребывая в истине, человек может пробудить свой духовный взор, обращенный к религии, культуре, искусству и постижению себя в мироздании…
Более десяти лет Жимба постигал законны буддизма, стал одним из сильнейших лам Монголии, уже окутанной к тому времени мглой невежества, которая всегда выгодна людям, боящимся истины, ибо луч ее освещает их подлинную суть…
В 1939 году Жимба-лама, как и многие другие ламы, был арестован и заключен в тюрьму Улан-Батора.
Заключенные умирали от холода и голода в сырых камерах тюрьмы. Жимба заболел. Согнутый недугом и нечеловеческими условиями, он еле-еле передвигался за железной оградой во время редких прогулок. Таким его увидел Холсын Зоригто, наш земляк. Он добился встречи с Жимба-ламой, переговорил с его учениками, остававшимися на свободе, которые передали сквозь прутья решетки своему учителю сверток. В это время вышло постановление правительства Монголии – всех эмигрантов из России выслать обратно по железной дороге.
Именно в это время матери Жимба, Лхама-эжи, приснился вещий сон, о котором она рассказала позже. «Будто бы с острия большого ножа вырывается пламя, потом пламя превращается в огненный вал и катится на север. Я подумала – может быть, мой сын уже миновал границу и возвращается домой?» После этого рассказа многие вспоминали, что в Загдачее есть гора Мадага с острой, как лезвие ножа, вершиной…
В Томске, где высадили заключенных из Монголии, лежал глубокий снег. «Я украдкой развернул сверток, переданный учениками, там были – колокольчик и сменная одежда. Больше ничего», – рассказывал много лет спустя Жимба-лама и смеялся.
Начались тяжелые годы заключения в России. Студеная зима, тяжелый труд, непреходящий голод, болезни – все испытал Жимба-лама, но в душе его всегда горел огонь жизни и любви к людям. Ему повезло, его группе достался обжитой барак, где недавно жили солдаты, отправленные на фронт. После них еще оставалось немного еды. Он непрестанно молился, окреп настолько, что его призвали в армию. Доверили охранять склады с оружием, позже – участвовал в строительстве железнодорожных мостов через сибирские реки, пробивал туннели сквозь скалы. Заключенный и солдат, Жимба-лама был удостоен многих правительственных наград и поощрений за время службы в тылу.
Страшная битва идеологий и правительств, вовлекших народы в ужасающую бойню, закончилась. И в 1950 году Жимба-лама написал из Томска первое письмо родным. Он не был дома двадцать семь лет! В 1953 году его внучатый племянник Санжа сумел добиться отпуска Жимба-ламы письменным вызовом. Бывшие репрессированные даже после войны не могли отлучаться с места прописки без разрешения властей… Вот почему, вернувшись на Родину, Жимба-лама поселился на курорте Дарасун, ему было запрещено жить вблизи государственной границы. Его отрекли от ламства, он женился. Верная жена и друг Лхамажаб Дашина делила с ним тяготы сибирской ссылки. На Родину они вернулись вместе и начали по-новому созидать свою жизнь.
Но для буддиста ничто не проходит даром, любая ситуация ему на пользу, бесполезная трата времени – тяжкий грех. За эти годы Жимба-лама стал искусным живописцем, и не только – он овладел тайнами буддийской иконографии. Вполне вероятно, что во второй половине XX века он был единственным в своем роде уцелевшим ламой в наших краях, кто сохранил и приумножил свои познания в тайнах буддийской иконографии. И еще – он был одним из немногих, кто все еще продолжал практиковать учение Будды по традиционным канонам во времена запретов всех религий и воинствующего атеизма. Это – великий подвиг настоящего воина культуры и религии, ибо то, что сохранили и приумножили уцелевшие ламы, позже станет основой для дальнейшего развития буддизма во всем Восточном Забайкалье. То, что уничтожило большинство, сохранили немногие, один из немногих – Жимба-лама.
Овладев тайнами смешивания красок, одухотворив радужное разноцветье, он писал прекрасные иконы, сам их освящал. После долгих лет лагерей, ссылок, службы, он продолжал обогащать атмосферу вокруг себя человеколюбием, призывая окружающих погрузиться в истину и жить в ней, как это делает он. Многие помнят, как он работал маляром в военном санатории курорта Дарасун, завел крепкое хозяйство, построил собственный дом, ибо все у человека должно быть надежным и крепким – и слово, и дело… Начиная с 1969 года, на протяжении шести лет, он работал в Улан-Удэнском филиале Сибирского отделения Академии наук. Неустанно переводил с тибетского, старомонгольского рукописные книги. Это приносило духовное отдохновение. К нему приходили за советами, приезжали ученые.
Многие хотели стать его учениками. Он был строг, требователен, но никому не отказывал, ибо доброта души была его врожденным качеством. В свободное время Жимба-лама лечил людей, написал множество миниатюрных сочинений, содержащих суть учения Будды. На титульном листе ставил свою печать, на которой был изображен меч покровителя искусств – Манзашире.
Его жену и друга многие звали Лхамажаб-эжи. Она ушла из жизни в 1982 году, Жимба-лама снова принял монашеские обеты и ушел служить в Агинский дацан.
Он достиг преклонных лет, когда началось восстановление Цугольского дацана. Жимба-ламу выбрали исполняющим обязанности настоятеля. В ограде разоренного дацана ему поставили войлочную юрту. Один год жил в ней, пока не построили ему дом. Всеми силами старался Жибма-лама ускорить реставрацию главного здания, многократно встречался с народными депутатами, прося помощи, обращался к начальникам. А когда можно было объявить первые службы-хуралы, то строго следил, чтобы отправлялись обряды по всем канонам. В девяносто лет получил он документ о назначении его настоятелем-ширетуем Цугольского дацана, заверенную высшим руководством буддистов и скрепленную печатью правительства страны.
Его земной путь закончился 16 июня 1995 года. Уставшая плоть великого ламы была кремирована, а по-бурятски – расплавлена в огне, 22 июня 1995 года на горе вблизи величественного Цугольского дацана, а душа вознеслась к небесам, откуда он всегда будет смотреть на этот суетливый мир и желать всем мудрости и сострадания, ибо сам был таким и всегда практиковал и проповедовал эти великие качества и основы учения Будды.
Ом-ма-ни-бад-ме-хум!
Содбо Ешисамбуев. Авторизованный перевод с бурятского и литературное переложение Виктора Балдоржиева. Для книги «Алханай – Мир великого блага». 2003 год.
Фрол Михайлович Овсянников
Мотоцикл «Урал» видели? В 1986 году мне выдали такой мотоцикл в редакции газеты «Советское Приаргунье», что в Нерчинском Заводе, который стоит у подножия горы Крестовка. Построен Завод вместе с Петербургом. Только Петербург – всемирный известный город, а в Нерчинском Заводе осталась его планировка XVIII века и даже дома постройки того века. Точно такими же были и первые дома Петербурга.
Здесь в то время нашли и добывали первое серебро. Сюда пришла Русь – отсюда началась Россия. Мой слоган для неосуществленного памятника. Поставят ли когда-нибудь такой памятник потомки?
Дело было так. К 1986 году мы с коммунистической партией настолько надоели друг другу, что один из нас должен был куда-нибудь сгинуть.
Первым сгинул я, потому ещё живу. КПСС – чуть позже и навсегда.
Сгинул я в места Нерчинской каторги, где и должны жить все противники режима. Там и выдали мне синий мотоцикл «Урал», даже не спросив прав на вождение, которых, конечно, как и у всех деревенских парней, умеющих ездить на чём угодно (от кобылы до танка), не было.
Мой мощный мотоцикл летал по всему району, особенно вдоль реки Аргунь, от середины которой начинался Китай. С нашей стороны – проволока, сигнализация – мышь не проскочит, с той – открыто, купайся, рыбачь, загорай, смейся! Смеются, наверное, до сих пор.
Однажды, пролетая через маленькую деревушку Дамасово, у самой Аргуни, я увидел такое старое и накренившееся подобие избы, что даже остановился. Редкий случай для меня. На скамеечке, опираясь руками на клюку, сидел небольшого роста старик в поношенной одежде. Я, в шлёме, кожаных штанах и крагах, подошёл и спросил у него, где находится совхозная ферма.
– Сначала человек должен поздороваться с другим человеком! – ехидно, но добродушно сказал мне старик.
– Здравствуйте! – выпалил я обескураженно, пожалев, что остановился.
– Ну, здравствуй, мил человек. Вот теперь можно и поговорить. Часто ты тут пылишь на этом драндулете!
Смущённый, я снял массивный шлем, разглядывал жилище.
К тому времени я уже довольно много видел жилищ людей. Самых разных. Но эта была именно жилищем. Не избой, не домом, не квартирой. Не то брёвна ушли в землю, не то землянку выперло из земли.
Строил его несомненно бедный человек лет двести тому назад, жили в нём два столетия бедные люди, и сейчас живут такие же. Бывал я и в старинных казачьих избах. Это жилище не походила ни на одну из них. Даже брёвна и когда-то восьмисантиметровые доски ручного распила были настолько отполированы от частого касания людских лохмотьев, мозолей, предметов, что на них образовались выемки и видно было до какой степени они истончились и отполировались.
И скамейка, на которой сидел старик, тоже была обшарпанной до выема в тех местах, где часто сидели люди.
– Долго будешь разглядывать нашу жизнь? – ехидно спросил старик. – Пройдём в нашу халупу. Хоть чаю хлебнешь.
Кроме стола, большой печи и лежанки в жилище почти ничего не было видно. Или я не разглядел тогда.
Так я познакомился с Фролом Михайловичем Овсянниковым, одним из редких людей на Земле, который ни разу за свою жизнь не слукавил себе и не прогнулся перед негодяями у власти.
После первой встречи и знакомства с ним, я подружился на всю жизнь с его односельчанином Владимиром Зыряновым. Чем больше я беседовал с Фролом Михайловичем, тем крепче становился в своих убеждениях, тем радостнее становилось на моей душе от того, что есть на Земле люди, которые не способны лгать и кривить душой.
Все вещи и людей он называл их именами, в соответствии со свойствами. И это не было ни оскорблением, ни обвинением, ни хамством. При этом ни в чём и никогда не нуждался, хотя жил в ужасающей бедности. И ничего, ни у кого не просил. Да и кто бы дал, когда старались не замечать.
Появится партийная делегация из области или района в деревне, Фрол Михайлович принародно, как о заурядной вещи, отмечал, что приехали подлинные воры и разбойники. Эти воры и разбойники могли быть рядом и слышать. Кто такого человека, будь он трижды ветераном, мог бы обеспечить приличным жильём? Пропади он пропадом со своей правдой!
В 1941 году он, как мне рассказывали, был под Москвой, но его отправили обратно по болезни. Войны, по его мнению, затевали тоже воры и разбойники. Для него Сталин и Гитлер ничем не отличались друг от друга.
– Зачем немецкий народ будет воевать с русским? Они никогда и не воевали. Это всё цари и коммунистические начальники гонят людей на убой. Народы и простой человек никогда и ни в чем не могут быть виноватыми. У них и прав таких нет За счёт чего они могут стать виноватыми? Разве что мешок зерна украдёт или магазин ограбит…
Ни юродивым, ни домашним философом, ни героем шукшинского рассказа «Срезал» он не был. В то же время имел сметливый от природы ум. Сложнейшие философические императивы в его устах становились ясными п понятными.
– Я гляжу, ты белым памятником на той стороне интересуешься, – сказал он однажды мне, когда мы зашли к нему с Зыряновым.
Действительно, я часто рассматривал в бинокль китайскую сторону, где среди кустарников возвышалось какое-то строение из кирпича.
– Там жила половина нашей деревни. Тоже Дамасово называлось. Когда-то, видимо, заимки были, а в гражданскую полсела туда ушли. Потом границу закрыли. Тут наши бабы запоют, а там заголосят… Так и жили. В 1929 году красные перешли на ту сторону и убили всех жителей. Потом китайцы поставили памятник. Русским людям убитым русскими же.
– Вы были там?
– Мне тогда 15 лет было. Вся наша беднота туда ринулась. Переплыли кто и как мог Аргунь. Прибежали, а там – одни мёртвые. Никогда не забуду – лежит русая девушка на улице, а косу её кабан терзает. Китаец, который часто меня пампушками угощал, лежал в своей лавке с разрубленной головой… Наши несли оттуда всё что могли. Муку, зерно, хомуты, сбрую… Мне кричат: зубья бороны бери. Набрал. Чуть не утонул. Выбросил…
О многом рассказывал Фрол Михайлович. Предателя называл предателем, честного человека – честным, обманщика – обманщиком. Но любой человек, по его мнению, может всегда измениться и стать другим.
Самыми несчастными для него всегда были и оставались те, кто имели власть над людьми. Они, как считал Фрол Михайлович, не могут уже измениться. Несчастье их усугублялось ещё и тем, что они не знали об этом.
Позже, уже в конце 1980-х годов, не раз и не два я писал с его слов материалы в областные газеты. Побывал у «воров и разбойников» района и области. Фролу Михайловичу выделили большой, старый, но ещё добротный дом на краю села, откуда отчётливо был виден памятник на месте, где убили его односельчан.
Я не помню года, когда не стало Фрола Михайловича. Мне всё ещё кажется, что он сидит на скамеечке у старого-старого жилища и ехидно, но добродушно, говорит мне:
– Сначала человек должен поздороваться с другим человеком!
Бывая в столицах и других городах, в каких-нибудь Crone Plaza, в блестящих офисах и кабинетах, встречаясь с чиновниками, я на миг проявляю из мглы времён жилище Фрола Михайловича, слышу его голос, и тогда особенно ясно представляю, где и среди кого я нахожусь.
Это большое и безошибочное знание.
Повесть о стране и её сыне
Они знали о смерти и шли на смерть…
Для того, чтобы рассказать об этом человеке и его стране, мне не надо ничего выдумывать, тем более убеждать кого-то силой и талантом художественного воображения или убеждения, то есть преобразовывать на своё усмотрение факты, особенно, если их нет. В обоих случаях всегда получается ложь и, следовательно, умаление человеческого достоинства, его окружения и места их проживания.
Но факты есть, их много, и они никогда не кончатся, а потому я буду строго следовать им и логике. Ведь каждый факт – это только промежуточное звено бесконечности, именуемой Жизнью.
Предисловие или примеры возможностей
Судьба, случай, удача, везение, в общем – жизнь, предоставляют человеку такие возможности, перед которыми меркнет любое художественное воображение, претендующее ещё и на документальность. Примеров предоставления таких возможностей уйма. Вот один из них.
Собираясь на очередной боевой вылет, лётчик, старший лейтенант Николай Павлович Кочетков даже предположить не мог, что с ним может произойти столь невероятный случай, поверить в который совершенно невозможно. Он – заместитель командира эскадрильи, 686 штурмового авиационного полка, летает на ИЛ-2. Немцы сбивают их в невероятно больших количествах, но и они наносят врагу немалый урон. Его могут сбить зенитки, истребители, стрелок-радист немецкого штурмовика или бомбардировщика, он может выпрыгнуть с парашютом, посадить самолёт на оккупированной территории или дотянуть до своих. Многое вероятно. Он может погибнуть при взрыве самолёта в воздухе или на земле, его могут расстрелять при спуске на парашюте, наконец, он может попасть в плен или, выбравшись из горящего самолёта, добраться до своих.
Но получилось совсем по-другому.
Утром 3 сентября 1942 года было холодно, поверх обыкновенной гимнастёрки Кочетков надел кожаный реглан. Привычно сел в свой ИЛ-2, взлетел вместе со своей группой штурмовиков и повёл их в сторону железнодорожного разъезда Конный, находящегося недалеко от Сталинграда, где они должны были уничтожить батарею шестиствольных миномётов, наносивших нашим войскам серьёзный урон. О координатах батареи, естественно, доложила разведка, а командование дало Кочеткову конкретное боевое задание.