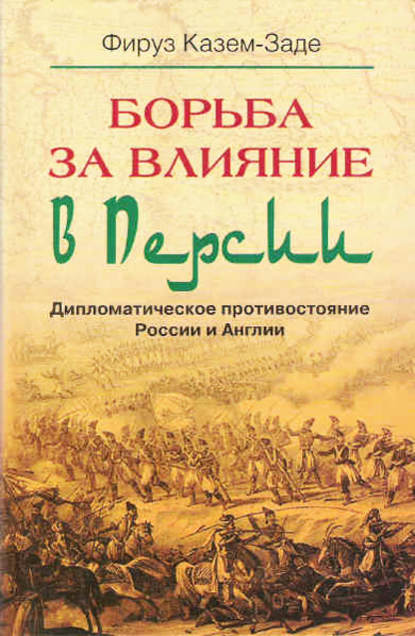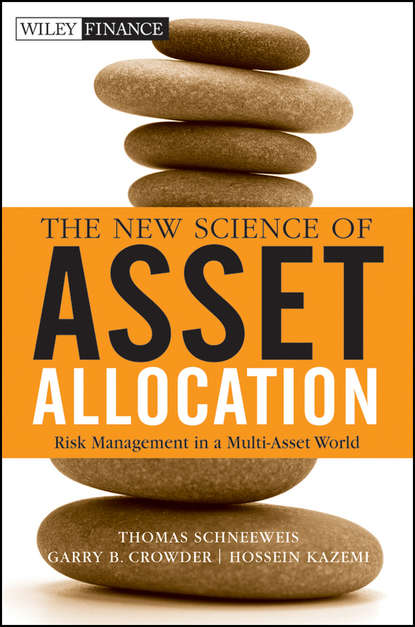Время и фриланс
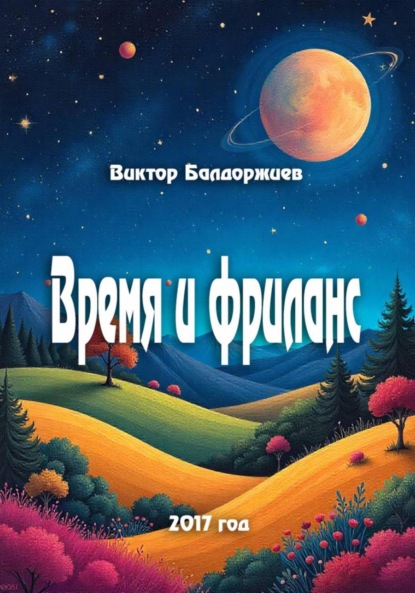
- -
- 100%
- +

©Виктор Балдоржиев
Время и фриланс
Тему пытаюсь раскрыть для своих
земляков и потомков.
Кому-нибудь из них обязательно
пригодится этот текст.
Это рассказ о том, как я стал и до сего дня работаю фрилансером. На мой взгляд, фрилансером надо родиться. Наверное, не у каждого человека с рождение имеется состояние свободного человека. Для одних – это несчастье на всю жизнь, для других – естественное состояние, которое отличает его от остальных.
Фрилансер – знак вопроса в толпе восклицательных знаков, становящееся летящим копьём, поражающим точно в цель. Это не удел, это – судьба…
Вместе с тем я обязан предупредить, что это в некоторой степени художественное, нежели документальное, повествование, а потому всякое совпадение имен, фамилий и дат случайно.
Три момента в моей судьбе
Во-первых, фрилансер – это свободное копьё, вольный копейщик и только после этого свободный художник. Такая расстановка акцентов более соответствует профессии и точнее расставляет приоритеты.
Во-вторых, фриланс в моей судьбе – порождение расовых проблем и национальной политики государства, в нашем случае СССР. Тут нет ничего удивительного, это естественные процессы, которые были и всегда будут там, где обитает не имеющая идентичности, а потому не вполне развитая часть человечества
В-третьих, фриланс, видимо, был в моих генах, а потому, естественно, стал моей судьбой почти много лет тому назад. Мне кажется, что я всю жизнь был свободным художником, ибо всякое подчинение становилось для меня удавкой. А свобода – это неделимый и неограниченный воздух. Дышать по нормам и порциями не могу…
Теперь я должен объяснить все перечисленные моменты.
Слово впервые применил Вальтер Скотт в романе «Айвенго». Перевод слова lancer, конечно, не художник, тем более не журналист. Это – копьё, воин, рыцарь, кавалерист, улан. Значений много. Свободный и наёмный исполнитель чужих заказов, замыслов. В наше время, некоторые фрилансеры – это вообще свободные художники, которые сами предлагают и исполняют замыслы. Во многих случаях они сами предлагают и продают свои тексты.
Таким человеком я и должен был стать с детства. Почему?
Родился и вырос я в русско-украинской среде, по национальности – бурят-монгол. Не бурят, а именно бурят-монгол, ибо в 1954 году, когда я родился, была ещё Бурят-Монголия, просто Бурятией республика стала в июле 1958 года. И дело даже не в том, что я никогда не жил в национальных округах или республиках, а в том, что я считаю себя монголом, точнее – бурят-монголом. Человек русской и монгольской цивилизации, если такое возможно. Судьба такая.
Жили мы у самой монгольской границы. С малых лет я говорил на русско-украинском языке, видимо, суржике, бурятским языком овладел позже, когда попал в среду своих родственников. О том, кто, как и когда меня и моё поколение учил языкам, можно прочитать во разных моих материалах о себе.
О никаких расовых или национальных проблемах я никогда не знал и даже не чувствовал их. Бытовое невежество, приводящее к ссорам и дракам, можно вообще не считать национальной враждой. Среда у нас была одна – Союз Советских Социалистических Республик, где все, кто был знаком со мной, считали меня русскоязычным поэтом и прозаиком.
Стихи и рассказы я писал с младших классов.
Отслужив срочную службу в июне 1975 года, я подал документы на филологическое отделение педагогического института. И, к своему удивлению, узнал, что нерусские ребята, живущие в национальных образованиях, при сдаче экзаменов для поступления в ВУЗы пишут диктанты, а все остальные, в число которых входил и я, – сочинения. Никогда не интересовавшийся национальными вопросами, я был потрясен таким неравенством. Написать диктант на русском языке, на мой взгляд, мог любой человек. Какая здесь могла быть трудность?
Так думать мог очень и очень наивный человек.
Конечно, я писал на русском языке лучше всех своих сверстников, побеждал на многих конкурсах, уже публиковался в какой-то периодике. И никогда не думал о том, что кому-то предназначено писать диктанты, а кто-то обязан заниматься сочинением. В этом вопросе для меня все люди были равными. Но оказалось, что это совсем не так. Оказалось, что большая часть моих сверстников и земляков очень плохо знает русский язык, что государство буквально «тянет» их чёрт знает куда. И вытянула до того, что никаких корней не осталось…
«Халява», которую давало государство нерусским народам никогда не приведёт к русифицированным знаниям, образованию и культуре. Это всё равно, что напялить на дикаря европейский костюм. Он же не станет от этого европейцем, хотя с годами может приобрести некий косвенный эффект, поддерживаемый государством, а это хуже естественного дикаря: ведь в результате такого «эксперимента» он потеряет свою идентичность, которая и ставила его в один ряд со всеми народами мира.
Например, бурят-монгол в национальной одежде, которого зовут русским именем, демонстрирующий с позволения режима свою национальность на сцене и разных культурных мероприятиях, может оказаться не вполне бурят-монголом, но бурят-монгол в европейской одежде, будучи доктором наук, знающий родной язык и сохранивший своё имя, – настоящий представитель своего народа. Очевидно, что именно такие люди и возвышают свои народы…
Рождение и воспитание в многонациональной среде, где отсутствуют всякие привязанности (от слова привязать) к самым разным явлениям, включая религию и моноэтнический примитивизм, которые ограничивают свободу познания и тормозят развитие, – величайшее благо для любого человека. Но это благо не только для человека, но и для народа, представителем которого он является.
Тогда, в середине 1970-х годов, у меня впервые зародилась мысль, что национальные образования из территорий сохранения самобытности народов становятся территориями задержки развития человека… Но кто бы понял тогда и поймёт сейчас эту «преступную» мысль?
Я всегда считал, что никого не надо учить. Кто захочет, тот всегда научится. А тут учили и заставляли учиться. И давали за это дипломы. Но многие из обучаемых не могли написать даже диктанта.
Этот факт стал моим первым шагом к фрилансу.
Очень быстро я стал писать диктанты за своих земляков, якутов, тувинцев, бурят. И почти всегда получал отличные оценки. Появились первые заработки.
Ещё через полтора года мне разрешили свободное посещение в институте, к этому времени я работал в институтской малотиражке, получал зарплату. И азартно занимался фрилансом: писал курсовые, рефераты. Теперь уже не только за нерусских сверстников, а за всех, кто заказывал. Дело не в том, что жадничал и зарабатывал деньги, а в том, что я жадно познавал и наполнял себя информацией, занимался литературой, историей, другими науками. Непрерывно, днями и ночами. Деньги, конечно, платили.
Кроме того, имея свободное посещение, выпуская газету, ходил в типографию, печатал и приносил в институт тираж. А ещё работал в речном порту, где ночами, в каюте какого-нибудь судна, обложенный книгами, размышлял над очередным рефератом. Иногда, озаренный какой-то вспышкой или лунной дорожкой на волнах Амура, лихорадочно набрасывал стихи.
Три момента, о которых написал в начале, не только определили мою судьбу, они корректировали и направляли меня всю жизнь: свобода выбора, отсутствие предрассудков, следование призванию. Ничем иным, кроме текстового, а иногда физического, труда, на хлеб насущный я не зарабатывал.
В 1977 году я был занят неологизмами в творчестве современных поэтов, а фриланс мой поднялся до уровня кандидатской диссертации. И тут надо было решать…
(В этом материале или одном из статей книги я допустил бестактность, вернее – оплошность, написав о не вполне развитой части человечества. Извиняюсь и исправляю: человечество никогда не будет вполне развитым. Не зря говорится, если бросить пить, то, как потом жить без мечты?)
Итак, я остановился на моём фрилансе образца 1977 года, когда я делал работу уровня кандидатской диссертации. И надо было решать проблему.
(Попутно о стиле и звуках: видите в предложении смыкаются два «у» – работУ Уровня? Таких сочетаний фонем желательно не допускать. А вот три «и» – Извиняюсь И Исправлю, возможно, звучат симпатично, к тому же «Ь» усиливает извинение). Вообще, звуки, буквы, слова, предложения надо перекатывать во рту, на языке. Это мои личные наблюдения).
Проблема заключалась в свободном посещении занятий. Есть такой вариант обучения. Для этого нужны два условия: студент должен быть отличником и писать научную работу. Первым я был, это не трудно, но обязывает, ибо человеку прививают «звёздную болезнь и вирус пятёрки». Состояние для меня мучительное. Никому не рекомендую.
Для того, чтобы показать в ректорате свою научную работу и получить долгожданное свободное посещение занятий, я отказал заказчику, а начатую работу предоставил в ректорат. Так я стал свободным студентом, что очень быстро испортило меня: не стало главного – системности.
Естественно, работу заказчика я переделал, сдал, помог найти ему оппонентов, он защитился. А я бросил учёбу и отправился в своё первое «автономное плавание» в океане жизни, думая попасть на Сахалин, где можно было заработать во время путины.
Но мой приятель Сергей Андреевич Кадашов, писавший неплохие стихи и учившийся заочно на истфаке, звал меня учительствовать в деревню. Почему-то он был уверен в моём «большом» будущем, а я вообще не думал об этом. Уверенность его подкрепили поэты и прозаики, которым понравились мои стихи на каком-то творческом вечере. В те годы практиковались выезды писательских бригад и литературные мероприятия. У нас были «Огни БАМа». В памяти моей остались фамилии – Виктор Коротаев, Виктор Вучетич, Ольшанский (не помню имени, по-моему, писателей с такой фамилией несколько).
Отец Сергея Кадашова был кандидатом филологических наук и тоже был уверен в моём будущем, которого я даже не представлял.
Сергей договорился в РОНО одного из районов, и мы с ним стали воспитателями в живописном пионерском лагере, куда, кстати, приехали на практику некоторые мои однокурсники, которые передали мне, что в ректорате и деканате весьма озабочены моим будущим. Но почему меня не беспокоило моё будущее? Более всего меня тревожило отсутствие системы, из которой я добровольно выпал. А потому я обязан был создать для себя собственную систему образования, которая рано или поздно выработает свой метод. А метод – это всё. Такая мечта была главнее дум о будущем…
Осенью мы отправились в школу. 1 сентября 1978 года запомнилось мне тем, что «сельская интеллигенция» и колхозное начальство обильно выпивали в колхозной столовой и желали самим себе успешного учебного года и трудовых успехов. Это были симпатичные и хорошие люди. Но именно с той поры я понял, что даже маленький коллектив делится на несколько противоборствующих групп. Может быть, это явление присутствует в России везде? Думаю, что всякий талант должен избегать коллектива, если он только не самоубийца.
Вернёмся к расовым и национальным вопросам, решение которых зависит от места проживания. Женой Сергея Кадашова была моя землячка, русская. Звали её Саша, по-нашему Шура, в которой явно проглядывали монголоидные черты её предков. Была она конопатой, весёлой и симпатичной девушкой. Но русской она могла быть в родном Забайкалье, но в полу-украинском, амурском, селе Сашу считали моей родной сестрой, буряткой, каковой, наверное, и была её далёкая прародительница. На известном нам расстоянии, километров на триста во все стороны, не было ни одного нерусского человека (не славянина). И ни одного враждебного взгляда на этом пространстве мы не заметили, кроме обыкновенного любопытства, присущего всем людям. Владимир Ильич Ленин, как всегда, оказался прав: по части русскости пересаливают нерусские люди, на определённом этапе истории, оказавшиеся русскими. Ведь «русский» – не только национальность, но и определение, приложение, причастие, прилагательное.
В общем, я стал учителем русского языка и литературы, попутно ещё каких-то предметов, ибо в сельской школе никогда не хватает учителей.
Далее выяснилось, что более половины «сельской интеллигенции» и колхозного начальства учится на заочных отделениях в разных учебных заведениях. Можно было брать заказы и зарабатывать. Темы были разные, культура, образование, мелиорация, но превалировало сельское хозяйство.
Я выпросил в сельском Совете старую печатную машинку, без которой жизнь представлялась бессмысленной. Дело в том, что в армии меня обучили слепому буквопечатанию. По этой причине у меня развита мышечная память до такой степени, что ночью, на ощупь, могу положить пальцы на клавиатуру и начать печатать. Это огромное достижение для умственной работы. К тому же система букв дисциплинирует и обязывает мыслить направленно.
Проверяя по ночам ученические тетради, просиживая над курсовыми и рефератами заказчиков, описывая свои представления и перерабатывая тексты, я думал, что такие работы надо не только писать, но и выпускать их в периодике и книгах. Это должно понравиться заказчику. Но это же и деньги! Надо стать книгоиздателем. Где такой профессии учатся?
И вот однажды…
От ректификата до гарта
– Виктор Иванович, от тебя водкой пахнет. Нехорошо! – говорил я учителю истории, труда и рисования в одном лице Виктору Ивановичу Саяпину. Кстати, моему соседу по подъезду.
Дело в том, что меня определили в трёхкомнатную квартиру, где жил ещё один тип – высокий и сухощавый учитель, тоже русского языка, неженатый и совершенно необщительный. Ученики дали ему клику – Циркуль, и он действительно походил на сей предмет. А с Виктором Ивановичем Саяпиным я подружился в первый же веер.
Он стоял у школьного токарного станка в чёрном халате-спецовке и как-то вызывающе держал за спиной руки. Действительно, пахло спиртом, а ещё в прохладном воздухе мастерской – деревом, металлом, лаками.
– На, попробуй, не будет пахнуть, – сказал Саяпин и немедленно протянул левой рукой банку, которую и держал за спиной. – Ректификат! – многозначительно выдохнул он, поднимая и тряся указательным пальцем правой руки куда-то в потолок.
Саяпин оказался прав: я попробовал и пахнуть от него перестало.
– Статья твоя обо мне вышла в газете. Гонорар опять получишь, – уже спокойнее сказал Виктор Иванович, нарезая на фанере горбушу и хлеб. – Все говорят, что тебе надо было в журналисты подаваться, а не в народные учителя… А вот и Сергей Николаевич! Проходи, Сережа…
В дверях возник Сергей Андреевич Кадашов.
Ректификат и решил мою судьбу: в оживленном разговоре выяснилось, что я оставил не только институт, но и партийный билет вместе с партийной организацией. Индифферентное отношение к партии не поощрялось органами государственной безопасности. Поскольку в армии я был начальником аппаратной ЗАС (засекречивающей аппаратуры связи) и имел подписку о неразглашении, то меня «удостоили» кандидатом в члены КПСС. А в институте на какое-то замечание о моральном облике принародно вручил партийный билет секретарю организации, объявив, что я никогда не смогу оправдать столь высоких надежд на мои способности, несмотря на уважение к лысому дедушке, преобразившему человечество.
– Ребята, но не смогу я овладеть всеми знаниями, которые выработало человечество, хоть и стараюсь! – совершенно серьёзно сказал я друзьям, стекленея после третьего ректификата и как-то отрешённо думая о выражении «Чист как стёклышко».
– В общем, тебе пора валить отсюда. Скоро придёт запрос на тебя. Пока каникулы, можно оформить документы и слинять потихонечку. Смелый ты парень, – резюмировал Саяпин, – но помни, государство и общество всегда держат на прицеле тех, кто отличается от всех. Мушку чувствуешь?
Мушку эту я чувствовал всегда, чуть ли не с рождения. И когда второклассником принёс учительнице новогодний рассказ, а в учительской начала смеяться, и когда в четвёртом классе сказал, что татаро-монголы, изображенные на картинках, очень похожи на моих родственников, и когда видел отношения колхозного начальства, и когда спросил о военном бюджете СССР в институте, а преподаватель замешкался.
Чувство, что я на прицеле преследовало меня всю жизнь.
Через неделю после этого разговора я был уже дома. А ещё через две недели работал корректором в районной газете, которую через месяц стал заполнять своими материалами почти наполовину, за год став поэтапно – журналистом, заведующим отделом, ответственным секретарём.
Так начинались мои университеты жизни.
Через много лет я узнал, что моими благодетелями были редакторы районных и городских газет, которые «прикрывали» меня перед партийными и государственными органами, видимо, запросы по месту моей прописки следовали постоянно. Неужели, мне ничего не следовало иметь?
А пока шёл 1979 год. Присмотревшись к работе районной газеты и типографии, я интенсивно начал учиться всему – и журналистике, и полиграфии. Гонорар всей газеты на 4 полосах был 40 рублей. Этот «пул» делили между сотрудниками и селькорами, в зависимости от вклада каждого. Всего набиралось человек 20-25. Это – редактор, его заместитель, ответственный секретарь, а также руководители и сотрудники отделов. Обычно это были партийный и экономический отделы, а также отдел писем. Зарплаты у всех были разные – от 200 до 100 рублей. Почти в каждом селе был свой местный корреспондент.
Гонорар распределяли ответственный секретарь и редактор.
Вообще, это была насыщенная и довольно интересная жизнь.
Рубль с долларом в те годы держали почти паритет, хотя это громко сказано. Я приходил на работу раньше всех и первым делом заполнял информациями всю первую полосу, тем самым сразу зарабатывал 10 рублей. Остальные – 10 зарабатывал на других полосах, хотя чувствовал, что такую газету могу заполнять один, постоянно меняя тематику и стиль. А чем бы тогда занимались другие сотрудники, для которых любая «информашка» была делом раздора и препирательств? Ведь все получали заработную плату.
Народ в те годы особенно не задумывался о деньгах, жизнь и будущее потомства представлялись гарантированными. Нормы морали, чести и совести были на первом месте. Всё остальное было вторичным. Не знаю, как в городах, но в нашем районе люди всегда жили зажиточно. Только в колхозе моего родного села было 100 тысяч овец, всего в районе – более 300 тысяч, а поголовье овец Читинской области достигало чуть ли не 5 миллионов. Мы занимали второе место в РСФСР по поголовью овец после Ставрополья.
Надеюсь, что после такого короткого экскурса в историю можно представить хотя бы приблизительно жизнь людей и экономику регионов. Естественно, сотрудники газеты были только рады моей активности и гонорарам. Никто не завидовал, к тому же мы все были друзьями. На всю жизнь. Да и газета стала интересной.
Наверное, планируя время таким образом и зарабатывая гонорар, в то далёкое время, я занимался настоящим фрилансом. Слово было малоизвестное, но зарабатывать надо всегда и при любых условиях. И потому предмет и тему надо знать очень хорошо. Какие-то другие установки мне трудно понять.
Изучение полиграфии я начал с плавки гарта. Это смесь свинца, олова и сурьмы. Была специальная печь, в которой выплавляли «чушки» для линотипа – машины, на которой набирали текст. Кроме этого, был ручной набор, при котором на особой «верстатке», вручную, из кассы набирали литерами заголовки статей, рубрики, был и целый отдел пробельного материала – разные линейки и т. д. и т. п. До появления линотипа весь текст тоже набирали вручную. Кстати, среди первых грамотных рабочих и революционеров было много полиграфистов: читали в процессе набора, вёрстки и печати.
Современным людям трудно объяснить эти темы, нужна специальная литература. Очень коротко: весь процесс набора и печати происходил на гарте, который в расплавленном виде поступал в каналы линотипа (машины для набора) и преобразовывался в пластины, на которых линотипист (обычно женщины) выбивали строки. Последний период эволюции полиграфии и редактуры – от кипящего свинца до компьютерного набора.
Никогда не понимал и сегодня не понимаю тех редакторов и журналистов, которые не знают и не хотят знать физического процесса превращения виртуальной мысли в буквы и тексты. Мне всегда казалось и кажется сейчас, что пишущий человек должен видеть свою мысль, в процессе изложения, в уже сверстанном и отпечатанном виде. Добавлю к сказанному, что мне также было трудно понять издание, которые не приносило прибыли и находилось в полной зависимости от государственного финансирования.
С этой целью, начав с гарта, я научился набирать и верстать газету. Теперь я мог излагать свою мысль посредством ручки, пишущей машинки, набирать её на линотипе, верстать на монтажном столе, править, печатать на печатной машине, а кроме этого – нарезать бумагу нужного формата, набирать на «верстатке», работать в цинкографии, делая линейные и точечные растры и ещё многое, многое другое, попутное и необходимое. Всё это, как и современные процессы преобразования мысли в текст и графику, элементы фриланса. Об этом не надо говорить, но это надо знать и уметь…
Мне довелось видеть очень много надменных бонз и «слонов» от журналистики и литературы на разных «водопоях». Всегда считал их никчемными и бесталанными существами, способными только врать, живущими в каком-то особом «курятнике» по принципу: уклониться от верхнего, клюнуть ближнего и обосрать нижнего.
Мне кажется, что «курятник» этот не сломан и сегодня… Но какое дело до него и его обитателей фрилансеру, занятому непрерывным процессом, который всякие масштабы и явления рассматривает по мере их изменчивости.
Они придут и уйдут…
И в 1980 году люди писали разные тексты, издавали газеты, журналы, книги. Наверное, наша страна была впереди человечества по количеству не только изданных, но и прочитанных книг. В комитетах партии были отделы пропаганды и агитации, в творческих союзах писателей – бюро пропаганды художественной литературы, работало общество «Знание» … Книги и газеты издавались миллионными тиражами.
И скорей, начитавшись, с пелёнок,
В комсомол сразу, миленький, жарь!
И смеется в райкоме тварёнок,
Превращаясь в пузатую тварь…
Писал я, раздумывая над содержанием и тиражами партийных изданий, осознавая, что накапливаю плохую карму. (Сегодня все «герои» этого четверостишия члены «Единой России» и персональные пенсионеры, не знавшие никогда трудовых мозолей).
Обложенный БСЭ (большой советской энциклопедией), неизменным атрибутом всякой редакции, я перечитывал том за томом, попутно проглатывая материалы всех Аграновских – Абрама, Валерия, Анатолия, а также – Кольцова, Овечкина, Гроссмана и других мэтров советской журналистики. Чем больше читал, тем яснее понимал, что журналисты и писатели страны – особая каста приближённых к партии, так сказать спецназ для одурачивания народных масс. По одиночке не столь опасны, но вместе – оружие массового поражения.
Но, несмотря на громадное количество литературы, страна, видимо, ещё не вся была охвачена нужной руководству КПСС пропагандой. Осенью 1980 года редактора газеты, в которой я работал, внезапно вызвали в областной комитет партии и предложили ему ехать в соседний район, где надо было создать типографию и редакцию. Оказывается, там они были закрыты чуть ли не в годы войны…
Он согласился и предложил мне ехать с ним.
Так я впервые попал в национальный округ, об особенностях которого до этого не имел совершенно никакого представления. Для меня все люди всегда и во всём были равны. Кстати, я и сейчас так считаю, хотя действительность доказывает обратное.
Выехал я 1 декабря 1980 года.
На новом месте нас было всего двое – редактор и я. Оглядевшись, я увидел ухоженный по тем временам посёлок в окружении сопок и тайги. Местность была живописной, люди – тоже, более того все они показались мне доброжелательными и гостеприимными.
После моего приезда, редактор дал мне какие-то указания и выехал в область. Я остался посреди заснеженного двора, где стояли два пустующих и полуразваленных дома дореволюционной постройки. Постояв немного, отправился в хозяйственный магазин покупать веник, совок и ведро: надо было обживать маленькую комнату в одном из домов. Мы выбрали бывшую столовую, длинное здание, ставшее впоследствии общежитием редакции.
С этого дня мы и начали создавать новую организацию. Ныне там одна из лучших районных типографий и газет Восточной Сибири. Я начинал его строить с уборки заледеневшего говна в разрушенном здании в начале декабря 1980 года, с уборки территории, с вывоза мусора, брёвен из тайги, распила их на пилораме, приёма рабочих… Появились люди, со временем организовался коллектив.