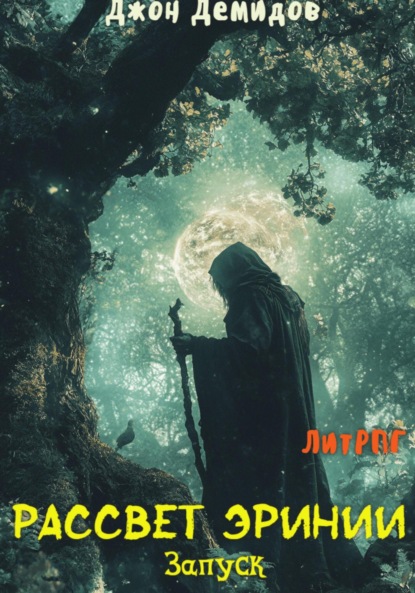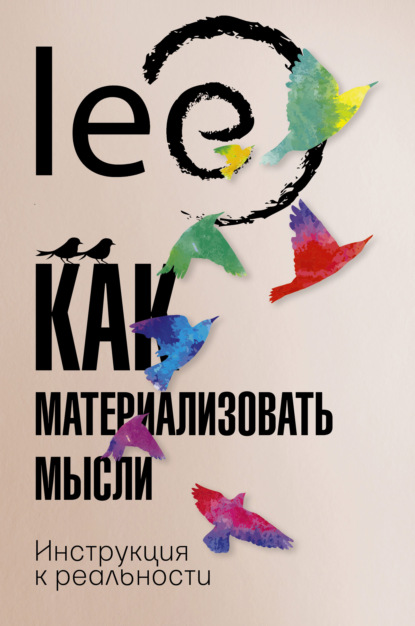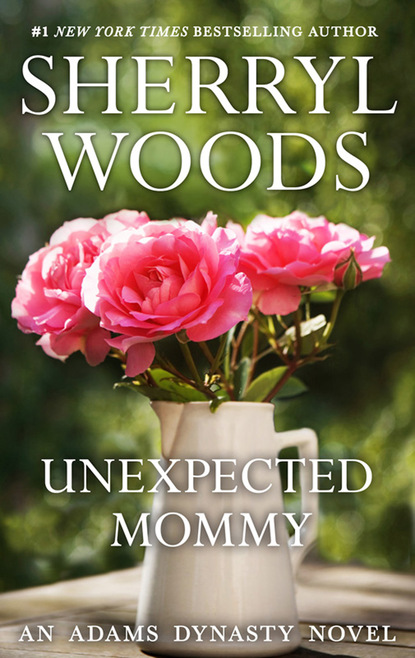Обретение святых – 2024
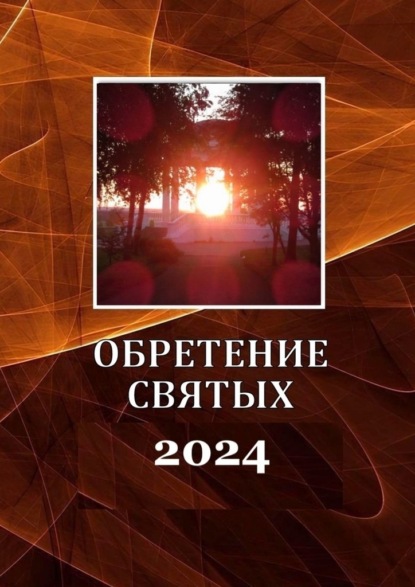
- -
- 100%
- +

Авторы: Балыбердин Александр, Мусихин Алексей Леонидович, Плетенев Алексей Петрович, Дмитриев Леонид Евгеньевич, Горев Евгений Игоревич, Кочин Глеб Александрович, Орлов Максим Александрович, Шульмин Александр Сергеевич, Казаков Дмитрий Николаевич, Чебыкина Лия Васильевна, Шевелева Надежда Викторовна, Степанова Анастасия Алексеевна, Васильев Геннадий Никандрович, Шумилов Евгений Николаевич
© Александр Балыбердин, 2025
© Алексей Леонидович Мусихин, 2025
© Алексей Петрович Плетенев, 2025
© Леонид Евгеньевич Дмитриев, 2025
© Евгений Игоревич Горев, 2025
© Глеб Александрович Кочин, 2025
© Максим Александрович Орлов, 2025
© Александр Сергеевич Шульмин, 2025
© Дмитрий Николаевич Казаков, 2025
© Лия Васильевна Чебыкина, 2025
© Надежда Викторовна Шевелева, 2025
© Анастасия Алексеевна Степанова, 2025
© Геннадий Никандрович Васильев, 2025
© Евгений Николаевич Шумилов, 2025
ISBN 978-5-0068-4237-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Балыбердин А., прот. (Киров) КЕМ БЫЛИ ПРЕДКИ ВЯТЧАН?
Глава из книги «Загадки Вятки»
Даже, если «Сказание о вятчанах» и «Повесть о стране Вятской» полны ошибок и откровенных небылиц, это ещё не повод их отвергать. Просто надо отделить начальный красочный слой от поздних напластований, историческую правду от неизбежных фантазий, вымыслов и домыслов.
Тем более что сообщение «Летописца старых лет», на которое они опираются, при всей своей краткости очень информативно. Давайте ещё раз напомним о нём: «24 июля 1181 года жители Великого Новгорода пришли в пределы Вятской земли и овладели городом прозванным Болваном, который ныне называется Микулицыно».
Конечно, вслед за Александром Андреевичем Спицыным (1858—1931) мы можем спросить, «каким удивительным стечением обстоятельств могло сохраниться известие о том, что именно 24 июля 1181 года был взят Никулицын?». Вопрос в самом деле уместен. Ведь между этим событием и временем, когда оно было записано, прошло без малого пять веков. Ответить на него мы пока не можем. Поэтому не будем умножать число гипотез и попробуем ответить на другие, не менее интересные вопросы:
1. Почему новгородцы пришли именно на Вятку?
2. Почему решили овладеть Болванским городком?
3. Почему это сражение состоялось именно 24 июля?
Возможно, кто-то скажет, что это произошло случайно. На что я отвечу: «Не верю!». Хотя бы потому, что в те времена люди ничего просто так не делали. Жизнь была слишком трудна, сил и ресурсов не хватало, поэтому каждый шаг приходилось просчитывать заранее. В том числе путешествие из Новгорода на Вятку длиной в три тысячи вёрст, которое даже при самом благополучном раскладе должно было продлиться более месяца. В течение всего этого времени надо было чем-то питаться, останавливаться на ночлег, сохранить себя и товарищей от диких зверей и разбойных людей.
Сегодня, собираясь в далёкую поездку, мы стараемся продумать всё до мелочей. Хотя нам не нужно прокладывать маршрут так, чтобы не сбиться с пути и не умереть с голода. Для чего достаточно взять с собой лишь банковскую карту. Всё остальное можно приобрести в пути – от хлеба и сланцев до билета на самолёт и брони в гостинице. Восемь веков назад было иначе. Не было железных дорог, автобанов и аэропортов. Дорогами служили реки, передвигаться по которым приходилось без лоций и карт, полагаясь на память и совесть проводника, который мог сбиться с пути и завести в непроходимые дебри.
Однако не будем без меры сгущать краски и представим, что нам всё же удалось достичь цели и основать поселение. Тем временем, пока мы путешествовали, лето закончилось. Вместе с ним закончились и все припасы. Как не умереть с голода? Где взять хлеб, если урожаи малы, и купить его у местных племён не получится, так как они сами еле сводят концы с концами? Как хозяйствовать на новом месте, если нет ни семян, ни готовых посевных площадей, особенности климата и почвы неизвестны, и никто не хочет нам помочь?
Ушкуйникам было проще – они не скрывали своих намерений, грабили «всё и вся» и затем торопились скорее вернуться домой. Но, если мы пришли не грабить, а жить, то отмахнуться от этих вопросов не получится. Поэтому не удивительно, что участники похода 1181 года заранее продумали все детали и приняли все меры к тому, чтобы их долгое и опасное путешествие не закончилось провалом.
Почему Вятка?
Отвечая на этот вопрос, как правило, вспоминают о богатствах Сибири, один из путей в которую лежал через Вятский край. Однако одно дело – воспользоваться рекой Вяткой для путешествия в Сибирь, пройти и исчезнуть, и совсем другое – прийти и поселиться на её берегах.
Почему же для своей колонии новгородские переселенцы выбрали земли, расположенные между устьем Чепцы и устьем Моломы? Не потому ли, что они расположены точь-в-точь на широте Великого Новгорода? Судите сами: координаты Детинца Новгородского кремля 31°16» восточной долготы и 58°31» северной широты. При этом Хлынов расположен на широте 58°36», Никульчино – 58°34», Орлов – 58°31», Котельнич – 58°17» северной широты.
В связи с чем уместно предположить, что новгородцы, преодолев три тысячи вёрст по северным рекам, намеренно пришли на свою географическую широту, на которой солнце движется точно по такой же траектории, как в их городе. Из-за чего Новгород и Вятка освещаются одинаково. Поэтому и вегетативный период развития растений, который зависит от освещённости, в обоих регионах примерно одинаковый. Что должно было позволить переселенцам выращивать хлеб и другие культуры на новом месте в те же сроки и с помощью тех же технологий, как на родине.

Интересовало ли это ушкуйников? Ничуть! Речные пираты грабили поселения на любой широте. При этом после набега они немедленно меняли дислокацию, чтобы пострадавшие не собрались с силами и не отняли награбленное. Если бы пираты решили основать или сделать своей базой какой-либо город, он немедленно привлёк бы внимание ограбленных племён, стал бы целью мести и грабежа. Другое дело – земледельцы, кровно заинтересованные в том, чтобы максимально облегчить выживание на новом месте, и для этого поселиться на своей географической широте.
Как новгородцы могли догадаться, что средняя Вятка находится на широте их родного города? Очень просто – по солнцу, наблюдая за его движением вдоль горизонта. Например, пока в течение семи лет жили на соседней Каме. О чём в «Повести о стране Вятской» сказано: «И, дойдя до реки Камы, построили небольшой городок. Здесь они услышали о реке Вятке и о живущих на её берегах народах чуди и вотяках, что те владеют многими землями и угодьями и, опасаясь нападения русских племён, окружают свои жилища рвами и земляными валами. Между тем занимаемые теми народами земли удобны для поселения, и завоевать их не трудно».
«Удобны для поселения». О том, что скрывается за этими словами, книжник умолчал. Однако, что может быть «удобнее», чем привычно хозяйствовать на новом месте, как у себя дома? Поскольку же земли по берегам Чепцы и Вятки уже были заняты вотяками, новгородцы решили на них напасть, отобрать зерно, разорить поселения, захватить поля и на них хозяйствовать. Возможно, кто-то скажет, что «влезть в головы» новгородцев всё равно не получится, и это не более чем гипотеза. Не будем спорить. Лишь заметим, что дальнейшие события оправдали эту гипотезу сполна.
Почему 24 июля?
Летом 1181 года передовой отряд новгородцев поднялся по Каме, вошёл в Чепцу и стал продвигаться вниз по течению, «пленяюще отяцкие жилища и окруженныя земляными валами ратию вземлюще и обладающе ими». Когда начался и как долго продолжался этот поход? Летописцы об этом не сообщают. Однако известно, что решающее сражение за Болванский городок состоялось в день памяти святых Бориса и Глеба 24 июля (ст. стиля).
Чепца невелика. Пройти её можно всего за несколько дней. В связи с чем уместно предположить, что вторжение началось в середине июля. При этом в «Сказании о вятчанах» о разорении чепецких поселений ничего не сказано. В нём новгородцы сразу оказываются под Болванским городком. Почему автор «Повести» решил дополнить рассказ такими подробностями? Возможно, потому что, регулярно бывая в этих местах, где у Семёна Поповых были земли и работавшие на них крестьяне – «половники», он не раз слышал подобные легенды и предания.
Так или иначе, разорение вотяцких поселений, в ходе которого пришельцы присваивали себе часть нового урожая, выглядит важной частью их плана. Иначе ближайшей зимой колонистам пришлось бы пережить лютый голод.
Чтобы этого избежать, сегодня мы отправились бы в магазин или на рынок, чтобы купить излишки зерна. Однако восемь столетий назад уровень земледелия был не так высок, и приобрести зерно было сложно и даже порой невозможно. Тем более почти в «промышленных масштабах» – на целую колонию. Оставалось одно – попытаться забрать зерно силой. Например, во время страды, когда часть урожая уже убрана, и зерно засыпано в житницы. Что новгородцы и сделали, напав на поселения вотяков во второй половине июля, когда на Чепце шла уборка зерновых.
При этом незваные гости поставили местных жителей перед выбором: прервать работы, выйти из полей и дать пришельцам отпор, но при этом остаться без хлеба, или же продолжить уборку и пропустить грабителей через свои земли, понадеявшись, что они уйдут восвояси.
Судя по тому, как проходило вторжение, вотяки выбрали второй вариант и решили пропустить новгородскую дружину сквозь свои владения. Но они жестоко ошиблись, так как незваные гости пришли на берега Вятки не для того, чтобы пограбить их и уйти, но чтобы на них поселиться.
Окончательно это стало ясно лишь, когда, «исплыв» Чепцу и дойдя до Болванского городка и Никулицкого мыса, пришельцы сошли на берег и стали готовиться к сражению. Почему они не прошли мимо? Разве мало на берегах Вятки подобных мест – удобных для поселения мест и при этом никем не занятых, за которые не пришлось бы сражаться и проливать кровь? Зачем пришельцам понадобились именно Никулицкий мыс?
Почему Болванский городок?
Согласно «Повести о стране Вятской» новгородцы не смогли пройти мимо Болванского городка потому, что он стоял на очень красивой и высокой горе. О чём сказано: «Завершив плавание по реке Чепце, новгородцы вошли в великую реку Вятку и, спустившись по ней немногим более пяти вёрст, на правом берегу, на высокой красивой горе увидели чудской город, окружённый земляным валом и перед ним ископанным рвом, от реки же Вятки защищённый глубоким оврагом, который местные чудские племена называли Болванским городком, а ныне его называют Никулицыно по реке Никуличанке.
Увидев тот город на красивой высокой горе, новгородцы захотели взять его с боем и дали обет своим прародителям, великим российским князьям страстотерпцам Борису и Глебу, что будут поститься, ни есть, ни пить до тех пор, пока не получат тот Болванский чудской городок во владение и не поселятся в нём».
Очевидно, что столь подробное описание Никулицкого мыса могло быть составлено тем, кто видел его воочию. При этом, оказавшись рядом, легко понять, что ценность этого мыса не только в красивых видах, что открываются с его вершины. Его высокие и отвесные склоны практически неприступны, благодаря чему местные племена испокон веков использовали Никулицкий мыс в качестве дозорного пункта и военной заставы.
Если же вспомнить, что в те далёкие времена реки были дорогами, то значение такой заставы трудно переоценить. Поскольку выше неё по реке Вятке находятся устья Летки и Кобры, по которым издавна приходили на Вятку жители северных земель. И всё же это лишь видимая сторона айсберга, большая часть которого скрыта под толщей воды.
Вид с реки Вятки на Никулицкий мыс и место бывшего Болванского городка
Название «Болванский» напоминает о том, что городок на Никулицком мысу был не только логистическим, но также культовым центром. «Болванами» в те времена называли идолов, которых в нашем лесном краю вырезали из дерева и ставили на «капище», чтобы перед ними принести в жертву быков, овец, птиц и других животных. При этом часть туши сжигали на костре, а другую выносили на «требище», чтобы собравшиеся на моление люди могли подкрепиться.
Если у христиан богослужения связаны с событиями в земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых, то языческие (народные) моления были связаны, как правило, с земледелием и совершались в особых местах, считавшихся «богоизбранными», словно специально созданными для таких священнодействий.
Одним из таких мест был Никулицкий мыс, с вершины которого в течение всего года местные жители могли наблюдать за солнцем и согласовывать с этими наблюдениями сроки полевых работ. Примерно также, как в наши дни садоводы вглядываются в небо, не село ли солнце в тучу, считая, что это предвещает ненастье.
В таких наблюдениях нет ничего сложного. Достаточно знать, что в течение календарного года (солярного цикла) в каждой точке горизонта солнце всходит дважды. Первый раз при движении вдоль линии горизонта справа налево (с юга на север). Второй раз при движении слева направо (с севера на юг). При этом каждая точка имеет свой азимут, которым называют угол между направлением на север и на предмет. В данном случае на солнце.
На широте г. Кирова солярный цикл начинается 22 декабря (здесь и далее – нового стиля), когда солнце всходит в крайней правой точке горизонта с азимутом 139°. В наши дни эта точка находится примерно на середине отрезка между Кирово-Чепецким химкомбинатом и местной ТЭЦ.
После чего восходы солнца начинают смещаться вдоль горизонта влево (к северу) и 22 марта, в день весеннего равноденствия, достигают точки с азимутом 90°. Определить её положение легко, даже без использования специальных приборов. Она находится на перепаде высот, образованных высоким берегом, на котором расположен г. Кирово-Чепецк, и поймой реки Вятки. Согласно многолетним наблюдениям именно в этот день в нашей местности начинает таять снег, напоминая крестьянину о приближении весеннего сева.

Конечно, определить время посевной можно и другими способами. К тому же весна на весну не приходится. В среднем, это первые числа мая. О чём вятские земледельцы и садоводы знают не понаслышке, и потому все майские праздники проводят в трудовых подвигах в полях и на приусадебном участке.
При этом примечательно, что вершиной Никулицкий мыс обращён к точке горизонта с азимутом 56°, в которой солнце всходит именно в этот промежуток времени, а именно 7 мая. Найти её на линии горизонта просто. Для этого надо мысленно разделить мыс пополам прямой линией и провести её до пересечения с горизонтом. Затем встать пораньше, прийти на вершину мыса и встретить рассвет. Если солнце взойдёт от места пересечения справа – значит, можно ещё подождать. Если слева – значит, пришло время весеннего сева.
Как долго длится посевная? Это зависит от множества факторов, в первую очередь, от погоды. Однако в любом случае его следует закончить до того, как, продолжая движение вдоль линии горизонта, солнце спрячется за лесной массив, расположенный возле посёлка Боровица на правом берегу Вятки. Словно после посевной ему захотелось немного отдохнуть. Там 22 июня, в день летнего солнцестояния (солноворота), в точке с азимутом 40° солнце «развернётся» и поспешит в обратном направлении. С этого момента восходы будут смещаться вправо (к югу). Это время сенокоса, сбора грибов, лекарственных растений и трав.
Наконец, 6 августа солнце достигнет известной нам точки с азимутом 56°, к которой Никулицкий мыс обращён своей вершиной. Это означает, что приблизилась жатва, уборка зерна и прочего урожая, которую следует завершить до дня осеннего равноденствия – 22 сентября, в который солнце снова взойдёт в точке горизонта с азимутом 90°. После чего к 22 декабря солнце «докатится» до крайней правой (южной) точки горизонта с азимутом 139°, развернётся и даст начало новому календарному году.
Конечно, Никулицкий мыс в этом не уникален. На Вятке немало мест, с которых можно вести подобные наблюдения. В черте современного города Кирова таких возвышенностей можно насчитать более десяти. И всё же есть одна деталь, на которую, в контексте разговора о битве за Болванский городок, нельзя не обратить внимание. Настолько это совпадение примечательно. Дело в том, что 6 августа нового стиля – это 24 июля старого стиля, день, в который новгородцы решили овладеть Болванским городком. И это многое объясняет.
Во-первых, это объясняет, почему решающая битва за Никулицкий мыс произошла именно в этот день и в этом месте. Уместно предположить, что, зная об особенностях этого мыса, перед началом страды вотяки пришли в расположенный на нём Болванский городок, чтобы испросить помощи у высших сил. Конечно, у них были и другие культовые места. Однако тот факт, что 24 июля 1181 года солнце должно было взойти точно напротив Никулицкого мыса, не мог не придать молению особое значение. Что, вероятно, привлекло паломников не только из соседних поселений, но также из дальних мест, в том числе с берегов Чепцы.

Во-вторых, это объясняет, почему в «Повести о стране Вятской» (см. фрагмент) ничего не сказано о том, что вотяки попытались оказать пришельцам сопротивление. Сначала они затворились в своём городке, а затем, под натиском новгородцев, «по лесам разбегошася». Известно, что входить в храмы и другие сакральные места с оружием нельзя. Вероятно, на моление в Болванском городке вотяки также пришли безоружными.
В-третьих, это объясняет, почему перед штурмом новгородцы «заповедаша всей дружине своей поститися, ни ясти, ни пити». Очевидно, что перед сражением безоружным вотякам оставалось лишь одно – надеяться на помощь высших сил и для этого усиленно молиться, жечь костры и приносить жертвы своим «богам», которые в понимании христиан являлись «бесами». О чём Псалмопевец писал: «Яко вси бози язык – бесове» (Пс. 95:5). В Синодальном переводе об этом будет сказано менее резко: «Ибо все боги народов – идолы». Но этот перевод появится только спустя семь веков.
При этом христиане знают, что победить беса можно только одним оружием – «молитвою и постом» (Мф. 17:17). Поэтому, когда новгородцы увидели и услышали, как вотяки стали призывать на помощь своих «богов», пришельцы наложили на себя строгий пост и стали молиться святым Борису и Глебу, на память которых выпало решающее сражение.
Сегодня мы знаем, что надежды вотяков не сбылись, и незваные гости, «вельми жестоко и сурово» приступив к Болванскому городку, смогли им овладеть. Приписав победу не себе, но Богу и своим небесным покровителям. Что же касается вставки о святом князе Александре Невском, которого новгородцы призывали на помощь, хотя тогда он ещё не родился, то нелепость её очевидна. Однако это не повод отвергать само событие.
Куда более важно задуматься о том, насколько уместной была сама молитва о победе над вотяками, виноватыми лишь в том, что пришельцам приглянулись их земли? А также о том, надо ли сегодня, когда народы Вятского края уже много лет живут в мире и согласии, вспоминать «подвиги» и обиды предков и тем самым вольно или невольно противопоставлять один народ другому? Думаю, ответ очевиден – не надо.
Кем были предки вятчан?
Задавшись вопросом, кем были предки вятчан, мы совершили путешествие вглубь веков. Путеводной звездой в нём служили старинные рукописи, которые, при всех разночтениях, едины в том, что первыми на Вятку пришли выходцы из Великого Новгорода, проложившие путь жителям других русских земель. Кем они были и зачем пришли в Вятский край? Однозначного ответа на эти вопросы рукописи не дают. Поэтому любые попытки «назначить» предками вятчан ушкуйников, беглых холопов или благочестивых «самовласцев» следует признать неубедительными.
Вместе с тем, совершенно не доверять этим рукописям мы не можем. Особенно краткому сообщению «Летописца старых лет» о взятии новгородцами Болванского городка 24 июля 1181 года. При всей неясности того, как память об этом событии могла сохраниться на протяжении пяти веков. В чём, возможно, важную роль сыграл Никулицкий крестный ход, участвуя в котором, хлыновцы вспоминали своих далёких предков и их решительный «наход».
При этом обстоятельства похода 1181 года подсказывают, что его участники были не ушкуйниками, а земледельцами и выбрали среднюю Вятку неслучайно. Но потому что земли между устьями Чепцы и Моломы находились на широте Новгорода Великого, что позволяло пришельцам выращивать хлеб и хозяйствовать, как у себя дома.
Понимая, что коренные жители Вятской земли будут этому не рады, новгородцы пришли на их земли с мечом. Что с высоты сегодняшнего дня представляется ошибкой, поскольку покорённые народы не забыли нанесённых им обид. Следовало ли незваным гостям поступить иначе – не стеснять местных жителей, не разорять их поселения и не захватывать их земли? Да, следовало. Могли ли они так поступить? В те времена, в той ситуации и тех условиях? Ответа на эти вопросы история не даёт.
Обратившись к рукописям, созданным во второй половине XVII – начале XVIII в., мы видим, что для их авторов подобные вопросы вообще не стояли. Они всячески воспевают подвиги предков вятчан и не испытывают к обиженным ими народам ни капли сострадания. С чем сегодня никак нельзя согласиться, так как мы давно привыкли считать все народы Вятской земли братскими. Однако следует помнить, что так было не всегда, и, если мы утратим чуткость в этом вопросе, то неизбежно откатимся назад.
Чтобы этого избежать, надо учиться видеть в истории повод не только для гордости, но также для признания ошибок и покаяния. Как в старину это делали участники Никулицкого крестного хода, которые, отправляясь в путь, брали с собой воинские стрелы и по возвращении в родное село обменивали их на церковные свечи. Напоминая себе и другим о том, что подлинное единство основано не на оружии, а на братской христианской любви. Хорошо бы и нам усвоить этот урок.
Тем более что для объединения людей у христианства есть всё необходимое. Конечно, если не низводить его до обычной племенной религии, призванной оправдать победу одного народа над другим. Потому, что чужаки молятся не стоя, а сидя или поклоняются не сосне, а берёзе. Независимо от этого христианство учит в каждом человеке видеть ближнего и любить его, как самого себя. В то время как племенные культы чётко делят людей на своих и чужих и учат первых любить, а вторых ненавидеть.
Поэтому вряд ли мы ошибёмся, сказав, что несмотря на все ошибки предков, в итоге именно христианство смогло объединить народы Вятской земли и принести им мир, путь к которому был непрост и тернист. Тем более следует ценить его и беречь.
Мусихин А. Л. ЕПИХОВ ПОТОК: ИМЯ НА КАРТЕ ГОРОДА КИРОВА
Большинство из тех, кто постоянно проживает в г. Кирове, знает о существовании родника, который вытекает из левого склона оврага Засора в квартале между улицами Ленина и Казанской. Он даже отмечен на онлайн Яндекс-карте. К нему устроен лестничный спуск, а над самим родником сделан грот из камней. Этот родник существует много столетий, и отмечался на планах города конца XVIII—XIX вв. Но, вероятно, немногие знают, что в XVII—XVIII вв. у этого родника имелось собственное имя.
В «Повести о стране Вятской» есть рассказ о том, как поселившиеся на Болясковом поле бывшие новгородцы начали укреплять основанный ими город Хлынов от нападений врагов. Вот небольшой фрагмент этого рассказа: «И егда во граде умножишася людие, и поселились свободно, и от тогда, боящеся нашествия супостат, поставили острог кругом всего посаду, наченше с полуденной стороны от глубокова рва, где ныне выше винокурни словет Епихов поток» [1, с. 647, 654].
Епихов поток (на снимке) и есть этот родник. Я уже приводил аргументы в пользу этого положения [1, с. 27—28]. Действительно, Епихов (Епиховский) поток (ключ) неоднократно упоминается в документах начиная с ноября 1675 г.: «За Большим городом, что была преже сего Епиховская баня за Епиховским ключем» (1675 г.); «в Хлынове на посаде под горою у Засоры реки… по прохожей улице,… что ходят на поток на Епиховской ключ» (1684 г.); «в Хлынове на посаде за кузницами и у Епиховского потоку в межах от городовые земляные стены» (1686 г.); «в Хлынове на посаде под горою у Засоры реки,… что ходят на Епихов поток» (1693 г.); «в Хлынове на посаде у Епиховского потоку» (1694 г.) [2, Ф. 615. Оп. 1. Д. 2140. Л. 330—330об.; Там же. Д. 2141. Л. 517об.; Там же. Д. 2142. Л. 516об.; Там же. Д. 2147. Л. 376об.; Там же. Д. 2148, Л. 149.].