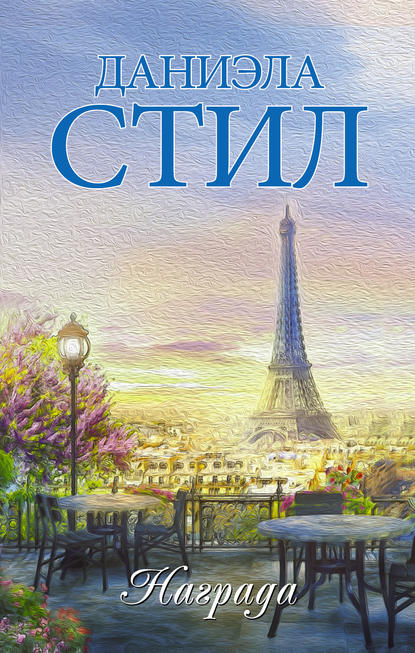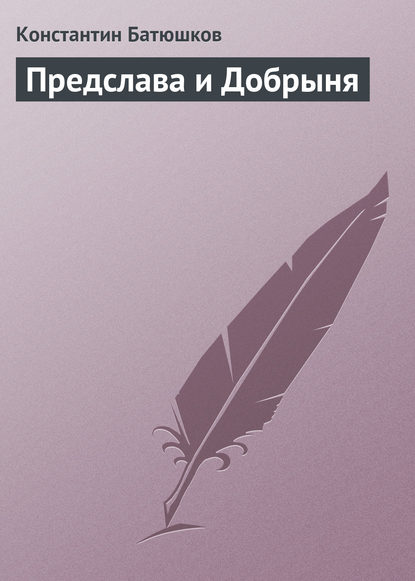Большевики. Криминальный путь к власти

- -
- 100%
- +
Герману и Антонине Григорьевне удалось убедить власти. 31 марта 1895 года Леонида Борисовича освободили из тюрьмы. И последний, как и подобает настоящему революционеру, тут же забыл о собственной недавно принятой присяге.
Осенью 1897 года Харьковский технологический институт принял Красина на третий курс химического факультета. Продолжая обучение, он продолжал и участие в студенческих волнениях. Это обернулось тем, что, закончив институт в июне 1900 года, Красин получил диплом только год спустя.
И опять же, задержка не помешала Красину, получив приглашение от бывшего однокурсника по Петербургскому технологическому институту Классона, выехать из Харькова в Баку для работы в только что созданном акционерном обществе «Электросила».
В конце июня того же 1900 года Леонид Борисович приезжает в Баку, где руководит постройкой электростанции «Электросила», а заодно организовывает крупную нелегальную типографию «Нина», на которой печатается газета «Искра».
Необходимость добывать деньги для «Нины» побуждала Красина совершать нестандартные шаги.
«Немалые деньги добывались путем организации музыкальных и вокальных вечеров и показов спектаклей в домах нефтепромышленников и торговцев. На них, как правило, приходили богатые покровители всяческих искусств, каждый из которых платил за вход по 50 рублей, вовсе не зная, куда пойдут деньги. Однако Красин организовывал вечера, концерты и спектакли не только для избранной публики, но и для многочисленных аудиторий, приглашая артистов из других городов. Здесь нелишне вспомнить о двух бенефисах в Баку в январе 1903 г. В. Ф. Комисаржевской, причем одно из выступлений состоялось в доме начальника полиции. Актриса заработала для подпольной прессы несколько тысяч рублей. Кроме того, Красин устраивал аукционы, организовывал чтение лекций, проводил лотереи…» (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 51.)
Говоря здесь о легальных финансах, надо заметить, что еще летом 1902 года видный деятель российского и германского социал-демократического движения Израиль Лазаревич Гельфанд, более известный как Александр Парвус (1867–1924), основал агентство, которое занималось охраной авторских прав российских литераторов. Одним из таковых был М. Горький (1868–1936), чьи произведения произвели фурор в Европе. Успех настолько вдохновил Парвуса, что тем же летом 1902 года он рискнул совершить краткую нелегальную поездку в Россию. На берегу Черного моря, в районе Севастополя Парвус и Горький заключили соглашение: Горький поручал Парвусу оберегать свои авторские права в Европе, за что Израилю Лазаревичу полагалось 20 % от суммы, вырученной по каждому контракту. Самого Горького устроила одна четверть от оставшегося, остальное же должно было передаваться в кассу большевистского крыла РСДРП. (Сикорский Е. А. Деньги на революцию: 1903–1920. С. 165.)
Вскоре на подмостках театров Германии с большим успехом прошла пьеса Горького «На дне», которая только в Берлине выдержала более 500 постановок.
Позднее, однако, выяснилось, что никто, кроме Парвуса, никаких денег не получил. По жалобе Горького, в начале 1908 года дело о мошенничестве Парвуса рассматривал третейский суд в составе видных германских социал-демократов А. Бебеля, К. Каутского и К. Цеткин. Парвус был морально осужден. Этот скандал заставил его перебраться сначала в Вену, а затем и вовсе в Турцию, где летом того же 1908 года был свергнут султан Абдул-Хамид II.
Вышесказанное демонстрирует явную преувеличенность рассказов советских историков об огромных инвестициях Горького.
Возвращаясь к Красину, отметим, что Леонид Борисович пошел на контакт с конкурирующими «революционными» организациями. Кроме «Искры», в типографии «Нина» печатали газету «Южный рабочий», а с сентября 1901 года – газету на грузинском языке «Брдзола» (Борьба). Передовая статья первого номера последней принадлежала двадцатидвухлетнему Иосифу Джугашвилли. Эта статья является первой известной политической работой И. В. Сталина (1878–1953).
В 1904 году Красин, через посредство старого революционера Н. М. Флерова, устанавливает связь с Горьким, который к тому времени уже был в дружеских отношениях с крупным предпринимателем и меценатом Саввой Тимофеевичем Морозовым (1862–1905).
В результате усилий Горького Красин входит в окружение Морозова, переезжает летом 1904 года из Баку в Орехово-Зуево, где руководит модернизацией электростанции на фабрике Саввы Тимофеевича.
Перебравшись ближе к центру Российской империи, что облегчало «общение» с ЦК, и став во главе БТГ, Красин добивается значительных успехов.
Историк Т. О. Коннор: «Одной из причин переподчинения БТГ ЦК являлась необходимость распространения ее деятельности за пределами Петербурга. Красин создал по всей империи обширную сеть организаций, занятых производством, покупкой, транспортировкой и хранением взрывчатки и оружия. БТГ имела прочные связи с социал-демократами Москвы, Киева, Урала, Закавказья и Прибалтики, снабжая их вооружением и готовя к восстанию против правительства». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 74.)
Но особо важным «оперативным районом» стала Финляндия, имевшая во многих отношениях исключительное положение в Российской империи, где Охранное отделение так и не сумело наладить такой же полномасштабный и эффективный контроль, как в других регионах. Высокопоставленные финские чиновники, включая полицейских и таможенников, сочувствовали освободительному движению. В частности, заместитель полицмейстера Гельсингфорса (Хельсинки) оказывал революционерам неоценимые услуги, предупреждая о готовящихся арестах и способствуя переправке через границу людей и нелегальных грузов.
Гельсингфорс вообще стал важнейшим центром деятельности БТГ, а ее главной опорной базой – Гельсингфорсский университет. Через своих людей в университете БТГ отправляла и получала корреспонденцию, используя секретные коды, шрифты и симпатические чернила, добывала паспорта и другие документы для выезда за границу, устраивала конспиративные квартиры для размещения революционеров на пути из Западной Европы в Россию и обратно.
БТГ доставила в Петербург «северным путем» из Финляндии довольно значительное количество взрывчатки и огнестрельного оружия. Однако для масштабного вооруженного восстания всего этого было недостаточно.
Надо сказать, что Красин непрерывно совершенствовал технику конспирации: все члены БТГ имели клички и пользовались такой системой связи, при которой арест одного из них не должен был повлечь провала всей группы.
Сам Леонид Борисович, дорожа своим легальным положением, пользовался сразу несколькими кличками: «Никитич» (самая известная), «Финансист», «Зимин», «Винтер», «Иогансен», «Николаев», а также «Лошадь» – из-за своей непреодолимой тяги к тотализатору.
Однако совершенствовалась не только конспирация. Не довольствуясь закупками динамита в Финляндии, Красин приказал химикам наладить производство взрывчатки в самом Петербурге.
Леонид Борисович располагал превосходными экспертами по вопросам взрывчатых веществ. Одним из членов боевого технического бюро в «старой столице» был знаменитый руководитель Московской обсерватории профессор Павел Карлович Штернберг, другим – будущий нарком образования и член Политбюро Андрей Бубнов, ходивший в «боевых технических» акциях под кличкой Химик. (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 45.)
В дополнение к этому еще в начале 1905 года в Болгарию отправился М. Н. Скосаревский (партийная кличка «Омега»), химик по образованию, чтобы получить консультацию у известного анархиста и мастера по изготовлению бомб Наума Тюфекчиева, жившего в Македонии. В мае Скосаревский вернулся в Петербург с необходимыми светокопиями, таблицами, графиками и инструкциями по производству бомб в чугунной оболочке. БТГ немедленно организовала производство ручных гранат по модели Тюфекчиева, названных «Македонец» (так в тексте русского перевода; такая ручная граната называлась «Македонка». – Ю.Б.). (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 73.)
Большевик Николай Буренин пишет о деятельности БТГ в Петербурге: «Мы решили открыть на Малой Охте, в одном из переулков, сплошь заселенном кустарями-ремесленниками – столярами, мебельщиками, гробовщиками, сапожниками, – мастерскую “по производству фотографических аппаратов”. На деле в этой мастерской изготовляли не фотографические аппараты, а динамит, пикросилин, гремучую ртуть». (Буренин Н. Е. Памятные годы. С. 58–59.)
В июле 1905 года БТГ была реорганизована и разделена на две подгруппы: «химическую», занятую производством взрывчатки, и «техническую», которой поручались доставка, транспортировка и хранение оружия, а также обучение дружин для вооруженного восстания. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 73.)
Сам Красин работал над усовершенствованием стрелкового оружия. Так, «он модернизировал знаменитую винтовку Браунинга, приспособив ее для боевых действий в условиях города. Для опробования новой взрывчатки и оружия БТГ нуждалась в полигоне. Игнатьев предоставил для этих целей свое поместье близ Гельсингфорса, где иногда сам Красин лично испытывал новые образцы бомб и стрелкового оружия, прежде чем запускать их в производство». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 75.)
Кстати, упомянутый Игнатьев (кличка Григорий Иванович) был сыном известного петербургского ветеринарного врача М. А. Игнатьева (1850–1919), получившего за свои заслуги чин действительного статского советника и правовой статус потомственного дворянства, и активно использовал имение своих родителей Ахи-Ярви, расположенное на Финляндской границе, в целях БТГ. (Пролетарская революция. Исторический журнал. № 1 (48). М.,; Л.: Государственное издательство, 1926. С. 131.)
Бомбы и «адские машины» от БТГ были столь хороши, что эсеры были поражены качеством большевистских взрывных устройств.
Созданные техниками БТГ бомбы использовались большевиками не только для проведения терактов, но и, путем продажи «коллегам», для пополнения партийной кассы, что в сочетании с «иностранными инвестициями» давало неплохие результаты.
Общая сумма средств, которыми в 1905 году располагала большевистская организация, была очень значительной. Так, не кто иной, как Красин, заявил профессору М. М. Тихомирову, скептически относившемуся к возможности собрать достаточное количество денег для вооружения боевиков: «Да совсем не в деньгах дело! У нас их столько, что я мог бы на них купить не жалкие револьверы, а самые настоящие пушки. Но как их доставить, где спрятать? Вот в чем дело». (Валентинов Н. Недорисованный портрет. С. 287.)
Водные приключения
Действительно, проблема была уже не в деньгах, их нужно было обратить в оружие и доставить его в Россию. А главное, и самое болезненное, – разделить между революционными организациями.
Тут, естественно, не обошлось без «революционных разборок». Так, Циллиакус предлагал передать львиную долю выделенных Токио средств на организацию вооруженного восстания, покупку оружия и доставку его в Россию – эсерам. Поляки, грузины и финны шли следом. Большевикам, по плану Циллиакуса, не доставалось ничего. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 124.)
Ленин, разумеется, был глубоко возмущен таким отношением собратьев по антиправительственной деятельности. Несмотря на это, «караван двинулся в путь».
«Покупать вооружение было тяжелой задачей, – вспоминал позднее Акаси. – Главным образом потому, что каждая партия предпочитала свой вид оружия. Рабочие по составу партии, как социалистов-революционеры и польские социалисты, не любили ружья. Напротив, финны и кавказцы, в рядах которых было много крестьян, отдавали предпочтение именно им». Действительно, купить десятки тысяч винтовок и револьверов, миллионы патронов к ним и несколько тонн взрывчатых веществ так, чтобы об этом никто не узнал, было весьма непросто. Еще сложнее было нелегально доставить все это из Западной Европы в Россию». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 133–134.)
Именно из-за технических сложностей вооруженные восстания в России начались не летом, а лишь зимой 1905 года. Да и зимние боевые акции стали возможными в основном потому, что Акаси в полной мере проявил свой талант агента разведки, который был в дальнейшем столь щедро вознагражден японским правительством.
Чтобы представить, о какого масштаба поставках идет речь, расскажем, например, о покупке 15 тысяч винтовок «Веттерли», незадолго до описываемых событий, снятых с вооружения швейцарской армии, и двух с половиной миллионов патронов к ним. Все это было приобретено агентами Акаси непосредственно на армейском складе в Базеле.
В интересах конспирации все расчеты были произведены наличными, причем в качестве покупателя выступал Г. Деканозов, которому Акаси загодя выдал необходимую сумму. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 135.)
В соответствии с контрактом перед отправкой оружие и боеприпасы сотрудники швейцарского арсенала упаковали самостоятельно. В середине июля вновь смазанные и запакованные в 2500 тысячи ящиков, эти винтовки по железной дороге Бо (агент Акаси. – Ю.Б.) переправил из Базеля в голландский порт Роттердам. Предприятие было сопряжено с большим риском – в случае разоблачения таможенные службы Швейцарии и Голландии имели все основания изъять этот груз. Скрытно переправить его было невозможно уже по одному тому, что для его перевозки понадобилось восемь железнодорожных вагонов. Но удивительным образом все обошлось. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 135–136.)
Следующим шагом было приобретение кораблей для перевозки смертоносного груза в Россию. Основной «грузовик» был куплен в Великобритании. Им стал пароход «Джон Графтон», покупку которого, за соответствующие деньги, оформил на себя лондонский виноторговец Роберт Дикенсон. Кроме того, были приобретены две яхты – «Сесиль» и «Сизн». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 138–139.)
«Треть винтовок и чуть более четверти боеприпасов, – сообщает Акаси, – предполагалось направить в Россию через Черное море, а остальные – в Балтику. С помощью торгового агента фирмы “Такада и К” и некоего англичанина эта часть оружия (по разным данным, 15,5–16 тыс. винтовок, 2,5–3 млн патронов, 2,5–3 тыс. револьверов и 3 тонны взрывчатых веществ) была перевезена сначала в Роттердам, а затем в Лондон, выбор которого как места базирования… объяснялся слабой работой здесь русской полиции. Сразу же стало ясно, что ранее купленные паровые яхты “Cecil” (Сесил) и “Sysn” (Сизн) слишком малы для транспортировки этого груза. Поэтому в экспедиции им была отведена вспомогательная роль, а при посредстве делового партнера “Такада и К” Уотта был приобретен главный перевозчик оружия – 315-тонный пароход “Джон Графтон”. Сразу же после покупки пароход был формально перепродан доверенному лицу Чайковского – лондонскому виноторговцу Р. Дикенсону, который в свою очередь 28 июля передал его в аренду американцу Мортону, при этом “Джон Графтон” был переименован в “Луну”. Стремясь еще больше запутать возможную слежку, устроители предприятия с помощью того же Уотта купили еще один пароход, “Фульхам”, который должен был вывезти оружие из Лондона и в море перегрузить его на борт бывшего “Джона Графтона”. Став собственностью некой японской фирмы, “Фульхам”, также получивший новое название (“Ункай Мару”), был снабжен документами, удостоверяющими его плавание в Китай». (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 244–245.)
Приготовления к плаванию удалось завершить к концу июля 1905 года. Смертоносный груз должен был быть выгружен в нескольких пунктах, в том числе близ Выборга. По плану организаторов, после выгрузки оружие должно было быть распределено между финскими, латышскими и эсеровскими боевиками, часть его должна была достаться рабочим из гапоновских организаций.
Зная о закупках на японские деньги оружия за границей, а также о том, что Ленину не удалось выговорить «долю малую» для большевиков, Красин подключился к охоте на груз «Джона Графтона».
Т. О. Коннор: «Красин попытался сделать так, чтобы вся партия оружия попала в руки большевиков. По его просьбе Буренин и Горький встретились в Финляндии с Гапоном, объяснили ему, насколько большевики нуждаются в оружии, и убедили передать их партии весь груз парохода. Красин рассчитывал направить судно к побережью Эстонии, где Литвинов приготовил ямы, чтобы спрятать оружие, прежде чем везти его в Петербург». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 76.)
Заметим, что этот замысел Леонида Борисовича, удайся он, неминуемо привел бы к прямой конфронтации не только с японской разведкой в лице полковника Акаси, но и с финскими, а главное – с эсеровскими боевиками – предполагаемыми получателями груза. Но – не случилось.
И еще обстоятельство: большевикам особенно трудно было рассчитывать на щедрость эсеров – главных бенефициаров операции японской разведки, после вышеупомянутой апрельской выходки Ленина на Женевской конференции. А нужда в оружии была несомненной, несмотря на все успехи красинской БТГ.
После нескольких неудачных попыток выйти на след «Джона Графтона» большевики вновь «раскололи» Гапона, который пообещал передать им часть смертоносного груза. Однако Рутенберг, которого эсеры направили в Петербург для организации встречи «Джона Графтона», не доверял Гапону и в последний момент лишил того доступа к информации о передвижении корабля.
Забегая вперед, сообщим, что «неуязвимый» священник Георгий Гапон был убит на даче близ станции Озерки в марте 1906 года боевиками-эсерами под руководством того самого Пинхуса Моисеевича Рутенберга (1878–1942), будущего лидера сионистского движения и создателя Американского еврейского конгресса, который помогал «мятежному попу» организовывать «Кровавое воскресенье» 9 января. Вполне возможно, что сдача Гапоном большевикам планов перевозки столь значительной партии оружия послужила дополнительным мотивом для убийства. Но, скорее, приговор был приведен в исполнение, что называется, по совокупности…
Еще одними незапланированными претендентами на оружие выступили финские «активисты», действовавшие без ведома Циллиакуса и решившие самостоятельно принять груз и распределить его по собственному усмотрению.
Известия обо всей этой революционной грызне дошли до Акаси, написавшего позднее в этой связи:
«Я очень тревожился, вполне ли понял капитан, где именно ему следует выгружаться». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 171.)
26 июля 1905 года «Джон Графтон» покинул Великобританию и 28-го числа бросил якорь в голландском Флиссингене. В тот же день старая (английская) команда сошла там на берег, а ее место занял новый экипаж. Это были 20 человек, в основном финны и латыши. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 171.)
Трюмы «Джона Графтона» были еще пусты. Его будущий груз ждал на пароходе «Фульхам».
На следующий день, 29 июля, суда встретились близ британского острова Гернси, где прямо в открытом море оружие и взрывчатка были перемещены на «Джон Графтон». Из-за шторма разгрузка-погрузка заняла полных три дня.
«Освобожденный от опасного груза “Фульхам” был тут же формально перепродан японской компании и под именем “Ункай-Мару” отправлен подальше – в Китай. А “Джон Графтон”, нагруженный оружием и боеприпасами, 1 августа двинулся в противоположном направлении – на север, имея конечным пунктом назначения Балтийское море. Формально корабль путешествовал уже как “Луна”, но старое название было замазано на его борту наспех и отлично читалось». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 172.)
Промежуточная остановка парохода была назначена на 14 августа в Копенгагене. Туда же из Англии направились и обе яхты, имея на своем борту небольшой дополнительный груз оружия. Однако из-за волнения на море «Джон Графтон» прибыл в столицу Дании лишь в 20-х числах августа.
23 августа 1905 года революционеры потеряли яхту «Сесиль», которая подошла к Выборгу и была обнаружена и задержана береговой охраной. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 174–175.)
Что же касается второй яхты «Сизн», то она, с самим Циллиакусом на борту, направлялась в Стокгольм, где финн рассчитывал забрать 300 маузеров и 200 винтовок, привезенных туда из Гамбурга, и встретиться с Акаси. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 175.)
Тем временем 9 (22) августа 1905 года в американском Портсмуте начались мирные переговоры делегаций России и Японии.
Невзирая на достигнутые успехи, Япония находилась в крайне затруднительном положении. Несмотря на одержанные победы, силы японской армии были близки к истощению. Понесенные японцами потери, а они, напомним, значительно превышали потери русских войск, было невозможно восполнить. Экономика страны была на грани полного развала.
В ходе переговоров Япония сняла все неприемлемые для России требования и 23 августа (5 сентября) 1905 года Портсмутский мирный договор был подписан. Подписание договора было воспринято японским обществом как унижение и вызвало в Токио массовые беспорядки, в ходе которых «была сожжена резиденция министра внутренних дел, разгромлено 13 церквей, было ранено 500 полицейских и солдат. Количество раненых мятежников оценивается приблизительно в 2 тысячи, убитых – 17, арестованных – в 2 тысячи, обвинения были предъявлены 308 человекам». (Айрапетов О. На пути к краху. Русско-японская война 1904–1905 гг. Военно-политическая история. С. 370.)
Разъяренная толпа разгромила более половины всех полицейских участков города. Мало похоже на празднование победы в войне, не правда ли?
Как бы там ни было, с этого момента Токио потерял всякий интерес к вооруженному восстанию в России и к русской революции вообще. 11 сентября 1905 года Генштаб отозвал Акаси домой, и 18 ноября японский полковник покинул Европу. Таким образом, его миссия, длившаяся все 19 месяцев Русско-японской войны, завершилась.
Итак, Русско-японская война закончилась. Вот только остановить однажды запущенный механизм доставки оружия в Россию японский разведчик Акаси был уже не в состоянии.
В конце августа «Джон Графтон» двинулся в путь из Дании, вошел в Балтийское море, а затем и в его Ботнический залив. Часть оружия была выгружена 4 сентября в районе Кеми, а 6 сентября – близ Якобстадта (финский Пиетарсаари).
Вечером того же дня пароход подошел к острову Ларсмо, где отгрузил на ожидавший его катер до тысячи винтовок и значительное количество патронов. Все это было очень непросто с неопытным экипажем и в дурную погоду. Кроме того, в распоряжении капитана Нюландера не было подробных карт этой малопосещаемой части Балтийского моря. В результате ранним утром 7 сентября, уже на пути на юг, у островка Орскар «Джон Графтон» налетел на каменистую отмель. Команда попыталась переместить оставшийся груз на соседние острова, но это оказалось ей не под силу. Из трюмов удалось извлечь только взрывчатку. На следующий день, 8 сентября, по приказу Нюландера корабль был взорван. (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 182–183.)
Члены экипажа бежали в Швецию. Оружие и боеприпасы, спрятанные на островах, стали легкой добычей полиции.
К концу октября 1905 года жандармами было конфисковано 9670 винтовок «Веттерлей», около 4000 штыков к ним, 720 револьверов «Веблей», около 400 000 винтовочных и порядка 122 000 револьверных патронов, около 192 пудов (свыше 3 тонн) взрывчатого желатина, 2000 детонаторов и 13 футов бикфордова шнура. (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 253.)
Красин прокомментировал финал истории «Джона Графтона» так: «Наша техническая группа была привлечена к этому делу в его конечной стадии, когда исправить сделанные грубые ошибки уже не было никакой возможности». (Красин Л. Б. (Никитич) Дела давно минувших дней. С. 94.)
О месте разгрузки яхты «Сизн» точных данных нет, однако понятно, что небольшой арсенал, размещенный на ее борту (300 револьверов и 200 винтовок), никакой ощутимой роли в «вооружении пролетариата» сыграть, конечно, не мог.
Более удачно для противников Российского государства сложилась судьба еще одного корабля-перевозчика, зашедшего, так сказать, с другого фланга Российской империи.
Пароход «Сириус» водоизмещением почти 597 тонн был куплен в Голландии на японские деньги по заданию Деканозова в конце августа или начале сентября 1905 Христианом Корнелисеном, голландцем же по происхождению и анархистом по убеждениям. Корнелисен впоследствии стал и капитаном корабля.