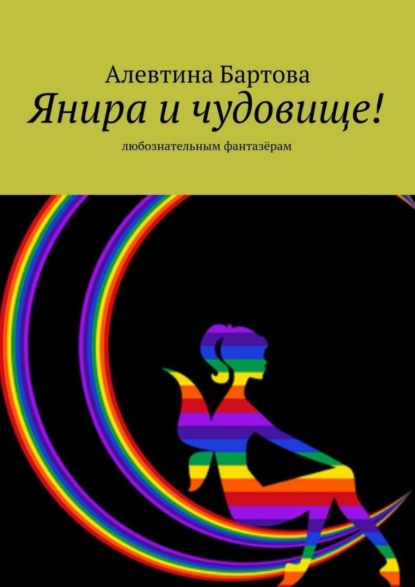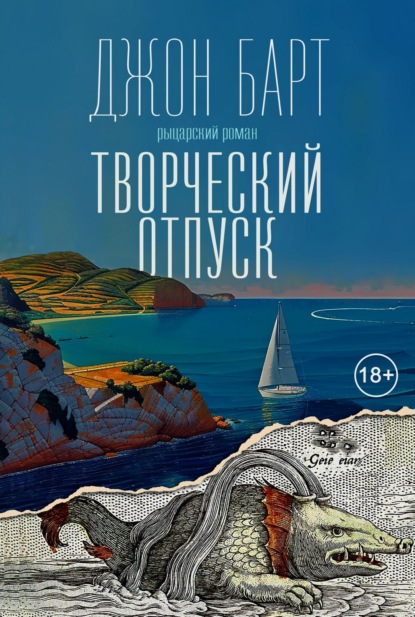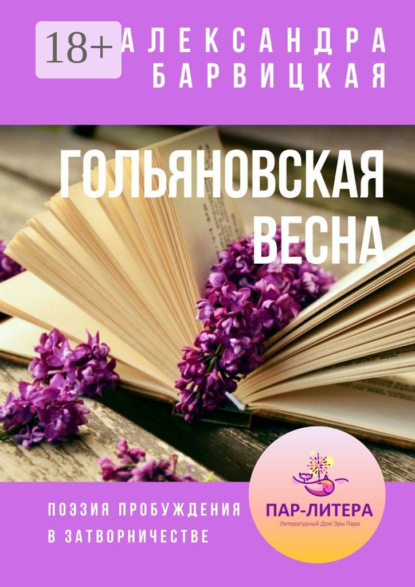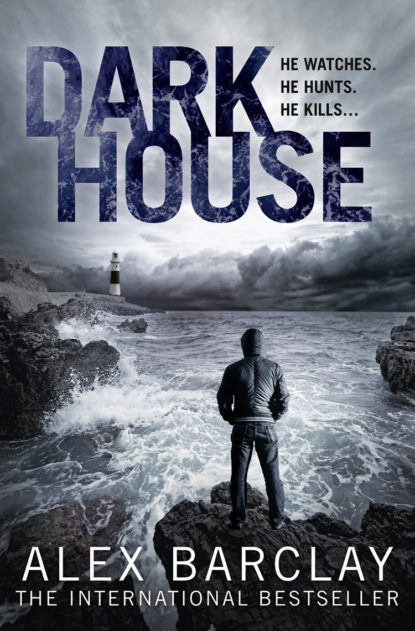Большевики. Криминальный путь к власти

- -
- 100%
- +
На борт судна было загружено порядка 8500 винтовок «Веттерли» и более миллиона патронов к ним.
«22 сентября 1905 г., никем не замеченный, “Сириус” с документами обычного торгового парохода вышел в плавание из Амстердама. Двигался он нарочно не спеша, по пути посещая промежуточные порты якобы с коммерческими целями. В течение всего октября корабль кружил по средиземноморским портам и только в ноябре вошел в Черное море. Несмотря на противодействие пограничников, в течение пяти дней, с 25 по 29 ноября, “Сириус” благополучно опустошил свои трюмы в поджидавшие его в море баркасы в районе Батуми, Поти, Анаклии и Гагры». (Инаба Чихару. Японский резидент против Российской империи. С. 187–188.)
Впрочем, «опустошить трюмы» полностью не удалось. Подойдя к финальной точке в Гаграх, «Сириус» попал в непогоду.
К ночи, когда три «революционных» баркаса отправились к кораблю, поднялась буря. Два из них дошли только на рассвете, третий сбился с пути и погиб. Сдав две трети груза, корабль ушел в море. (Георгиевский Г. (Г.П.) Очерки по истории Красной гвардии. С. 30.)
Уцелевшие баркасы надеялись разгрузиться в заранее условленном месте, однако, подхваченные сильным ветром, очутились в порту и вынуждены были разгружаться на людном пляже.
Большая часть смертоносного груза была доставлена на берег и унесена прочь, когда прозвучал непреднамеренный выстрел, произведенный одним из грузчиков. На выстрел прибежал жандарм, таможенные досмотрщики, были вызваны казаки. Завязалась перестрелка, в результате которой были ранены казак и двое рабочих. Стражей и казаками были конфискованы 31 ящик винтовок, по 20 штук в каждом, и 54 ящика патронов. Был задержан и один из баркасов. (Георгиевский Г. (Г.П.) Очерки по истории Красной гвардии. С. 30–31.)
Однако эта неприятность не испортила настроения капитану «Сириуса».
«Вся страна была в полном восстании, – вспоминал Корнелисен, – и в гавани царила лихорадочная деятельность. Все шло удачно, и скоро получились доказательства, что посылка оружия произвела сильное действие». (Павлов Д. Русско-японская война 1904–1905 гг. С. 261.)
Что касается самого парохода, то 15 января 1906 г. «Сириус» благополучно вернулся с Кавказа в Амстердам.
Революционный террор
Разумеется, помимо «водных приключений» у российских антиправительственных партий существовали и другие пути поставок оружия из-за границы. Известно, что в период с весны 1904 по конец 1905 года только через Финляндию в Россию революционерами было ввезено свыше 15 000 винтовок и ружей, около 24 000 револьверов и большое количество патронов, боеприпасов и динамита. (Фельштинский Ю. Г. Вожди в законе. С. 36.)
Что касается большевиков, то по закупке и транспортировке оружия в Финляндии усиленно работали ближайший помощник Красина Н. Е. Буренин и А. М. Игнатьев. По части взрывных веществ – Грожан и «Чорт» (Богомолов). (Красная летопись. Исторический журнал. 1931. № 5–6 (44–45). С. 23.)
И если в начале года революционный террор носил выборочный характер, то уже к середине года, а особенно к его концу, благодаря деятельности большевистской БТГ и целого арсенала оружия, доставленного в Россию из-за границы, настоящий кровавый вал накрыл граждан империи.
В октябре 1905 года в Москве началась забастовка, которая переросла во Всероссийскую политическую стачку, объединившую почти 2 миллиона. Стачка сопровождалась ростом числа террористических актов по всей стране.
Историк А. Гейфман: «За один год, начиная с октября 1905-го, в стране было убито и ранено 3611 государственных чиновников… К концу 1907 года число государственных чиновников, убитых или покалеченных террористами, достигало почти 4500. Если прибавить к этому 2180 убитых и 2530 раненых частных лиц, то общее число жертв в 1905–1907 годах составляет более 9000 человек. Картина поистине ужасающая. Подробная полицейская статистика показывает, что, несмотря на общий спад революционных беспорядков к концу 1907 года (года, в течение которого, по некоторым данным, на счету террористов было в среднем 18 ежедневных жертв), количество убийств оставалось почти таким же, как в разгар революционной анархии в 1905 году. С начала января 1908 года по середину мая 1910 года было зафиксировано 19 957 терактов и революционных грабежей, в результате которых погибло 732 государственных чиновника и 3051 частное лицо, а 1022 чиновника и 2829 частных лиц были ранены». (Гейфман А. Революционный террор в России. 1894–1917. С. 31–32.)
17 (30) октября 1905 года был опубликован Манифест об усовершенствовании государственного порядка, который предоставлял политические права и свободы: свободу совести, свободу слова, свободу собраний, свободу союзов и неприкосновенность личности.
Однако революционеры уже почувствовали запах крови.
Террористические акты не прекратились после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года, гарантировавшего соблюдение основных прав человека для всех граждан России и представлявшего законодательную власть Государственной думе.
«Наихудшие формы насилия проявились только после опубликования Октябрьского манифеста», когда действия радикалов, направленные на ослабление государства вплоть до его падения, превратили страну в кровавую баню… Были дни, «когда несколько крупных случаев террора сопровождались положительно десятками мелких покушений и убийств среди низших чинов администрации, не считая угроз путем писем, получавшихся чуть ли не всяким полицейским чиновником; … бомбы швыряют при всяком удобном и неудобном случае, бомбы встречаются в корзинах с земляникой, почтовых посылках, в карманах пальто, на вешалках общественных собраний, в церковных алтарях… Взрывалось все, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями (Казань) и памятниками русским генералам (Ефимовичу, в Варшаве) и кончая церквами.» (Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. С. 29–30.)
«Что касается правительственных служащих, то здесь террор проводился без особого разбора, и его жертвами становились полицейские и армейские офицеры, государственные чиновники всех уровней, городовые, солдаты, надзиратели, охранники и вообще все, кто подпадал под весьма широкое определение “сторожевых псов старого порядка”. Из 671 служащего Министерства внутренних дел, убитого или раненного террористами в период между октябрем 1905 и концом апреля 1906 года, только 13 занимали высокие посты, в то время как остальные 658 были городовыми, полицейскими, кучерами и сторожами. Особенно распространилось среди новых профессиональных террористов обыкновение стрелять или бросать бомбы без всякой провокации в проходящие военные или казачьи части или в помещения их казарм». (Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917. С. 58–59.)
Видя, насколько потрясли Россию теракты, не мог не включиться в сие разрушительное движение и большевистский главарь Ленин.
Вот конкретная его рекомендация:
«Начинать нападения, при благоприятных условиях, не только право, но прямая обязанность всякого революционера. Убийства шпионов, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, отнятие правительственных денежных средств для обращения их на нужды восстания – такие операции уже ведутся везде, где разгорается восстание, и в Польше, и на Кавказе, и каждый отряд революционной армии должен быть немедленно готов к таким операциям». (Ленин В. И. ПСС. Т. 5. С. 342.)
Как видим, Владимира Ильича мало беспокоила определенно анархическая природа таких действий, и он настоятельно просил своих сторонников не бояться этих «пробных нападений»: «они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня… десятки жертв окупятся с лихвой.» (Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917. С. 131.)
В сентябре 1905 года Ленин открыто призывает создавать отряды террористов и забрасывать города Российской империи бомбами:
«Число таких отрядов в 25–75 человек может быть в каждом крупном городе и зачастую, в предместьях крупного города, доведено до нескольких десятков. Рабочие сотнями пойдут в эти отряды, надо только немедленно приступить к широкой пропаганде этой идеи, к образованию этих отрядов, к снабжению их всяким и всяческим оружием, начиная от ножей и револьверов, кончая бомбами, к военному обучению и военному воспитанию этих отрядов.
К счастью, прошли те времена, когда за неимением революционного народа революцию “делали” революционные одиночки-террористы. Бомба перестала быть оружием одиночки-бомбиста… Широкое применение сильнейших взрывчатых веществ – одна из очень характерных особенностей последней войны. И эти, общепризнанные теперь во всем мире, мастера военного дела, японцы, перешли также к ручной бомбе, которой они великолепно пользовались против Порт-Артура. Давайте же учиться у японцев!» (Ленин В. И. ПСС. Т. 11. С. 269–270.)
Говоря о нападениях на собственных граждан в условиях внешней агрессии, Ленин не скрывает своего ликования: «Вдумайтесь в эти сообщения легальных газет о найденных бомбах в корзинах мирных пароходных пассажиров. Вчитайтесь в эти известия о сотнях нападений на полицейских и военных, о десятках убитых на месте, десятках тяжело раненных за последние два месяца. Даже корреспонденты предательски-буржуазного “Освобождения”, занимающегося осуждением “безумной” и “преступной” проповеди вооруженного восстания, признают, что никогда еще трагические события не были так близки, как теперь». (Ленин В. И. ПСС. Т. 11. С. 270–271.)
Что было далее, известно – декабрьское вооруженное восстание в Москве и наведение порядка железной рукой П. А. Столыпина (1862–1911), вызвавшее бурное негодование революционеров всех окрасов и мастей по всему миру.
Мы же отметим, что роль большевиков в истории 1905 года, в частности их очевидное стремление к сотрудничеству с японской разведкой, пополнение партийной кассы самыми грязными способами, а также участие в кровавом терроре, направленном в том числе против рядовых граждан Российской империи, надолго стала одним из главных партийных секретов…
Несмотря на поражение открытого вооруженного выступления, «революционеры» вообще и большевики в частности не опустили рук.
26 февраля 1906 года два десятка латышских боевиков совершили налет на филиал Российского государственного банка в Гельсингфорсе. Организатором экса выступило большевистское руководство в Петербурге, а непосредственное планирование происходило в самом Гельсингфорсе при участии Николая Буренина. Некоторые из налетчиков были арестованы, но большинству удалось скрыться в Швеции, унеся с собой около 10 000 золотых рублей. (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 25–26.)
Крепло и взаимовыгодное взаимодействие БТГ с эсерами-максималистами. Так, в марте 1906 года последние ограбили Московский банк взаимного торгового кредита, захватив 875 000 рублей. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 82.)
12 (25) августа было совершено покушение на премьер-министра Российской империи П. А. Столыпина (1862–1911). После взрыва на казенной даче Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге погибло на месте 27 человек, более 100 были ранены. Сам Петр Аркадьевич не пострадал буквально чудом.
В обоих случаях эсеры-максималисты использовали оружие, полученное от БТГ, а часть захваченных в ходе ограбления денег передавали Красину.
Все это дало основание Ленину написать:
«Интересующее нас явление есть вооруженная борьба. Ведут ее отдельные лица и небольшие группы лиц… Вооруженная борьба преследует две различные цели, которые необходимо строго отличать одну от другой; – именно, борьба эта направлена, во-первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных военно-полицейской службы; – во-вторых, на конфискацию денежных средств как у правительства, так и частных лиц. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью специально на вооружение и подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризуемую нами борьбу. Крупные экспроприации (кавказская в 200 с лишним тысяч рублей, московская 875 тысяч рублей) шли именно на революционные партии в первую голову, – мелкие экспроприации идут прежде всего, а иногда и всецело на содержание “экспроприаторов”». (Ленин В. И. ПСС. Т. 14. С. 4.)
В апреле 1906 года в Стокгольме собрался IV съезд РСДРП, на котором присутствовало 112 делегатов с решающими голосами от 57 организаций. По фракционной принадлежности: 62 голоса принадлежало меньшевикам и 46 – большевикам. Этот съезд был назван «объединительным», так как на нем произошло формальное объединение фракций меньшевиков и большевиков. Однако объединение это не стало реальным.
Человеком, который оказывал всяческую поддержку большевикам в Швеции, был известный анархист Хинке Бергегрен (1861–1936).
«Художник Вальдемар Бенхард, друг Хинке Бергегрена, но отнюдь не его безоглядный почитатель, описывает его «поразительную внешность» так: «Черные, как смоль, борода и волосы, темные, живые глаза за поблескивающими стеклами очков, ровные белоснежные зубы. Именно это лицо, слегка окарикатурив, гениальный график Оскар Андерсон изобразил в виде самого дьявола…» (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 20.)
Вот этот Бергегрен отвечал за размещение делегатов IV съезда РСДРП, который проходил в Стокгольме в апреле-мае 1906 года. В числе других шведский «дьявол» встретил и «товарища» Сталина. Не только встретил, но и заселил в расположенную в центре Стокгольма гостиницу «Бристоль», впрочем, весьма захудалую. (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 77.)
Однако присутствие будущего «вождя всех народов» не помогло большевикам. На стокгольмском съезде они оказались в меньшинстве. В новый ЦК избрали семь меньшевиков и только трех большевиков.
«К руководству партийной газетой “Социал-демократ”, любимого детища Ленина, пришли одни меньшевики». (Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит. С. 84.)
Один из ближайших сподвижников Ленина Г. Е. Зиновьев (Радомысльский) (1883–1936) свидетельствует:
«Большевикам ничего не оставалось, как подчиниться, т.к. они были в меньшинстве, а рабочие требовали единства. Но на деле Объединительный съезд нисколько не объединил большевиков с меньшевиками, и на деле мы уехали из Стокгольма двумя отдельными фракциями. В ЦК взяли несколько наших товарищей, как мы тогда говорили, – заложниками. Но в то же время на самом съезде большевики составили свой внутренний и нелегальный в партийном отношении Центральный комитет. Этот период в истории нашей партии, когда мы были в меньшинстве и в ЦК, и в Петроградском комитете и должны были скрывать свою сепаратную работу, был для нас очень тяжелым и мучительным… Положение было такое, словно две партии действовали в рамках одной». (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 12.)
Как следствие в мае 1906 года Ленин вместе с двумя своими тогдашними ближайшими соратниками, руководителем БТГ Леонидом Красиным и Александром Богдановым (настоящая фамилия – Малиновский, кличка – Вагнер) (1873–1928), тайно организовал внутри Центрального комитета РСДРП (в котором преобладали меньшевики) небольшую группу, ставшую известной под названием Большевистский центр (БЦ), специально для добывания денег для большевистской фракции. Существование этой группы скрывалось не только от царской полиции, но и от других членов партии. Это означало, что БЦ был подпольным органом внутри партии, организующим и контролирующим экспроприации и различные формы вымогательства.
Вскоре, продолжая практику БТГ, Красин «создал вокруг БЦ даже не трест, а целый сложный комбинат всевозможных тайных лабораторий, мастерских, типографий и пр., обслуживавших не только большевистские, но и иные, совсем не социал-демократические “боевые предприятия”». (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 13.)
Красин лично организовал более сотни ограблений или экспроприаций – «эксов», проведенных большевистскими группами боевиков. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 82.)
Исполнители так называемых «эксов» набирались в среде наименее культурных, но рвущихся к «настоящим делам», а заодно и заработкам, молодых людей. Зачастую исполнителями становились и откровенные бандиты.
А. Гейфман: «На всей территории Империи они грабили почтовые отделения, билетные кассы на железнодорожных вокзалах, иногда грабили поезда, устраивая крушения. Кавказ в силу своей особой нестабильности был наиболее подходящим регионом для подобной деятельности. “Большевистский центр” получал постоянный приток необходимых средств с Кавказа благодаря одному из наиболее верных Ленину на протяжении всей жизни людей – Семену Тер-Петросяну (Петросянцу), человеку с нестабильной психикой, известному как “Камо” – кавказский разбойник (так прозвал его Ленин). Начиная с 1905 года Камо при поддержке Красина (который осуществлял общий контроль и поставлял бомбы, собранные в его петербургской лаборатории) организовал серию экспроприаций в Баку, Кутаиси и Тифлисе. Его первое грабительское нападение произошло на Коджорской дороге недалеко от Тифлиса в феврале 1906 года, и в руки экспроприаторов тогда попало от семи до восьми тысяч рублей. В начале марта этого же года группа Камо напала на банковскую карету прямо на одной из людных улиц Кутаиси, убила кучера, ранила кассира и скрылась с 15 000 рублей, которые они немедленно переправили большевикам в столицу в винных бутылках». (Гейфман А. Революционный террор в России, 1894–1917. С. 163.)
Большевистскому центру, а вовсе не ЦК, как это следует из «официальной» версии истории партии большевиков, была подчинена и Уральская боевая организация Я. М. Свердлова (1885–1919). И все меньшевистские «осуждения и запрещения» не имели для свердловцев ни малейшего значения.
Более того, и само подчинение уральских головорезов БЦ было лишь формальным. В действительности вся уральская область была подчинена лично Свердлову.
Историк В. Шамбаров: «И кстати, хотя Яков Михайлович был связан с большевистским боевым центром, но в свои структуры включал и членов других партий: эсеров, анархистов, максималистов. Какая разница-то? Главное – чтобы человек был подходящим. Способным без промаха и без колебаний послать пулю в ближнего, швырнуть бомбу, заложить заряд взрывчатки. Так что некоторые дружины числились “сводными”, многопартийными. А “лесные братья” были вообще беспартийными головорезами.
И “дело” пошло. Оружие поставлялось из-за границы – бельгийские браунинги, маузеры, “партизанские” облегченные винтовки. Текли боеприпасы, доставалась взрывчатка – ее и на Урале хватало, для горных работ использовалась». (Шамбаров В. Свердлов. Оккультные корни Октябрьской революции. С. 74.)
Особой стороной деятельности боевиков были грабежи, или, как их называли, «эксы», экспроприации. Грабили кассы, конторы, нападали на транспорты с деньгами. Бомб и патронов не жалели, случайные люди гибли десятками.
К примеру, летом 1907 года 12 вооруженных «лесных братьев» напали на пассажирский пароход «Анна Степановна Любимова», принудили поставить судно на якорь, убили матроса, полицейского, военнослужащего, одного из пассажиров, тяжело ранили капитана парохода и легко – двух пассажиров, после чего похитили более 30 000 рублей.
Показательна и история договора о «сотрудничестве», который в 1907 году военно-техническое бюро ЦК РСДРП, состоявшее из большевиков, заключило с пермской «дружиной» некоего Лбова.
«Последняя именовалась Пермским революционным партизанским отрядом, но в действительности занималась грабежами и разбоем на Урале. По договору, составленному “на бланке ЦК”, но без ведома последнего, большевики обязывались поставить Лбову транспорт оружия. Деньги – 10 000 рублей, были получены большевиками вперед, но оружие доставлено не было. Сам Лбов был пойман и повешен; но один из его “дружинников”, по прозвищу Сашка Лбовец, приехал в Париж требовать деньги обратно. Разыгрывается очередной конфликт.
Сашка Лбовец выпускает прокламацию, обвиняя большевистский центр “в присвоении денег, принадлежащих лбовцам”. Ленин резко обрушивается на лбовцев. Специальная комиссия производит расследование; она выносит постановление вернуть деньги дружине». (Никитин Б. В. Роковые годы. С. 257.)
На добытые деньги содержались местные боевые школы. Кроме того, Уральский областной комитет издавал три газеты: «Солдат», «Пролетарий» и газету на татарском языке. Деньги шли на содержание школы боевых инструкторов в Киеве, школы бомбистов во Львове, для «держания границ» (Финляндия и Западная Россия) для провоза литературы и прохождения связных и боевиков. Кроме того, финансировались поездки делегатов на различные партийные сборища за границу.
В целом же «к 1907 году лишь немногие могли отрицать, что все увеличивающееся число “борцов за свободу” в союзе с уголовниками занимались бандитизмом и грабежами большей частью не по политическим мотивам, а исключительно для удовлетворения своих низменных инстинктов». (Гейфман А. Революционный террор в России 1894–1917. С. 226–227.)
Отвлекшись от внутрироссийского «революционного» террора, сообщим, что весной 1906 года Горький, актриса Мария Федоровна Андреева (1868–1953) (о которой речь впереди) и приданный им в помощь Буренин прибыли в США для сбора средств в кассу РСДРП.
Российский историк, социал-демократ Б. И. Николаевский (1887–1966):
«Эта поездка была организована большевиками. Главным ее инициатором был Л. Б. Красин, но уже в период организации этой поездки (март 1906 г.) действовал Объединенный ЦК РСДРП, в который входили и большевики, и меньшевики; и Горький ехал в Америку, имея письма к Американской социалистической партии, официальное – от этого ЦК, и личное – от Ленина, который был тогда одним из двух представителей РСДРП в Интернационале. Фактическим организатором поездки был большевик Н. Е. Буренин, один из активных работников большевистской центральной Боевой группы, выбранный для этого Красиным». (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 21.)
Кампания эта проводилась как общая кампания всех групп РСДРП, причем особенно важную роль играли, с одной стороны, ежедневная еврейская газета «Форвертс» и, с другой стороны, нью-йоркская группа содействия РСДРП. «Форвертс» в то время фактически проводила политическую линию Бунда, а группа содействия, хотя и включала в свой состав также и большевиков, возглавлялась определенными меньшевиками (М. Роммом, Д. М. Рубиновым и др.), которые проводимые в фонд Горького сборы поддерживали и организовывали как сборы в пользу всей партии. (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 22.)
Нью-йоркские газеты подробно описывали приезд Горького. Одна из газет сообщала: «Буря энтузиазма приветствовала Максима Горького… Русский писатель и революционер Максим Горький высадился вчера с парохода под громкие приветствия тысяч своих соотечественников. В течение нескольких часов они ждали его под дождем. Встреча эта затмила собой прием, который был оказан борцу за свободу Венгрии Кошуту и создателю единой Италии Гарибальди, когда они прибыли в Америку. Писатель-революционер призывает американскую нацию помочь русскому народу в его борьбе за свободу! Поддержим этот призыв!» (Буренин Н. Е. Памятные годы. С. 87.)
В мае 1906 года Красин написал Горькому и Андреевой письмо:
«Характеризуя Большевистский центр как единственный партийный орган, свободный от “иллюзий” конституционализма и рассчитывающий на реальную силу маузеров, пулеметов и бомб, Красин предложил Горькому с Андреевой внести в фонд ЦК лишь малую толику собранных средств, а все остальные деньги передать большевикам на закупку оружия». (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 85.)
Все получилось, согласно его рекомендации, хотя и несколько не в том размере, на какой надеялся Красин: в июле Андреева переправила ему 50 000 рублей, и еще некоторые суммы поступили в конце лета – начале осени. (О. Коннор Т. Э. Инженер революции. Л. Б. Красин и большевики 1870–1926. С. 85.)
Николаевский подтверждает, что средства, собранные в Америке, поскольку они попали в руки Буренина, были отправлены не общепартийному ЦК, а в кассу БЦ. (Николаевский Б. И. Тайные страницы истории. С. 22.)
Итак, «поездка в Америку» принесла «50 000 рублей» и «еще некоторые суммы», что было скорее символическим жестом, чем реальной помощью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.