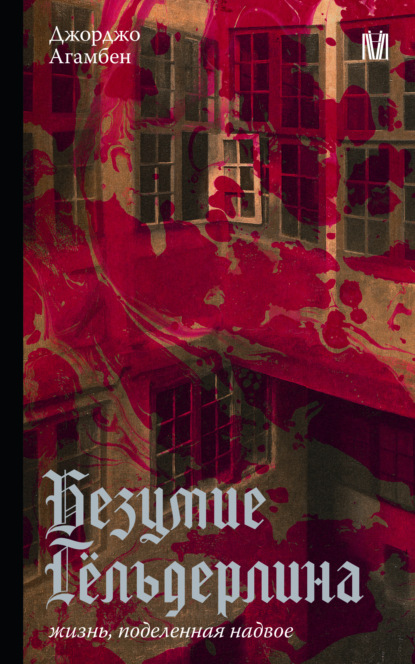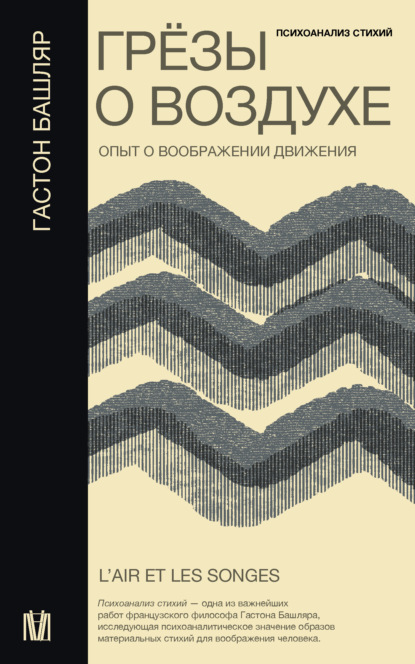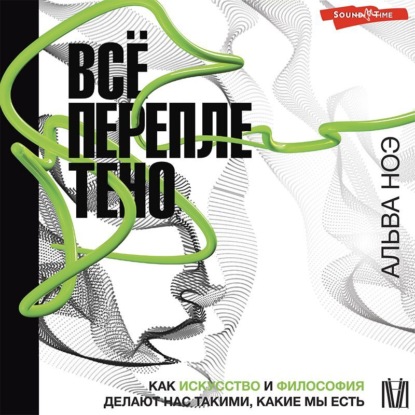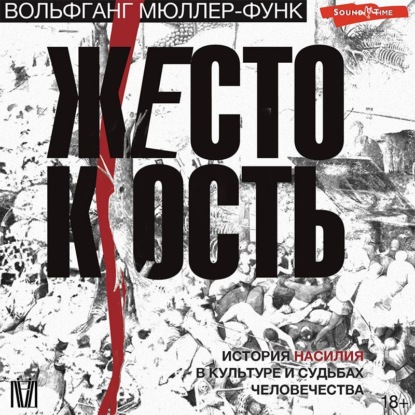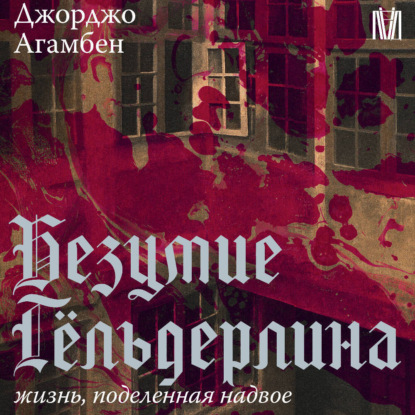Земля и грёзы воли
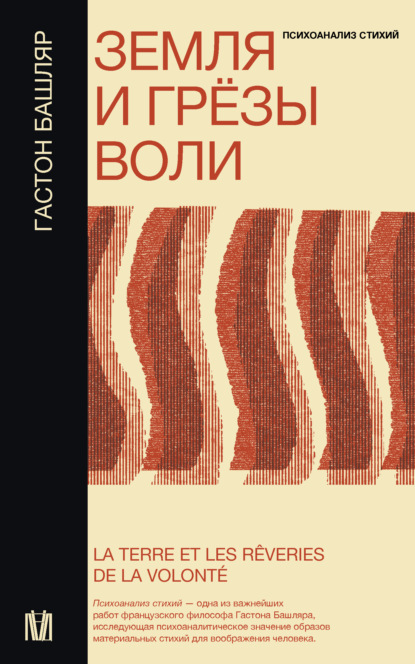
- -
- 100%
- +

От переводчика
О принципах «термодинамики материального воображения»
Книга, которую предваряет это предисловие, – четвертая книга башляровской пенталогии, посвященной поэтике стихий. Исследование земли как стихии образует как бы маленькую дилогию в рамках пенталогии. Название первой книги этой дилогии я перевожу как «Земля и грезы воли» (поскольку воля как активное шопенгауэрианское начало мироздания грезит сама); во второй части исследования земли речь идет о пассивных грезах, и потому название ее я перевожу традиционно: «Земля и грезы о покое».
Если попытаться в двух словах определить, чему посвящена книга «Земля и грезы воли», то словами Башляра можно сказать, что она описывает отношения между субъектом и материей земной стихии, выражаемые через весь спектр значений французского предлога contre. Забегая вперед, скажу, что книга «Земля и грезы о покое» посвящена аналогичным отношениям, выражаемым через предлог dans. Слово contre может не только означать «против», но еще и указывать на контакт homo faber с материей, которая приглашает его к действию. Башляр описывает многочисленные виды основных ремесел (кузнечное, столярное и пр.), труд шахтера и гранильщика драгоценных камней, альпинизм, но делает это исходя из «склонности» той или иной материи к грезам, а точнее говоря, к способности этих грез отражаться в литературе.
Нужно отметить, что в этом коренное отличие Башляра даже от такого «иррационального» философа, как Бергсон, рассматривавшего создание орудий труда и пользование ими как деятельность, направляемую интеллектом, чисто формальную и формообразующую (речь об этом идет и в «Творческой эволюции», и в «Двух источниках морали и религии»). В русле этой бергсоновской концепции мыслят и американский антрополог Льюис Мамфорд («Миф машины»), и французский археолог А. Леруа-Гуран, цитируемый Башляром в этой книге (автор классификации орудий труда по способу воздействия на материал).
А вот у Башляра материя сама рождает грезы о своей обработке и об отражении этой обработки в фольклорных и литературных произведениях. Макрокосм взаимодействует с микрокосмом, когда они находят сродство между собой или вступают в отношения взаимного отталкивания. Башляр не устает повторять, что грезит в нас именно материя. Он избегает употреблять слово интеллект и, в отличие от Бергсона, почти не пользуется словом инстинкт. Термин интуиция Башляр применяет широко, но не в смысле «бессознательная творческая способность человека», а в сугубо конкретных контекстах (интуиция воды у Л. Клагеса или у Р. Гвардини в книге «Вода и грезы»). Поэтому кажется, что атомы материи вступают во взаимодействие с атомами сознания, и в их вихревом потоке рождаются образы и метафоры – совершенно так же, как рождаются новые способы обработки материи в основополагающих ремеслах. Американский литературовед Поль де Ман в книге «Аллегории чтения» (Екатеринбург, 1999, с. 210. Пер. С. Никитина), на мой взгляд, удачно назвал это свойство мировосприятия Башляра «термодинамикой материального воображения».
Зачарованность Башляра материей беспредельна. Это упоение заставляет вспомнить поэму Лукреция «О природе вещей», диалоги Платона и сочинения досократиков. Такие характеристики материи, как теплота – холод, гладкость – шероховатость, пресность, терпкость и т. д., по мнению Башляра, гораздо более важны для поэтического воображения, нежели соразмерность целого и частей, чувство композиции и прочие явления такого рода. Первейшим качеством поэтического воображения Башляр считает наивность в восприятии материи, бессознательное сцепление со зримыми материальными образами. Даже разбирая сложнейшие метафоры Эдгара По, философ разлагает их на простые, бьющие в глаза материальные составляющие. Так, анализируя фразу из рассказа «Человек толпы» «Все было черным, но сверкающим, словно эбеновое дерево, с которым сравнивали стиль Тертуллиана», он берет непосредственно ощутимые параметры ночи, эбенового дерева и литературного стиля и проводит между ними несколько линий сравнения (в книге «Грезы о воздухе»). В результате читатель видит, почему «ночную толпу, полную преступных замыслов», можно сравнить с малопонятным, но блестящим стилем христианского апологета, изрекшего: «Верую, ибо абсурдно».
При этом Башляру безразлично, возникает ли упомянутая поэтическая наивность изначально или же формируется путем самовоспитания. Так, иногда башляровское чувство материи хочется сравнить с интуициями часто цитируемого в Поэтике Стихий Якоба Бёме, – но сразу же видно, что сила мысли гениального сапожника Бёме коренится в незамутненной органичности, тогда как органичность Башляра – результат сознательной установки, если можно так выразиться, осознанной психической регрессии. Другая показательная интуиция Башляра – «Я – запах водяной мяты» из книги «Вода и грезы», основанная на изречении Кондильяка «Я – запах розы». «Я» – это такая же эманация материи, как и запах.
Башляр заранее знает, что органично, а что неорганично, какие грезы естественны, а какие – нет. Так, поэтические грезы ныне основательно забытого Г. д’Аннунцио он объявляет чуть ли не эталоном естественности, а грезы не столь уж от него отличающегося Пьера Луи – мерилом дурного вкуса (в книге «Вода и грезы»). К сосредоточившему в себе гипертрофированные черты fin de siècle Гюйсмансу он относится нейтрально, а иногда и с нескрываемым интересом, а к ультраболезненному Жоржу Роденбаху – с явной симпатией. Элемир Бурж предстает чуть ли не литературным монстром, хотя это был почтенный писатель начала XX века и даже член Французской академии. И всюду работает один и тот же критерий естественности. Здесь уместно привести замечание А. Б. Гофмана из его послесловия к русскому переводу книги А. Бергсона «Два источника морали и религии»: «Нет ничего более искусственного, чем понятие „естественного“. Оно возникает не в природе, а в культуре, и дает простор для самых разнообразных и произвольных интерпретаций» (М., 1994, с. 367–368).
Несколько странно звучит сопоставление Башляра с русскими космистами Циолковским, Федоровым и Вернадским, сделанное В. П. Большаковым в предисловии к первому изданию русского перевода книги «Вода и грезы»[1]. Ведь у французского философа совершенно отсутствует мотив мистического преображения личности, а тем более – коллективного преображения. Этот философ совершенно не утопичен; чужда ему и какая бы то ни было эсхатология, чужды какие бы то ни было рассуждения о конце истории. Ему не свойствен спиритуализм, и потому столь любимый многими французскими мыслителями Э. Сведенборг – не совсем его автор. И близкий Сведенборгу сонет Бодлера «Соответствия», где речь идет о храме Природы и о своеобразной литургии, в процессе которой прочитывается и интерпретируется «лес символов», тоже не совсем в духе Башляра, хотя прямые и косвенные аллюзии на этот сонет разбросаны по всем его произведениям. Башляр находится вне христианской парадигмы настолько, что в подтверждение какого-либо своего тезиса может поместить цитату из пророка Исаии вместе с описаниями обычаев каких-нибудь канаков или кафров, не делая здесь ценностных различий. При всем своем антипозитивизме, по отношению к этой своей черте он мало чем отличается, например, от позитивиста Дж. Фрэзера.
Столь же поверхностным выглядит прозвучавшее в рецензии А. Уланова на перевод книги «Вода и грезы» («Независимая газета», приложение Ex Libris от 12 июня 1998 г.) сопоставление Башляра с немецкими романтиками Новалисом и Фр. Шлегелем. И первое возражение, которое здесь приходит в голову, состоит в том, что немецкие романтики мыслили фрагментами, тогда как Башляр – систематизатор хотя бы по своей интенции. Несмотря на расплывчатую поэтичность стиля, даже в Поэтике Стихий он продолжает работать и как науковед.
Башляр интересен как педагог. Акцент всюду ставится на индивидуальное трудовое воспитание – идет ли речь о цитате из основоположника гештальт-психологии Курта Коффки, где игра детей в песочек сравнивается с деятельностью наших предков, живших в ледниковый период, или же о ссылке на Виктора Лёвенфельда, обучавшего лепке слепоглухонемых. Из книги «Земля и грезы воли» мы узнаём и об особых детских садах Марии Монтессори, где трудовому воображению детей предоставлялась полная свобода, и о детстве вождя прерафаэлитов Рёскина – о том, как игры способствовали развитию у него интереса к геологии. Башляр не любил или недооценивал Ж.-П. Сартра: когда он читает об экзистенциальной тошноте этого богемного интеллектуала, он рекомендует ему заняться слесарным или столярным делом (такие рекомендации встречаются в обеих книгах о земле). Здесь для философа, не упускавшего случая подчеркнуть свои ремесленные корни, просто нет никаких проблем. По той же причине он издевается над эпизодом из романа Натаниэля Готорна «Дом о семи фронтонах», где речь идет об ужасном скрежете, с которым ходил по улицам точильщик, и тут же противопоставляет Готорну безвестного французского писателя-провинциала, у которого труд постигается «изнутри». Вследствие того же самого Башляр высоко ставит сподвижника Сартра (в 40-е годы) Камю, особенно за заключающее «Миф о Сизифе» утверждение: «Сизифа следует представлять себе счастливым». По-видимому, Башляр был не столь уж далек от экзистенциализма в широком смысле термина, несмотря на все внешние расхождения с ним…
Суть поэтического произведения, по Башляру,– это то самое «обнажение души художника», которое стало мишенью русских формалистов и всех наиболее «престижных» школ русского литературоведения XX века. И уж совсем не укладывается в концепцию Башляра мнение Т. С. Элиота из эссе «Традиция и индивидуальный талант»: «Поэзия – это не высвобождение чувства, но бегство от чувств; это не самовыражение личности, но бегство от личности»[2]. Поэты, о которых идет речь в Поэтике Стихий, черпают свои образы из океана юнгианского коллективного бессознательного и лишь открывают, но никак не скрывают подсознательные импульсы своих личностей. Это касается и сюрреалистов, и таких сверхсложных современных поэтов, поэтов «для избранных читателей», как Анри Мишо.
Тем не менее методика Башляра годится для анализа далеко не каждого литературного произведения, и вполне возможно, что в эталонном для формалистов романе Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», объявленном В. Шкловским романом par excellence, этот философ не нашел бы ничего, кроме нарочитой и неестественной «усложненности». А если бы В. Шкловский или Р. Якобсон прочли пенталогию Башляра, то из-за «образного мышления» последнего они, вероятно, сочли бы его реликтом потебнианской эпохи, т.е. середины XIX века. Впрочем, здесь дело в расхождении между русской и французской филологической и философской традициями. И можно напомнить, что такой постструктуралист, как Жиль Делёз, широко пользуется терминами «дословесный образный материал», а два тома своего труда о кино он назвал «Образ-движение» и «Образ-время». В этом труде Делёз критикует Пьера Паоло Пазолини и Кристиана Метца за чрезмерную «семиотичность» их взглядов и противопоставляет категорию «видимого» категории «высказываемого». В том же духе Мишель Фуко неоднократно цитировал изречение Мориса Бланшо: «О том, что видят, не говорят; говорят о том, чего не видят»[3]. Все это – косвенные аргументы в пользу живучести традиции, к которой причисляется и Башляр (имеется в виду традиция, не отождествляющая мышление и язык, а разводящая их, а также традиция, согласно которой восприятие есть дословесное схватывание).
А теперь несколько слов о пресловутой «старомодности» Башляра. На его вкус, одной из наиболее высоко оцениваемых характеристик любого феномена является его соразмерность человеку. По его собственным словам, Башляр не обращается к образу океана, так как океана, ввиду его гигантских размеров, вроде бы и не существует. Поэтому героини книги Башляра о воде – мелкие речки французской провинции. По аналогичным причинам, обращаясь к героям-альпинистам, он упоминает не покорителей Джомолунгмы или Килиманджаро, а «классиков» восхождения на вершины Французских Альп. Его героями здесь не могут быть современные альпинисты вроде новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпы Тенцинга Норгэя (которые, впрочем, взошли на Эверест спустя несколько лет после написания книг, о которых идет речь). Башляр воспевает именно альпинистов первой половины XIX века – организатора первого восхождения на Монблан швейцарца де Соссюра и многократно упоминавшегося во французской литературе знаменитого горного проводника Бальма. По иронии судьбы философ ни в одной своей работе ни словом не обмолвился об основателе современной лингвистики Фердинанде де Соссюре, зато он воздает должное заслугам другого – совершенно забытого – представителя того же знатного швейцарского рода… Еще одна любопытная подробность: описывая любительское увлечение альпинизмом Дж. Рёскина, цитату из него Башляр приводит в переводе Пруста. Это единственное упоминание имени Пруста во всей Поэтике Стихий, притом, что трудно найти какого-либо современного французского литературоведа, который не опробовал бы свою методологию на романах Пруста.
Башляр жил в мире, где Страсбургский собор был высочайшим зданием Европы (несмотря на проникновенное описание этого шедевра архитектуры, деревенские церкви, по его мнению, куда соразмернее человеку). В последней части Поэтики Стихий философ шлет проклятия шестиэтажным парижским домам, где ему приходилось жить, ибо грезить как следует можно лишь в двухэтажных домиках с погребом и чердаком. По той же причине у Башляра нет ни единого упоминания автомобиля, паровоза или кинематографа: либо они не способствуют грезам, либо ему просто не попадалась литература, где бы эти общепризнанные достижения технического прогресса упоминались в удобном для его методологии контексте. Правда, есть и исключения: в книге «Грезы о воздухе» Башляр с тонким проникновением в психологию летчика комментирует взлет гидросамолета из книги Экзюпери «Земля людей», а в «Земле и грезах воли» сетует на отсутствие литературных грез о металлах, применяемых в современной промышленности, например об алюминии… Таким образом, архаизаторские черты мира, предстающего перед читателями Башляра, причудливо перемешаны с ультрасовременными.
Однако было бы упрощением считать, будто в своей ипостаси ученого философ улавливает все новое, что появляется в мире, а становясь художником, запирается в башню из слоновой кости и не хочет слышать ни о чем, кроме собственных грез. Книги о воде и воздухе, созданные в годы Второй мировой войны, написаны гораздо более взволнованно и патетично, чем вышедшие в 1947 г. книги о земле, отличающиеся большей систематичностью, а также плавностью стиля. Возможно, все они представляют собой как бы зашифрованные свидетельства, где за кадром запечатлены события, потрясавшие в сороковые годы Европу и мир. И все же по книгам о земле трудно составить себе представление о чаяниях послевоенной Европы и о том, как бился пульс «внешнего» мира. Можно разве что сделать вывод о популярности финского эпоса «Калевала», выдержавшего несколько изданий в нескольких французских переводах в первые послевоенные годы, да еще узнать, что во Франции издавались антологии поэзии русского символизма и существовал определенный интерес к творчеству А. Блока и А. Белого…
В заключение попытаюсь охарактеризовать некоторые черты стиля Башляра. На мой взгляд, стиль – главное достоинство этого автора. Неповторимая мелодика фразы, продуманность всех ее деталей – от уравновешенности придаточных предложений до расстановки ритмических пауз – все работает на создание целостного художественного эффекта. Совокупность художественных средств философа часто производит впечатление убаюкивания или покачивания на волнах. В отличие, к примеру, от Хайдеггера Башляра нельзя назвать создателем дискурса, но его écriture — одна из самых неповторимых во французской эссеистике, а возможно, даже и во французской прозе XXв. Он – достойный представитель жанра rêveries, к которому среди прочего относятся «Прогулки одинокого мечтателя» Руссо.
Вышло так, что, работая над книгой Башляра, я одновременно читал написанную примерно в те же годы «Философию новой музыки» Т. Адорно. Невольно пришлось сравнивать стили двух авторов, и в результате этого случайного сопоставления обнаружились их некоторые контрастные черты. Например, у Башляра всегда идет внутренний диалог с читателем, к которому он часто обращается по самым различным поводам, а говоря о себе, Башляр употребляет местоимение «я» и авторское «мы». У работающего в гегельянской традиции Адорно нет ни одного обращения к читателю, а о себе он говорит в двух или трех местах и называет себя в третьем лице – автор. Башляр намеренно приоткрывает для читателя процесс своей работы над изучаемыми им книгами, он именно показывает, как он их прочитывает, тогда как Адорно «заранее все прочитал» и выстроил свою систему до последнего кирпичика. Более полярные способы подачи материала трудно придумать, и каждый читатель выбирает себе традицию по сердцу. И все же хочется верить, что, несмотря на свою мнимую эзотеричность, Башляр обретет в России большую читательскую аудиторию.
Б. М. Скуратов
Предисловие к двум книгам
Материальное воображение и воображение высказанное
Всякий символ обладает своей плотью,
всякая греза – собственной реальностью.
Оскар-Владислав де Любич-Милош[4], «Посвящение в любовь»IПеред читателем – состоящее из двух книг четвертое исследование, посвящаемое нами воображению материи, воображению четырех материальных стихий, которые философия и науки древности, как и продолжающая их алхимия, ставили в основу всего. В наших предыдущих книгах мы попытались подвергнуть классификации и изучить в глубину образы огня, воды и воздуха. Осталось исследовать образы земли.
Эти образы земной материи в изобилии предстают взору в мире металла и камня, дерева и смол; они устойчивы и спокойны; мы видим их вблизи, ощущаем на ощупь – как только мы предаемся страсти к их обработке, они начинают пробуждать в нас мускульные радости. Стало быть, остающаяся на нашу долю задача образной иллюстрации философии четырех стихий кажется легкой. На первый взгляд, переходя от позитивного опыта к эстетическому, мы можем на тысячах примеров продемонстрировать страстный интерес грез к прекрасным твердым телам, непрестанно «позирующим» у нас на глазах; интерес к прекрасной материи, преданно повинующейся творческим усилиям наших пальцев. Но между тем, встречая материализованные образы «земного» воображения, наши тезисы о материальном и динамическом воображении сталкиваются с бесчисленными трудностями и парадоксами.
И действительно, видя картины огня, воды и неба, грезы, ищущие субстанцию под эфемерными обличьями, совершенно не блокировались реальностью. Тогда мы занимались поистине проблемой воображения; речь шла именно о том, чтобы грезить глубины субстанции в живом и разноцветном огне; глядя на текучую воду, мы должны были обездвижить субстанцию этой текучести; наконец, когда бризы и полет давали нам советы легкости, нам следовало вообразить в самих себе субстанцию этой легкости, субстанцию воздушной свободы. Словом, материя, несомненно, реальная, но неплотная и текучая, требовала воображения вглубь, при сокровенности субстанции и силы. Но когда мы имеем дело с субстанцией земли, материя дает столько позитивного опыта, а форма ее настолько неопровержима, очевидна и реальна, что мы почти не понимаем, как можно придать телесность грезам о сокровенности материи. Как писал об этом Бодлер, «чем больше внешняя непреложность и твердость материи, тем тоньше и кропотливее труд воображения»[5].
В общем, когда мы воображаем земную материю, вновь оживляется наш долгий спор о функции образов, и на этот раз наш противник орудует бесчисленными аргументами, а его главный тезис кажется непобедимым: с точки зрения философов-реалистов, какими является большинство психологов, именно восприятие образов обусловливает процесс воображения. Они полагают, что сначала мы видим вещи, а потом уже их воображаем; с помощью воображения мы якобы сочетаем фрагменты воспринятой реальности и воспоминания о реальности пережитой, но не можем достичь царства глубинно творческого воображения. Ведь для богатства комбинаций следует многое повидать… Совет хорошо видеть, составляющий основу реалистической культуры, без труда перевешивает наш парадоксальный совет хорошо грезить, грезить, сохраняя верность ониризму архетипов, укорененных в человеческом бессознательном.
Между тем в настоящей работе мы собираемся заняться опровержением этой четкой и ясной доктрины и на территории, менее всего нам благоприятствующей, попытаемся укрепить тезис, подтверждающий изначальный и психически фундаментальный характер творческого воображения. Иными словами, на наш взгляд, воспринятый образ и образ созданный представляют собой две весьма несходные психические инстанции, и для обозначения воображаемого образа необходим особый термин. Все, что написано в руководствах по воспроизводящему воображению, следует относить на счет восприятия и памяти. У творческого воображения совершенно иные функции, нежели у воспроизводящего. К нему относится функция ирреального, психически столь же полезная, сколь и функция реального, весьма часто упоминаемая психологами для характеристики адаптации духа к реальности, проштампованной социальными ценностями. Эта-то функция ирреального и наделяется ценностями одиночества. Общность грез – один из ее простейших аспектов. Но мы увидим и массу других примеров ее активности, если пожелаем последовать за творческим воображением в его поисках воображаемых образов.
Поскольку грезы всегда рассматриваются в аспекте некоей разрядки, эти видéния четкого действия, которые мы назовем грезами воли, часто недопонимались. К тому же, когда реальное рядом, во всей своей силе, во всей своей земной материи, мы с легкостью можем уверовать, будто функция реального устраняет функцию ирреального. И тогда мы забываем о бессознательных импульсах и об онирических силах, непрестанно изливающихся в сознательную жизнь. Итак, нам следует удвоить внимание, если мы хотим обнаружить перспективную активность образов и поместить образ даже впереди восприятия, сделав его приключением восприятия.
IIМы считаем, что дискуссия об изначальности образа, в которую мы втягиваемся, немедленно проявляет свой решающий характер, ибо жизнью, свойственной образам, мы наделяем архетипы, а их активность показал психоанализ. Воображаемые образы представляют собой не столько воспроизведения реальности, сколько сублимации архетипов. А так как сублимация является в высшей степени нормальным динамизмом психики, мы можем показать, что образы возникают в сугубо человеческих глубинах. Итак, мы скажем вместе с Новалисом: «Из творческого воображения следует выводить все способности, все виды деятельности внешнего и внутреннего мира»[6][7]. Как лучше выразить то, что образу присуща двойная реальность: психическая и физическая?! Именно через образ воображающее существо и воображаемое бытие более всего сближаются. Человеческая психика обретает свои первозданные формулы в образах. Цитируя эту мысль Новалиса, мысль, являющуюся доминантой магического идеализма, Спанле напоминает, что Новалис желал, чтобы Фихте считался первооткрывателем «трансцендентальной Фантастики»[8]. И тогда воображение обрело бы собственную метафизику.
Мы не смотрим на вещи с такой высоты, и нам будет достаточно обнаружить в образах элементы некоей метапсихики. Нам кажется, что именно к этому в своих прекрасных трудах стремится К. Г. Юнг, открывающий, например, в образах алхимии воздействие архетипов бессознательного. В этой сфере у нас есть масса примеров того, как образы становятся идеями. Мы, стало быть, сможем рассмотреть целую промежуточную область между бессознательными импульсами и мелькающими в сознании первообразами. И тогда мы увидим, что процесс сублимации, с которым имеет дело психоанализ, представляет собой фундаментальный психический процесс. Благодаря сублимации развиваются эстетические ценности, предстающие перед нами как необходимые для деятельности нормальной психики.
IIIОднако же, поскольку мы собрались ограничить нашу тему, отметим, почему в наших книгах о воображении мы довольствуемся анализом литературного воображения.
Прежде всего на основании компетенции. И претендуем мы лишь на компетентность прочтения. Мы считаем себя только читателем, только книжником. И проводим часы и дни за медленным, строка за строкой, чтением книг, что есть силы сопротивляясь увлечению самими историями (т. е. отчетливо осознанным частям книг), чтобы увериться в том, что мы добрались до образов-новинок, до образов, обновляющих архетипы бессознательного.