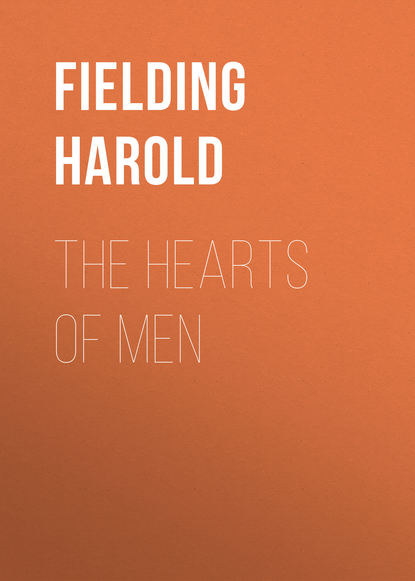ПТСР. Pt. 2

- -
- 100%
- +
Это не кино. Там, в кино, всегда есть граница кадра. Здесь – нет. Вся моя видимость – без полей. Широкий, растянутый горизонт, а сверху – низкое небо, как крышка перевернутой миски. Очки и маски сняты, но все равно тускло – потому что сами глаза еще не договорились, что увидят. Я двигаюсь, как всегда: криво, осторожно, без спешки, потому что спешка рвется на звуки. Я знаю – внутри меня есть коридор для каждого звука. Если их пустить одновременно, они забьют друг друга, как бойцы в узком проходе.
Имя. Первое, что приходит, – не мое. «Леха», – говорит кто-то – как хлопает маленькая дверь на кухню, – легко, обычным голосом. Я оборачиваюсь, но вижу не его, а себя – там, где меня не должно быть: на шаг впереди, чуть согнувшись, как будто не поверил, что земля пустая. Он оглядывается, и я понимаю: это не он, это – тот, другой – «ночной» я. У меня для него нет имен. Он – как беспозвоночное в банке с формалином: сохраняется лучше всех. Мы не здороваемся. У нас нет протокола на это.
– Идем? – спрашивает он, наклоняя голову. Губы у него в темноте без цвета. Глаза – черные, но не пустые. Внутри черного – блеск, как рыбья чешуя при тусклом свете.
– Куда? – спрашиваю я. Мой голос звучит так, как если бы я его услышал через помехи.
– Внутрь. Есть дверь.
Двери во сне – как молчаливые собаки: не гавкают, но всегда рядом. Мы идем вдоль неглубокого рва, потом вдоль дороги, где нет никаких машин, но в пыли отпечатки шин – свежие. «Недавнее прошлое», – думаю я, и эта мысль звучит как официальная формулировка. Воды – никакой, но все влажно так, будто только что кто-то обрызгал мир из зеленого шланга. Ураган проходит по внутренним проводам, но снаружи – неподвижность.
Дверь действительно есть. Она стоит просто в поле, без стен, как декорация на плохой сцене. Деревянная, тяжелая, с малюсенькой прорезью вместо глазка. Вокруг нее – воздух, да легкая пыль. На ее поверхности – сеть трещин, и эти трещины… эти трещины похожи на те самые карты, что висели однажды у нас в комнате: толщина линий то и дело меняет смыслы; одна и та же площадь становится то «сопка», то «высота», то «пятачок». То, что карта – это всегда про высоту, а не про длину дорог, я понял поздно.
Я кладу руку на ручку, холод жалит ладонь – привычно. Изнутри тянет влажно-теплым, как из комнаты, где сушится белье. Он – рядом, «ночной» я, – и молчит. Никаких советов. У нас почти всегда так: он меня доводит до порога, а дальше – я. Иногда я завидую ему: он никогда не стоит в дверях. Он либо внутри, либо снаружи. Ему не нужно сомневаться, он сомневается мной.
– Откроешь – не вылезешь, – говорю я себе. И понимаю: сутки состоят из множества этих дверей, и я устал от одних и тех же перегибов по одной и той же линии.
Я поворачиваю ручку. Дерево скрипит так, как скрипят зубы, когда ты их держишь в замке. Дверь распахивается без сопротивления. За ней – не поле. За ней – коридор.
Этот коридор я видел сто раз и ни разу не видел одинаково. Он длинный, с редкими лампочками, подвешенными на длинных проводах, и свет у них – тот, который болит в глазах: желтый, вялый, с отливом, похожим на жир на поверхности супа в солдатской столовой. Пол – линолеум, по которому когда-то долго ходили, и он запомнил эти ходы. Стены – то пыльные, то влажные, то с затеками, как на простыне после плохого сна. Двери – без номеров. И каждая – дышит.
– Здесь безопаснее, чем там, – говорит «ночной» я так, словно мы обсуждаем вкусы. – Но страшнее, чем «здесь».
«Здесь» – это моя квартира. Но и моя квартира – тоже коридор, если убрать привычный звук холодильника и щелчок старого выключателя. Никто не обещал, что жизнь перестанет быть проходом.
От одной двери тянет спиртом и бинтами. Мне хочется туда – жажда к точности, к больнице как к самому честному месту мира. Я знаю, что за ней – рука на белой простыне. Я знаю, что она шевельнется – на миллиметр, – и я услышу голос: «Не задерживайся». Это там, где я всегда плачу не слезами, а тем самым внутренним сжатием, от которого клавиши ребер становятся звонкими. Я медлю. Я отхожу в сторону.
Другая дверь пахнет суриком, металлом и табаком. Там – пустой бокс, тень серии, «разбор полетов» без полетов. Там я снова и снова пытаюсь повернуть время так, как поворачивают ключ в часах: стрела же так просто движется на месте. Я знаю: там меня ждет рой «если бы», и этот рой кусает хуже пчел – не оставляет следов, но отнимает силы.
Еще одна – пахнет мелом. И меня ломит туда – не потому, что я люблю мел, а потому что мел – как маленькая белая ложь, которую можно стирать. Это дверь в класс, на доске – всегда одно и то же слово: «Зачем». И я каждый раз пишу ответ – мел ломается, руки белеют, слова тают, как если бы мел был льдом. Я люблю эту дверь, потому что она обещает честную ошибку. На охоте за честностью я стал хорош.
Но я иду дальше. Потому что я уже слышу – иначе. Не запах, а звук. Шелест бумаги в архиве, которого я не видел никогда, но который во мне – как запасной легкий. Фотографии шевелятся в воздухе, не касаясь стола. Это те фотографии, которые я раскладывал и клал обратно, пока их края не стали мягкими, как ткань. А они все равно – живут своей жизнью. Это дверь, где лежит маленькое черно-белое: мальчик с тонкими руками держится за перила. Он – я. Но не я. Он – тот, кого я иногда называю «первый». Или «незнающий». Он смеется, потому что самолет в небе – символ праздника. Я иногда пытаюсь объяснить ему: самолеты другие – прилетят не за нами, а над нами. Но он ждет. И его ожидание – мой костыль.
– Если зайдешь – застрянешь, – шепчет «ночной» я. – Не потому, что ты слабый. Потому что там – липко. Пойдем дальше.
Мы идем дальше. Свет трубочек гудит, как нити в старой лампе. Издалека тянет водой. Это странно. Вода – уже была. Но там – другая. Там – кран со стонущей прокладкой, которая называет время по каплям. «Ты же любишь воду, – усмехается „ночной“. – Только не тонуть в ней». Он радуется, когда я злюсь. Злость – это, кажется, единственная эмоция, которую он уважает: она – похожа на ясность.
Я не заметил раньше: на одной двери – царапина, похожая на букву. Нельзя сказать, какая это буква: «Я», «И», «Л» – всё сразу и ничего. Я пробую ногтем – дерево отзывается сухо. «Скажи пароль», – привычно предлагает «ночной». Эта его традиция – стара, как трещины на моих ладонях. Он заставляет меня произносить вслух то, чего я избегаю. Слова хрустят у меня в горле, как раздавленные орехи.
– «Я здесь», – не думая, говорю я. И коридор – чуть-чуть – меняется. Это слово всегда дает ему форму. Коридор становится уже и длиннее. Кто-то в конце кашляет – я узнаю этого воображаемого соседа. Он живой – и этого достаточно, чтобы стало страшнее.
Дверь поддается. За ней – не комната. За ней – зеркало. Но не просто зеркало – вертикальная поверхность воды, в которой отражение – не устаёт. Рама – темная, ободранная. Стекло – не запотело. Это неправда: стекло всегда потеет, если на него дышать. Значит, здесь – нет дыхания. От этого легче. Или хуже.
Подхожу. Он – там. Я – другой. Его рука лежит у щеки так, будто он примеряет тепло к коже. Лицо – не мое. Или слишком мое. Я знаю эти мелкие разрезы по лбу, эти складки у глаза. Они появились, когда я решил никогда не выступать в свою защиту.
– Давай не будем притворяться, – говорит он мягко. – Ты сюда пришел не потому, что я позвал. Ты пришел, потому что снаружи – хуже. Ты надеешься найти в кошмаре мебель своего дома.
Я усмехаюсь. Это происходит редко – усмешка, а не улыбка. Но он прав. Снаружи – холодильник рычит как дикий зверь, стеклопакеты звенят как провода, почтовый ящик стонет раз в день – от бумажного веса. И каждый из этих звуков – не лучше артиллерии, потому что к артиллерии прилагалась форма причин связи. К быту – нет.
– Я устал не спать, – говорю я. – Но я боюсь снов.
– Ты не боишься снов. Ты боишься в них оставаться, – поправляет он – как всегда. – Потому что там ты – честнее. А честность требует держать дыхание.
– Сколько? – спрашиваю я.
– До десяти. Или пока не перестанешь считать в надежде, что счет – спасает. Счет – только мост. Но он не приводит, если по нему не идти.
Мы стоим перед зеркалом. Наши нервы работают по очереди. Он показывает мне, как скользят звуки по стеклу. Как слово «помоги» кажется собачьим лаем, если слушать его издалека у двери с плохой ручкой. Как слово «постой» превращается в «пустой», если не успеть. Как «я здесь» становится «я исчез», если зажмуриться слишком крепко.
– Ты все время спрашиваешь: проснуться или остаться? – продолжает он, а его голос – не его – голос классной учительницы, голос врача, голос гражданской жизни, раздерганной на мелкие служебные голоса. – Ты так и не понял: ты не выберешь. Тебя выбирает звук. Просыпается – не ты. Просыпается дверь. И спится – не тебе. Спится этим коридорам. Ты проводник, и тебе нужно меньше командовать себе.
– Ты хочешь, чтобы я отдал командование? – я прищуриваюсь.
– Нет, – спокойно. – Я хочу, чтобы ты перестал играть в начальника единственного человека, которого ты можешь уважать без бумаги.
Я смеюсь тихо и устало. Вода за стеной – знобит, как зуб под пломбой. Я вспоминаю: в ванной кран не до конца перекрыт. Капля падает раз в определенное время – как будто кто-то в соседней комнате проверяет пульс. Я слышу этот капельный метроном во сне. И в бодрствовании. Он связывает два мира. Он – веревка. Я держусь за нее страшно – как за простыню, из которой вылезают видения.
Он кивает – будто прочитал вслух то, что я и без него знаю. Я спрашиваю – наконец сам:
– А если я останусь? Целиком. Прямо сейчас. Поставлю здесь палатку, прикручу фонарь, разведу огонь, повешу фотографию – твою, свою, Лехину…
– Он придет, – перебивает «ночной». – И скажет: «Не задерживайся». Ему важнее, чтобы ты шёл. Ему никогда не нравились лагеря.
– Реальность – тяжелей, – произношу я вслух, словно подписываю приговор. – Она требует денег и документов, звонков и объяснений. Она требует выдерживать человеческие взгляды – реже врагов, чаще соседей – и это хуже любого «огня справа». Во сне – я хотя бы знаю, куда прятаться. В яви – прятаться некуда. Каждый подъезд – трибунал, каждая очередь – разбор.
– Значит, выбираешь зависнуть, – сухо говорит он. – Полудрема то и хороша для тебя, что она с двух сторон. В ней можно останавливать дыхание, не рискуя потерять сознание. Но от этого печень не станет печенью другого человека. Она останется твоей. Выходит, надо научиться стоять на этой границе, как на мосту. Мост – не место для палатки. Мост – место, чтобы перейти.
Я думаю: мосты. Они дрожат, когда по ним идут тяжелые машины. Их строят, как швы, чтобы соединить разрезанное. В нас самих – тоже мосты. Между днем и ночью, между войной и кухней, между «я останусь» и «я уйду». Мосты иногда рушатся. И мы падаем в воду. Если знаешь, как дышать в воде, – выживаешь. Если нет – богатый флорой и фауной речной мир заливает легкие настоящим. А настоящего иногда – слишком много.
– Скажи, – шепчет он. – Сам себе. Как в рацию: «Держать». И держи. Держи этот тонкий край: не засни насовсем и не просыпайся в панике. Держи – пока ночь делает своё – не доброе и не злое – дело: растворяет. В растворе всегда цедится то, что не растворяется. Вот что нам нужно. Этот осадок – наш белок. Им будем жить.
Я стою и держу. Ладони на краю рамы зеркала – проще понимать границы, когда касаешься. Дышу через счет. На «три» в голове громыхает – я вижу вспышки, как на внутренней стороне век кто-то катает стеклянные шарики. На «пять» звучит трава – да, у травы есть звук: она не шуршит – она звонит, когда по ней проведешь костяшками пальцев. На «семь» приходит запах: тот самый, от которого воротит желудок, – смесь крови и железа, но без крови, а железо без магнита. На «девять» – шум воды. На «десять» – тишина.
В тишине наконец-то произносится имя. Не я – оно. «Леха», – как будто кто-то за моей спиной сказал – просто: «Ты тут?» Тень моего друга встает не из стены – из желудка. Она теплая. Она держит меня за рукав – не тянет, нет, – просто держит, как чтобы мы не потеряли друг друга в толпе. Он ненавидел толпу. Я тоже. Мы в ней становились невидимы друг другу. В толпе страшнее, чем под «бах»: там не знаешь, где рядом.
– Ты меня слышишь? – спрашиваю я.
– Всегда, – отвечает он. Или мне кажется. Я устал выяснять, где мои слова, где – эхо, где – мысль. Внутри сна слово может быть действием. Я опасаюсь случайно командовать тем, чего боюсь.
– Я не задержусь, – говорю ему. – Я знаю, ты был бы недоволен, если б я сел на табуретку посередине коридора и залип.
– Я не вмешиваюсь, – отвечает он. Или «ночной». В этом месте их голоса сходятся, как две ведущие в одну дорогу. – Но, если ты выбираешь – выбирай не против себя. Если страшно там – и страшно тут – ищи место, где страх – тише. Иногда «тут» – это кружка кофе, а «там» – чистая вода. Иногда наоборот. Сегодня – проверим.
Он исчезает. Не в смысле «исчез». Он раскручивается, становится спиралью в воздухе и уходит в другую комнату. Зеркало чуть темнеет, как если бы на улице прошла туча. Я слышу речь – как во дворах слышат телевизоры: чужая кухня, чужая дерзость, чужая ругань. Я слышу формулы: «вдох, задержка, выдох». Это кажется зарядкой для снов.
Я отступаю от зеркала. Коридор меня принимает. Двери опять – по обе стороны, по обе половины. Я иду – туда, где пахнет мелом. Мне сегодня необходима доска. На ней – мое «зачем», как недопитый чай. Я беру кусок мела – рука сразу белеет. Пишу крупно – так, чтоб можно было прочесть издалека: «Я – тоже человек». Одно это письмо – как снять сапог: становится легче, но идти босиком – больнее. Мел ломается. А я – нет. Мел можно взять новый. Себя – не поменяешь как инструмент.
Шорох фотобумаги тянет дальше. Память – бумажная, и у нее есть громкость. Сегодня она – небольшая. Это приятно. Когда она громкая – она хрустит на всю голову. Я беру маленькую карточку – мальчик у перил. Я знаю этот двор – не знаю, откуда. Может, из чужого альбома – трюк. Я говорю мальчику – это моя привычка, от которой меня воротит, но без которой я распадаюсь:
– Самолеты – это не свобода. Самолеты – это приближение. Не смотри вверх, когда гул. Смотри под ноги. Там – живые.
Мальчик усмехается. Это я смеюсь. Хорошо. Значит, мы делаем какое-то дело: передаем самому себе инструмент – лапидарный, тупой, но необходимый. «Где конверт?» – спрашивает «ночной» из тени. Я киваю. Бумага, ручка, письмо. Коротко – без объяснений и перечислений, просто «здравствуй». Я напишу – потом. Я ещё держу мост.
Звуки возвращаются – не те. В коридоре – дверь, которая пахнет теплом кухни и железным ключом. Это дверь – сюда. В мою квартиру. Вывесок нет. Я узнаю ее по тому, как она слушает. Она слушает меня, когда я молчу. Это всегда приятно – кого-то, кто предпочитает тишину звуку. Я беру ручку. Нащупываю монету в кармане – ту самую, десять рублей, круглая, как слово «ноль». Я помню – ее место под ковриком. Привязка. Я верну ее. Привязки – то, что удерживает от полета лицом вниз.
Тело помнит квартиру: где нажать, где повернуть, чтобы не скрипнуло. Я выбрал себе маршрут «на пальцах», как вор. Он тихий – и от этого страшнее. Я иду в кухню. Включаю свет – желтый, милующий глаза. Кружка – с коричневой полосой вчерашнего дня. Вода – теплая – льется недолго, чтобы не тратить. Кофе – на ладонь. Каждое зерно – как гравий дороги, по которой мы ушли тогда. Я высыпаю его в воду. Пар поднимается, и в нем – привкус надежды. Я не люблю слово «надежда». Оно слишком часто путается у нас под ногами, как провода на плацу перед проверкой. Но сейчас – я позволю себе. Маленький глоток. Тепло сбивает неровности. Внутри – становится тихо. Не пусто. Тихо – как рано утром на станции, где еще никто не проснулся по-настоящему, и можно услышать, как дышит железо.
Тени… Я на секунду забываю, что они были в комнате, когда я вырвался из сновидения. Я бросил их там. Они ждут – как собаки на пороге – не хозяина, нет. Запах. Они лизжут мои пятки, когда я иду. Они – мои. Мне придется их кормить. Корм для теней – это слова, простые, как хлеб. «Я здесь». Это не заклинание. Это – счет. Счет к человеку. Я говорю вслух: «Я здесь». На кухне становится теплее.
Зеркало в ванной шевелится – или мне кажется. Вода капает. Капля превращается в камертон. Я тянусь и подкручиваю кран – осторожно. Капля делает паузу. Потом – еще одну. Слишком длинную. Я нервничаю, и это – хорошая новость: значит, я жив. Мертвые – не нервничают на пуантах.
Я возвращаюсь к зеркалу в коридоре – старому, с потемневшим краем. Оно всегда показывает меня чуть чужим, как если бы я подошел к ограде чужого дома и увидел в стекле чужое лицо, в котором – я. Я подхожу ближе. Губы мои – белые. Глаза – хлебные. Я не улыбаюсь. Я просто делаю то, чему меня учил «ночной»: терплю свой взгляд. Удержать глаза – трудно, как удержать ручку, раскаленную от чужих касаний. Я говорю этому мужчине: «Здравствуй». Смешно – слышать свой голос и не знать, как к нему отнестись. В ответ – не ухмылка. Выдох. Он тоже говорит: «Здравствуй». Мы договорились.
А ночь… Ночь тем временем делает свою работу. Она уравнивает углы, сглаживает границы. В полудрёме каждый звук чуть-чуть растягивается. Шаги – из соседней комнаты – как будто начинают идти обратно. Треск старой доски – становится речью. Иногда слышно: «Помоги». И каждый раз этот звук – как рыба, на которую клюешь без оснастки: в ладонях вода, а ты уверен, что держишь серебряное, живое. Сегодня – тоже. Из спальни – треск. Из спальни – шаги. Из спальни – шуршит, как будто бумага, которой нет. Я иду туда. Подхожу к двери – и чувствую, как ладонь покрывается потом. Поворот ручки – медленный, контрольный, как если бы я проверял не ручку, а свой собственный пульс. За дверью – пусто. Это всегда одновременно облегчение и унижение. Облегчение – потому что «никого». Унижение – потому что «никого», а ты – услышал.
Закрываю. Стою, как в эвакуации: не шуметь, дышать, слушать. Это «помоги» звучит уже не как просьба – как привычка. Я в какой-то момент понял: он, тот, кто просит, – не Леха. Он – я. Та часть, которая застряла между «уходи» и «останься». Она мечется, как птица, ударяясь об стекло. Я хочу открыть окно, но не открываю – знаю: иногда птицам лучше переждать, чем улететь через стекло. Приручение – слово, которое раньше пахло ветеринаркой, теперь – мой будничный труд.
Возвращаюсь на диван – не ложусь. Я садился так сто раз – тысячи. Я знаю, где у дивана провал, и обхожу его локтем, словно в нем – ловушка. Город снаружи дышит. Воздух – не холодный и не теплый. Воздух – механический. Его качает устройство, о котором я мало знаю. Он проходит через меня без оценки и без предупреждения. Я сижу и считаю снова: «Раз, два». До чего? До того, пока звук за стеной не перестанет казаться угрозой.
Я устал. Но «устал» – неправильно. Усталость – как покров. У меня – другое: я – как крышка кастрюли, натянутая на шум, и меня выгибает паром изнутри. Я держусь за ручку. Простые вещи: тёплый стакан, холодный ключ, шершавая монета, бумага. В полудрёме это – знаки, по которым мир возвращает мне ориентиры. В поле боевом ориентиром был ближний разрыв – по нему и разворачивались. В поле домашнем ориентир – тень пальца на столе. Я учу себя снова: от маленького – к большому.
Я снова иду в коридор – положить монету под коврик. Эти ритуалы – как крошки для птиц: кажется, нет никого, кто придет, а ты всё равно – насыпал. И вдруг – под ковриком – бумага. Я уже видел ее раньше. Сегодня – снова. Мой почерк – чуть наклонный, неуверенный, но не слабый. «Здравствуй, мальчик», – читаю я. И дальше – простые, слишком простые слова: «Ты сделал, что мог. Я – тоже. Этого – достаточно на сегодня». Я улыбаюсь – не тому, что написал, – тому, как неуклюже я обошелся с простотой. Простые слова всегда стесняются. Они краснеют. Их нужно поддержать, как под локоть.
Я прячу письмо обратно – под коврик. Монета – сверху. Привязка. Связи – важнее ключей. Ключи – металл. Связи – воздух. Без воздуха – ключ не провернется.
Внутри сон – не спит. Он – ждёт. Он терпеливее меня. Он – как враг, который не умнее, но выносливее. Я возвращаюсь к зеркалу: оно – моя старшая ступень. Там – я. И тот, который умеет говорить страшные вещи спокойным голосом. Он смотрит на меня непреклонно, без командира, без дружбы – с согласием. Иногда мне кажется, что больше всего на свете мне не хватало бы одного – взгляда без оценки. Он звучит как «я вижу, что ты есть». Это слово – «есть» – сменщик «жив».
– Проснешься – будет труднее, – говорит «ночной». – Там – люди. Здесь – ты. Всё, что люди требуют, – попадать в их ритм. А у тебя – свой. Он не совпадает. И не будет совпадать. Придется учиться говорить «доброе утро» так, чтобы это было и правда – доброе.
– А здесь? – спрашиваю я. – Здесь, внутри сна, – ведь тоже люди, только не те?
– Здесь – тени людей. Они – проще. Они все – про одно. Они не требуют от тебя посуду помыть, позвонить тете, ответить на письмо. Они требуют одного: быть честным с ними. С живыми – сложнее. Тебя это бесит. Но бейся здесь. Там – тише.
Я киваю. Я знаю: где-то завтра утром я скажу «доброе утро» в лифте, выдержу взгляд, не упаду в сторону. И пойду к киоску за хлебом. У женщины руки пахнут дрожжами. Я не отворачиваюсь. Ее глаза – не страшные. Просто усталые. Моя усталость у них – не хуже. Мы распознаем друг друга мгновенно – и от этого становится легче.
– Но это – завтра, – напоминает «ночной». – Сейчас – держи мост.
Мост – узкий: по нему нельзя идти вместе. Мы идем по очереди. Иногда он – впереди, иногда – я. Иногда мы идем параллельными, слишком близкими тропами, и плечи задевают друг друга. Тогда мы ссоримся. Он смеётся, когда я говорю «я виноват». Он, кажется, верит, что чувство вины – мой любимый плед. Он иногда пытается отнять его, но я рву зубами. И он отступает: знает – голыми руками не отнять.
– Тебе хочется остаться внутри меня, – произносит он тихо. – В зеркале, в воде, в коридоре с лампочками. Это – как тюрьма с мягкими стенами. Мягкость – опаснее решетки. Решётка говорит «нельзя», мягкость говорит «останься». А тебе – нельзя оставаться. Не потому, что я строгий. Потому что тогда – ты меня кормить перестанешь. А я без еды становлюсь хищнее. Я буду шипеть у тебя в зеркале.
Я буду говорить «помоги». Я умею. Не злись. Это – эволюция.
– А если я проснусь? – спрашиваю я. – Сейчас, и уйду. Встану, пойду умоюсь, открою окно. Пусть войдет холод. Это – реальность. Она жесткая. Она ясная. Она не пахнет кровью – уже. Пахнет пылью. Пыль – честнее.
– Тогда – увидишь, – кивает он. – Что реальность – страшнее только пока ты на нее смотришь, как на комиссию. Перестань видеть в ней комиссию. У нее нет протокола. Ты его придумал. Выйди – без формы. Посмотрим.
Он исчезает легче, чем рука опускается с лица. Я остаюсь. Но я уже не один. Вот что важно себе признать: я никогда уже не один. Даже если бы я хотел – одиночество – роскошь. Мне не хватает рук, чтобы нести всех себя. Я несу себя и того, кто говорит «ночью», и того мальчика у перил, и Леху, который просит «не задерживайся», и женщину с дрожжами в руках, и девочку из соседского двора, которая никогда не посмотрит на меня с тем видом, на который я был подписан в другом мире. Я несу даже свою усталость – как мешок с песком. Это – мой вес. В полудрёме он кажется легче. В яви – тяжелей. Но без него я улетал бы при первом порыве.
Я выхожу на балкон. Это небезопасно – балконы ночью. Они, как палубы пустых кораблей, чуть наклоняются при каждом движении. Бетон тёплый, как ладонь, которая долго держала горячую кружку. Внизу – окна, окна, окна. Их много, они как соты. В каждой – своя ночная жизнь. Где-то – телевизор. Где-то – лампа и книга. Где-то – двое спорят о том, кто вправе оставить окно открытым. Где-то – никого, и от этого пустота там звенит. Я шепчу: «Доброе утро», хотя до утра еще далеко. Звук отваливается от губ, падает вниз, как птичье перо. Кому-то – попадет на плечо, и он подумает, что птица потеряла чуть себя.
Я возвращаюсь внутрь. Открываю окно. Воздух машет по щеке: в этом движении есть что-то почти нежное. Я – сложный к нежности. Я боюсь её. Она – как открытая дверь без таблички. Не знаешь: там теплота или ловушка. Но я – всё равно. Я хочу рискнуть. Это мой единственный риск, которого у меня хватает: открывать окна.
Темнота долго не отступает. Она просто меняет оттенок: становится более синей. Я снова у зеркала. Там – «ночной». Он хмурится. Ему не нравится свет. Я не торгуюсь.
– Когда станет темно, – говорит он, – повтори.
– «Я здесь», – отвечаю.
– И ещё, – добавляет он тем голосом, который похож на пули, когда они просто лежат в коробке: – «Я – с тобой». Ты всегда забываешь вторую часть пароля. От этого я становлюсь строгим. Я сам не люблю вторую часть – она делает слабым. Но это – ключ. Скажешь – и я отойду к стене.
– Постараюсь, – отвечаю я. Я не люблю обещания. Они всегда отражаются на внутреннем стекле, оставляя жирный след.
Он кивнул. И я – вышел. В кухне чайник начинает петь – с той самой выспренной «колыбельной», от которой по стенам бегут невидимые отражения пара. Я зажимаю уши ладонями – не потому, что шум – громкий, а потому что шум – напоминает. Нечем. Я снимаю чайник – не даю ему кричать. Я – никому не даю кричать. Это моя слабость. И моя сила. Я знаю, как держать крик между зубами. Научился ради себя. Но упражняюсь ради других.