Контрмодерн и границы идеализма
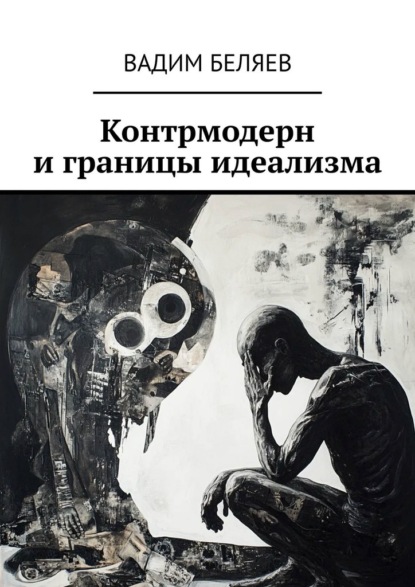
- -
- 100%
- +
Теперь представим, что на определенном этапе развития в культурах второго поколения созревает рефлексия, которая утверждает, что человек снова поглощен культурами и социальностью. Он снова противопоставлен друг другу так, как он был противопоставлен в освободительной логике евангелического христианства. Можно говорить, что воспроизводится тот же самый вызов, на который это христианство отвечало. Какой исторический рубеж можно выставить в качестве точки осознания вызова и ответа на него? Модерн, а точнее, эпоху Просвещения. Если попытаться найти в нем предельно обобщенное выражение пафоса, который мог бы сравниться с евангелическим христианским, то получится лозунг Великой французской революции: «Свобода. Равенство. Братство». Можно считать, что этот лозунг выражает новый вариант пафоса мировой освобождающе-объединяющей революции. И снова видно, что это новый проект мировой посткультурной революции, поскольку предполагается, что социально-культурные системы (как то, что сковывает свободу человека, его дух) должны быть демонтированы, и человечество может превратиться в мировую коммуну. Разумеется, что это предельно абстрактный вариант выражения идеологии Просвещения. Но он существует и создает логику постоянной «критики культуры», то есть критики социально-культурных систем с точки зрения их власти над индивидуальным человеком, его духом.
Итак, Просвещение предлагает свой вариант мировой посткультурной революции, революции на безрелигиозном основании. Религии в логике борьбы культур «второго поколения» дискредитировали себя как способ обоснования наличной несправедливой социальности и основание борьбы идеологических империй.
Что дальше происходит с просвещенческим вариантом освобождающе-объединяющей революции? Он, как и изначальное христианство, соединяется с логикой системной социальности. С одной стороны, идеология модерна несет в себе просвещенческий вариант указанной революции. С другой стороны, модерновые социальные системы демонстрируют свои варианты социально-культурного обособления и противопоставления друг другу. Если соединить это с остатками средневековья, то получится вполне четкое воспроизведение вызова: поглощение человека системами, которые можно назвать культурами «третьего поколения». В целом можно так назвать национальные государства. Апофеоз противостояния таких культур приходится на первую половину XX века (две мировые войны). Первая мировая война в максимальной степени является борьбой национальных империй. В результате распада этих империй образуются новые демократические государства. Формируется коммунистическая альтернатива капитализму. Она демонстрирует свой вариант идеологической империи. Вторая мировая война оказывается войной всех этих образований. Последующая холодная война становится борьбой внутри реализованного модерна, между его капиталистическим и коммунистическим вариантами.
Если представить всё это как глобальный жизненный вызов, который зафиксировала модернистская рефлексия второй половины XX века, то этот вызов в его предельном выражении является максимально тождественным вызову, на который отвечало евангелическое христианство и Просвещение. Это вызов поглощенности индивидуально-духовного социально системным и культурным. Таково постмодернистское состояние. Точнее сказать, таков тот вызов, ответом на который можно считать постмодернистское состояние. Если опираться на Лиотара и считать, что главным содержанием этого состояния является критика метанарративов, то это в целом описывает ответ на указанный вызов как постмодернистский ответ. Постмодерн в этом смысле можно рассматривать как предельную реализационную самокритику модерна. Постмодерн критикует модерн с точки зрения его исходных идеалов. А если исходным идеалом считать просвещенческий вариант мировой освобождающе-объединяющей революции, то постмодерн должен воспроизвести логику этой революции. Здесь можно увидеть симметрию между постмодерном и Реформацией. Реформация (как либерально-демократическая революция внутри католической миросистемы) была «критикой системы» и опиралась на анархистский пафос изначального христианства. Точно так же можно говорить, что постмодерн является либерально-анархической революцией внутри реализованной модерновой миросистемы, опирающейся на просвещенческий пафос мирового освобождения-объединения.
Вот здесь мы и получаем тот вариант «критики системы», который демонстрирует Мурзин. Надо обратить внимание на то, что Мурзин, хотя иногда и употребляет слово «Бог» рядом со словом «дух», не предлагает в буквальном смысле воспроизводить христианский вариант мировой посткультурной революции, но демонстрирует ее пафос. Я хотел бы акцентировать здесь слово «посткультурный». Это важно, так как это максимально акцентирует критическое отношение к социально-культурным системам и к системности как таковой. Для христианского варианта посткультурной революции всё понятно: есть единый всемогущий Бог, есть его нравственный закон, есть бессмертие души и посмертное воздаяние. Это вполне завершенная в своем составе онтология, на основе которой можно строить человечество как мировую коммуну. Для постмодернистского варианта не всё так просто. Для него нужно утверждать нечто более абстрактное и неопределенное в своем составе. Именно такое впечатление производят слова Мурзина в конце статьи: «Вопрос, как и раньше, что делать? Поить друг друга живой водой из ладоней. Что это за вода? Мышление и творчество, доброта и мужество, любовь и открытость миру». Это вполне постмодернистский пафос, на основе которого легко построить несколько коммун хиппи. Но во всём остальном этот пафос проблематичен.
4. Эволюция просвещенческого варианта мировой посткультурной революции у И. Канта и А. Смита
Для развертывания тезиса о проблематичности постмодернистского пафоса Мурзина можно вспомнить о том, какие метаморфозы прошел дух посткультурной революции у Канта. Последнего можно считать одним из идеологов Просвещения и тем теоретиком, который на своем примере показал проблематичность абстрактного варианта мировой освобождающе-объединяющей революции. В «Критике чистого разума» он расформировывает основания метафизического способа мышления, то есть того способа, которым до этого обосновывались культурные системы. Критика этих систем в своем предельном выражении должна приводить к условному контр-системному способу организации человеческого существования. Именно обоснование такого способа можно видеть в работе «Основы метафизики нравственности», написанной вскоре после «Критики чистого разума». Человек здесь освобождается от власти социальной системности и утверждается его существование на основании чисто морального закона. Этот закон Кант называет «законом свободы». Его выражением является этический категорический императив: поступай так, чтобы максимы твоей воли могли послужить основанием всеобщего законодательства.
Это практически полностью соответствует логике мировой освобождающе-объединяющей революции евангелического христианства. Нет только того, что задает универсум как теистический. Можно сказать, что Кант вычитает религиозное содержание из этой революции. Но таков лишь первоначальный шаг Канта. На втором шаге он понимает неподъемность своего предложения для обыкновенного человека (не героя этики). Поэтому в «Критике практического разума» он возвращает бытие Бога, бессмертие души и посмертное воздаяние. Религия оказывается способом сделать логику посткультурной революции более реалистичной. В последующих работах Кант возвращает очищенный разумом институт религии и социальности. Такова конкретная логика посткультурной революции: на первоначальном этапе она может быть предельно контр-системной, но на последующих этапах она возвращает системную социальность, хотя и в трансформированном виде. Мурзин, судя по его тексту, находится на первоначальном этапе постмодернистского варианта посткультурной революции.
Имеет смысл привести здесь и другой вариант логики отрицания, а затем возврата системной социальности. Это пример А. Смита. Он проделал путь, аналогичный пути Канта. Перед «Богатством народов» он написал работу по нравственной философии. Как и Кант, он старался обосновать либеральную революцию модерна чисто нравственным путем. Множество освобожденных индивидов можно организовать в конструктивное целое через моральное законодательство. Далее Смит проходит путь такого же понимания неподъемности этого для простого человека и совершает поворот к новому варианту социальной системности. Эту логику Смит и разворачивает в «Богатстве народов». Речь идет о «невидимой руке рынка». В чем суть этой концепции? Проблема в том, что атомизированный человек преследует свои жизненные цели, которые могут противоречить целям других людей. Как с этим быть, как согласовать их цели и выстроить так, чтобы получилась конструктивная жизненная среда? Ответ Смита состоит в том, чтобы построить систему разделения труда между индивидами и таким образом сделать реализацию интересов каждого через реализацию интересов других. Сапожник будет делать сапоги для булочника, а булочник будет печь булки для сапожника. Так построенная система деятельности и отношений в процессе деятельности будет заставлять каждого человека быть конструктивным по отношению к другим. В этом и состоит суть «невидимой руки рынка», принуждающей изначально эгоистического человека к сотрудничеству.
Как мы видим, от той точки, к которой пришел Мурзин, есть уже вполне прорисованный путь к новой актуализации проблемы социальности.
5. Мифологическая первоначальная эпоха и логика деятельностного развития
До сих пор я рассматривал только аннотацию и завершающую часть статьи Мурзина. Теперь пришло время посмотреть на ее начальную часть. Как это можно было предполагать, Мурзин прорисовывает первоначальную фазу логики «возвращения к утраченному раю».
«В мире, состоящем из одних сплошных „что“, появляется новая, небывалая вещь – „кто“. Она еще не знает, что к ней подводит долгий процесс развития жизни, что ее „кто“ в свою очередь состоит из невообразимого множества „что“. Возможно, бесконечно долгое время „кто“ потихоньку отлеплялось, выпутывалось из „что“. <…> „Кто“ – странная вещь, она помнит и ощущает себя сразу цельной. Она не осмысляет того, как сооружается, становится. Процесс ее формирования запрятан от нее. Лишь благословленным особо острым внутренним чувством дается ощутить себя в неполноте, в движении. <…> Все вещи живые, все личности, во всех затаились духи. Но духи это позже, это уже признак начавшейся дифференциации на субъект и… объект? Нет, не только. Куда важнее этой привычной оппозиции другая – оппозиция движущего и движимого, души и тела, живущего и жилища. Изначально в луче непосредственной ктойности вещь просто живая и личность. Лишь затем она усложнится – расслоится на оболочку и прячущееся в ней. Появится особое „что“ при „кто“. Постепенно оно расползется и полностью закроет собой „кто“. Постепенно дух будет все дальше отодвигаться от вещи, пока связующая их нить не порвется окончательно»8.
«С экологической точки зрения, мы видим наступление пустыни, воцарение образа бесплодной земли. Волшебная одушевленность сущего, знакомая нам по ранним мифам, ушла. Причиной тому либо вина самого сущего, либо грех и несовершенство человека, отлученного за это от мировой жизни. <…> Здесь у нас вместо жизни – мысль, дух. Это дух, ктойность проецировали себя на сущее, пронизывали его собой. А возможно, вообще его от себя не отделяли. Затем произошла естественная эмансипация. Сущее не отвечало той первой простой, непосредственной модели познания его, которую предположили наивная ктойность и воля к общению. Поэтому дух взял перерыв, чтобы переосмыслить свои подходы к сущему. <…> Новые образы овладели сознанием, зловещие и подавляющие – пустошь, суровая земля к востоку от рая: все вплоть до „вселенной смерти“, равнодушного мира абсурдистов и экзистенциалистов. <…> Перед ней, этой огромной мертвой махиной, трепещет на ветру небытия одинокий и тонкий „мыслящий тростник“ Паскаля. С этой точки зрения, мы имеем не экологическую, а ментальную катастрофу: крах наивной непосредственности „кто“ и его отступление из мира, природы приводит к запустению и омертвению всей зоны „что“, к неоткликающемуся и враждебному молчанию ее»9.
«Этому повороту, как и прежде, сопутствовали свои мифы – основанные теперь уже на идее, что истина играет с нами, а не проклинает и гонит нас. Истина отворачивается лишь от простаков, лезущих к ней так же, как они торгуются с лавочником в базарный день. Ее избранник – посвященный, умелый, знающий или ищущий подходы к ней, разгадывающий ее секреты и знаки. <…> Во-первых, когнитивный процесс социологизируется. Вводится постоянно рефлексируемая, трудно налаживаемая связь между истиной и человечеством, требующая особых посредников. <…> Но «кто» питает лишь другое «кто». Из опустошенного мира древности и зари человеческого сознания, от чудесных друзей одинокого «я», навеки померкших и отдалившихся, от иссякших истоков магического человек с утроенной силой метнулся в общество, к другим «я», подобным себе. Произошло второе великое открытие «кто» – на этот раз не в природе, но в других. <…>
Первый могущественный выплеск «кто» породил магию и язык, миф и разум, дух и природу. Второй породил общество. И на долгое время общество, питаемое мощью ктойности, стало идолом человечества. <…> В течение многих тысячелетий актуальной человеческой истории, развития культур и строительства цивилизаций новообретенная людьми общность была венцом их усилий и объемлющей их деятельности, источником комфорта и покоя, радости и могущества, ответом на все вопросы. Она была суммой большей, чем слагающие ее части, великим целым, в горизонте которого человек обретал себя»10.
Проанализируем сказанное.
В этих тезисах прорисовываются изначальное состояние и две перспективы, которые ведут из него.
С одной стороны, Мурзин, кажется, прорисовывает логику формирования первоначального мифологического мышления как ту, которая затем сменится другими формами. Эти другие формы, по всей видимости, мыслятся как более развитые. По отношению к дискурсу Мурзина приходится употреблять выражение «по всей видимости», так как его дискурс все время перемещается от метафизики к поэзии и обратно. Поэтому у него трудно встретить нечто вполне определенное. Но видно, что, несмотря на включение изначального мифологического мышления в логику последующего исторического развития, он сохраняет это первоначальное состояние человека как наивное, но тем не менее похожее на точку, от которой можно отсчитывать все последующее. Было время, когда «ктойность» безраздельно господствовала. Можно сказать, что это было райское состояние, к которому, в сущности, надо вернуться. Мурзин, оценивая логику отпадения от этого состояния, говорит об этом в контексте какого-то грехопадения: «Волшебная одушевленность сущего… ушла. Причиной тому либо вина самого сущего, либо грех и несовершенство человека, отлученного за это от мировой жизни». Здесь разыгрывается какая-то метафизическая мистерия. Если так, ее следовало бы прорисовать точнее и более рационально. Но у Мурзина все время получается наполовину поэтический текст. Хотя если считать, что любое пройденное человечеством историческое состояние является только частично позитивным, то оставшаяся часть этого состояния оказывается негативной, и этот негатив обнаруживается в истории как фундаментальный жизненный вызов. То, что воспринималось как позитивное, превращается в негативное и требует ответа, который должен перевести человека мыслительно и организационно в другое состояние. Если следующим пунктом в развитии человечества (после первоначальной мифологической эпохи) считать осевую эпоху, то можно вполне определенно сказать о том, какой именно вызов создавала эпоха мифов. Размечая таким образом культурно-историческое пространство, можно прорисовать историческую логику метаморфоз духа.
Что получается у Мурзина? Несмотря на все возможные отсылки и намеки, которые он делает, у него действительно вырисовывается изначальное райское состояние, из которого человек выпал вследствие какого-то грехопадения. Это грехопадение развертывается по двум размерностям: природной и социальной. Говоря об этих перспективах, Мурзин задает движение не только до ближайшего культурно-исторического пункта (осевая эпоха), но и до современности, до новейшего времени. Формирование представления о природе логически приводит к полному уходу духа из нее. Человек в конце концов оказывается в ситуации паскалевского «мыслящего тростника», затерянного между безднами «чтойности». Примерно в той же логике говорится и о социальности. Если в эпоху мифов все было не только духовно, но и индивидуально, то по мере отдаления от этой эпохи человек все больше оказывается вовлеченным в социальное существование, которое забывает о своей изначальной индивидуальной сущности. Эта двойная перспектива и позволяет Мурзину в конце развернуть пафос возврата к индивидуально-духовному.
Мурзин акцентирует перспективу подавления индивидуального начала в человеке: «Общность, а не отдельная душа была микрокосмом по отношению к макрокосму всего существующего, упорядоченного и великолепного. <…> Утвердилась наследственная власть, и возникли долгосрочные социальные проекты в виде государств; появились роды человеческой деятельности, требующие общения как непременной своей основы, в том числе общения умов – коллективные начинания, например, известная нам наука. Коллективы простерлись не только в пространстве, но и во времени. Человек принялся покорять время, планировать на поколения вперед. Передача информации и знания наметила новые перспективы для развития языка. Потенции общности были столь велики, что она беспрерывно трансгрессировала, вынося перед собой все новые свои формы, подобные пене на гребне волны…»11.
Со своей стороны, я уже противопоставил такой перспективе логику мировых освобождающе-объединяющих революций. Эту логику можно начать с осевой эпохи. Первыми масштабными выражениями этих революций можно считать мировые религии. Логика этих революций является контрсистемной. То есть она направлена против поглощения индивидуального человека социально-культурными системами. Несмотря на то что реальное историческое существование конфессий мировых религий соединяло их с системной социальностью, их изначальные перспективы всегда уводили к индивидуальному. На основе религиозного мировоззрения можно было создавать и поддерживать логику анархизма. Человек только в земной реальности существует как социальный человек. Социальный мир является продуктом человеческого грехопадения. По своей природе человек является существом индивидуальным. Я прорисовывал перспективу «христианство – просвещение – постмодерн», которая показывает метаморфозы человеческого духа в этом отношении. В этом смысле история не только формировала социокультурные системы, но и показывала формы борьбы с ними на основе принципа индивидуальности. Прорисовка этой логики является очень важной. Она показывает, что история не является тем безраздельным нарастанием социального начала, которое рисует Мурзин.
В этом же смысле можно говорить и о формах философствования осевого времени. Самым показательным здесь является античность. Уже в греческой социально-культурной жизни и философии сформировались те отношения к социальности, которые можно определить как про-системные и контр-системные. Были теоретики, которые считали человека «полисным животным» (Платон, Аристотель), но были и те, кто считал, что человек может и должен освободиться от власти социальности. Эта линия ведет от софистов к киникам. (В китайской философии это было противостоянием линий конфуцианцев и даосов.) Эллинистический период греческой философии показал философские школы, которые акцентировали этическое содержание философии и космополитизм. В этом смысле они акцентировали индивидуального человека, уже сознательно отделяющегося от логики социальности. Если протянуть эту линию дальше, то христианство можно рассматривать как вариант эллинистического мышления, в котором эмансипация индивидуального человека достигла максимальной величины. Христианство можно считать эллинистической философией, доведенной до предела и превращенной в религию. Таким образом, можно говорить о вполне четком противостоянии про-системных и контр-системных тенденций в отношении к социальности, которые протягиваются к современности от осевой эпохи.
Когда Мурзин рисует захват человека логикой социальности, то у него действительно получается, что когда-то в мифологическую эпоху человек был максимально индивидуализирован. Мурзин никогда не говорит этого напрямую, но это прочитывается по пафосу, с которым он описывает последующий период. «Общность, а не отдельная душа» стала в последующее время «микрокосмом по отношению к макрокосму всего существующего». Неявно предполагается, что в предыдущее время, время мифологии, все было наоборот: микрокосмом была индивидуальность. Но это лишено исторической логики, это выглядит как откровенно мифологическое утверждение. Логично предполагать, что мифологический человек (из условного каменного века) был человеком, деятельностные возможности которого были развернуты в минимальной степени. А это означает, что его возможности быть индивидуальным в максимальной степени были ограничены. Быть индивидуальным в контексте земной природы означает быть в достаточной степени деятельностно оснащенным. Если человеческий род еще не был деятельностно развитым, то его возможности индивидуализации тоже были неразвитыми. Индивидуальность должна появляться и расширяться вместе с коллективно и деятельностно понимаемой развитостью. Это относится как к материальному, так и к сознательному плану. В этом смысле утверждение о том, что мифологическая эпоха является господством отношения «кто-кто» (а значит, и индивидуальности), является откровенным смешением принципа одушевления и принципа индивидуальности. Да, в этом периоде было одушевление (анимизм), но это не предполагает обязательной индивидуализации. Логично считать, что индивид в то время осознавал себя прежде всего представителем рода и действовал также в составе рода. Для того чтобы ему в осевую эпоху начать мыслить себя индивидуальностью, нужно было пройти путь, который предполагает социальное и деятельностное развитие.
6. Типы общности, культурно-историческая перспектива и социокультурная логика модерна
Теперь перейдем к тому содержанию статьи, которое говорит о типах социальности (общности). Можно говорить о том, что Мурзин выделяет два типа общества: «общество ктойности» и «общество чтойности» (хотя Мурзин не использует такой терминологии, но я бы ввел ее). Описывая эти типы общества, Мурзин будет говорить о конфликте волевых направленностей.
«Конфликт проляжет между обществом как целью и обществом как средством. Это будет конфликт между волей к витализации коллективного субъекта и волей к его ригидизации, застыванию в жесткой форме эффективного механизма для операций с отчужденной действительностью. <…> Хотелось бы сказать, что одна модель общества будет более интроспективной, нацеленной на культивацию фукианских «практик себя», а другая модель – более технократической, объективистской, материалистской, нацеленной в конечном итоге на то, чтобы стать, по выражению Вернадского, «геологической силой», меняющей бытие. Но все, конечно, сложнее. Однако действительно, первая модель будет в большей степени заточена на то, чтобы повсюду в себе сохранять следы субъективности, метить все сущее ее маркерами – наподобие институтов частной собственности, авторского права или выборной демократии. В то время как вторая воздвигнет свой оракул из собственной отчужденной формы и будет проникнута настроениями безличности и растворения всех попавших в ее ловушку «кто» в служении этому деперсонифицированному идолу с его не менее вещными целями. <…>
И тем не менее, несмотря на все свои недостатки, демократическая модель сохраняет в себе необходимый заряд витальной энергии… <…> Но ее принципиальное отличие от тоталитарной модели заключается в диаметральной противоположности целей и средств. <…> Отличие демократических обществ от тоталитарных – не в наличии у первых и отсутствии у вторых идеи свободы, а в различных по векторной направленности трактовках свободы. Тоталитарное общество тоже знает подобие свободы – в виде произвола ли одних групп над другими, освоения ли колоссальных ресурсов материального мира, утверждения своих тактических и стратегических преимуществ перед другими обществами. <…>
Однако главный урок, который преподает нам само существование и, к сожалению, огромный успех тоталитарных моделей, состоит совсем в другом. Тоталитарное общество учит нас тому, что общность, эта великая цель и надежда человечества на протяжении всех последних тысячелетий, может обратиться во зло. <…> Вся эта избыточная лжеконструкция, призванная вместо выявления и диалога «кто» обеспечивать относительный мир между эгоизмами различных «я» и претензиями тех или иных «мы», как правило, воплощалась в государстве и всегда заключала в себе тенденцию подменять общность и ее живую жизнь своими жесткими структурами, построенными на апелляции к самым проблематичным сторонам человеческой психики – лени, страху и амбициям. Главной проблемой государства становилась, соответственно, помимо борьбы с внешними врагами или преодоления природных вызовов, естественная революционность разумной жизни… <…> Это было еще одно вызывающее раздражение природное препятствие – новый человек всякий раз рождался пустым, незаполненным, не принадлежащим в действительности той формации, внутри которой он приходил в жизнь. В нем все обнулялось, стиралось до состояния tabula rasa. <…> Главной задачей было заменить будущее с его неопределенностью на повторение, воспроизведение прежних форм. Потребность в более серьезных переменах, в истинной самореализации замещалась проекциями и сублимациями, внешней экспансией и внутривидовой борьбой. <…> На очень долгое время воцарилась ситуация, когда «кто» становилось собой только через «что» и через «мы». Его истинная стихия – уникальность, неожиданность, одиночество, новизна, будущность, свобода – представала в лучшем случае в компромиссных, интегрированных, согласованных формах»12.

