Контрмодерн и границы идеализма
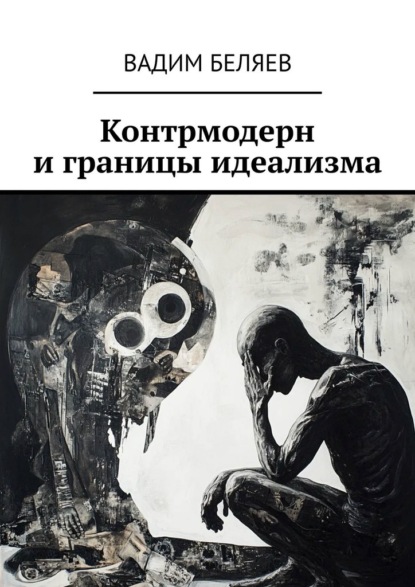
- -
- 100%
- +
Проанализируем сказанное.
Итак, Мурзин задает два типа общества. В одном из них господствует «ктойность», а в другом – «чтойность». Все это делается в перспективе, которая прорисована между двумя социально-историческими полюсами: изначальной эпохой господства «ктойности» и последующим нарастанием «чтойности», которая приобрела максимально возможные выражения в современности. Современное человечество столкнулось с тотальным кризисом, из которого только один выход – движение в сторону «ктойности».
Что можно сказать о введенном делении социальности на типы? Оно предельно проблематично. С одной стороны, вполне понятно исходное желание Мурзина превратить противопоставление господства отношений «кто» и «что» в нечто исторически конкретное – в противопоставление условного демократического общества условному контр-демократическому. Назовем первое «обществом ктойности», а второе – «обществом чтойности». С проекцией общества ктойности на демократический способ социальной организации все более-менее понятно. Но появляется проблема с проекцией контр-демократического способа. Таким обществом оказывается то, которое Мурзин называет «тоталитарным».
Пусть это название не является точным, но при описании тоталитарности объясняется, что у нее по большому счету нет позитивной цели. Хотя иногда Мурзин говорит о том, что тоталитарность решает проблему борьбы эгоистических индивидов и преобразования мира (являясь «геологической силой»), но все равно здесь человек тонет в «чтойности». Важно и то, что тоталитарность выражается в культуре личности тирана и строится «на апелляции к самым проблематичным сторонам человеческой психики – лени, страху и амбициям». Как легко после этого противопоставлять тоталитарности «уникальность, неожиданность, одиночество, новизну, будущность, свободу»! Мурзин рисует заведомо негативный портрет, чтобы он максимально соответствовал логике погруженности человека в «чтойность», в ад, из которого надо искать путь к утраченному раю «ктойности».
Я хочу предложить альтернативную прорисовку типологии социокультурных систем. Для начала я хочу указать на то, что логика тоталитарности-тирании, которую Мурзин пытается задать как социально-исторический тип, является тем, что следует назвать способом реализации. Она ничего не говорит о социально-культурной цели. Она говорит только о средствах. Поясню это на примерах. Возьмем логику Великой французской революции. Если считать, что ее целью было утверждение демократического способа организации общества, то постепенно нарастающая диктатура, которая выразилась в личности Робеспьера, была способом реализации цели. То есть если мы видим культ личности и диктатуру-тиранию, это не означает, что цель данной системы состоит именно в диктатуре-тирании. Можно говорить только о том, что социальная цель реализуется тираническим способом. Так можно говорить обо всех революциях, которые прокламировали свои цели как освобождающие индивидуального человека от власти недемократических систем. В английской революции XVII века все закончилось диктатурой Кромвеля. В русской революции 1917 года в логике реализации коммунистических идей был создан культ личности Сталина. В логике коммунистической революции в Китае после Второй мировой войны сформировался культ личности Мао. Этот список можно продолжать. Чтобы не создавалось впечатления, что это только феномен XX века или нового времени, можно вспомнить подобные феномены в прошлых эпохах. Например, можно вспомнить диктатуру Кальвина в Женеве середины XVI века. С одной стороны, протестантизм можно рассматривать как либеральную революцию в рамках католической миросистемы. Она учреждала возможность чтения Писания на родном языке, возможность его индивидуальной трактовки, возможность строить церковь как простую общину верующих и т. д. Все это говорит о переходе от «чтойности» к «ктойности» (если выражаться в терминах Мурзина). Но с другой стороны, объединительная часть протестантской революции предполагала акцент на этическом содержании. Так вот это содержание Кальвин стал реализовывать через диктаторские методы. Он превратил Женеву из демократии в религиозную диктатуру, то есть он сделал нечто противоположное по отношению к исходному смыслу протестантской революции. Акцентировать здесь нужно именно «как», а не «что». Демократическая революция легко превращается в диктатуру, если революционеры считают, что силовые методы адекватны, что цель оправдывает средства. Подобные же прорисовки можно проводить по отношению к средневековью и древнему миру.
Теперь обратим внимание на то, что типы обществ у Мурзина заданы вне исторической логики. Что это означает? В этом можно прочесть желание избежать того положения, которое заставляет смотреть на типы культур или обществ как на внутренне амбивалентные. То, что рождается в истории, имеет как позитивное, так и негативное содержание. Каждый масштабный проект можно рассматривать как способ решения одних проблем и потенциальный источник других проблем. То есть если мы создаем какую-то типологию культур или обществ, мы должны расположить типы в социально-культурно-исторической перспективе, чтобы в них выразилась историческая диалектика. Такая диалектика поставит выделенные типы в качестве того, что имеет как позитивное, так и негативное содержание. Следовательно, основным объектом рефлексии при этом должны становиться жизненные вызовы и проблемы. Нужно будет выстраивать историческую диалектику как процесс, в котором постоянно отвечают на какие-то вызовы, решают какие-то проблемы, создавая при этом новые вызовы и проблемы. В этой логике не должно быть чисто негативных и чисто позитивных типов. Каждый тип должен быть тем, что имеет и позитивный, и негативный потенциалы.
Что получается у Мурзина? Он создает типологию, в которой у одного типа преимущественно позитивные черты, а у второго – преимущественно негативные. История рисуется как забвение позитивного и нарастание негативного до тех пор, пока мир не начинает рушиться. В целом история не разделена на эпохи, каждая из которых решает свою группу фундаментальных проблем (созданных предыдущей эпохой). Точнее сказать, история рисуется как одна глобальная эпоха, которая начинается с райского состояния и заканчивается в современности адом.
В качестве альтернативы я хочу представить свою прорисовку культурно-исторической ретроспективы. Частично я уже задавал некоторые прорисовки. Если идти со стороны древности к современности, то можно выделить переход от мифологической эпохи к осевой. С другой стороны, я говорил о возможности рассматривать движение от осевой эпохи к современности как логику мировых освобождающе-объединяющих революций, которые соединялись с логикой системной социальности. К этому можно добавить прорисовки перехода от средневековья к модерну, которые будут касаться проблем «ктойности» и «чтойности».
Движение от средневековья к модерну можно представить как набор идеально-типических переходов: 1) от «закрытого» общества-универсума к «открытому»; 2) от культуры «мостов к трансцендентному» к культуре «прохождения через земную реальность». Это только часть переходов из возможного набора (см. мои монографии13). Но их достаточно, чтобы продемонстрировать описанные мной принципы.
Сначала пририсуем переход от «закрытого» общества-универсума к «открытому». «Закрытым» можно считать такое общество, система которого считается предзаданной его элементам (индивидам). Оно предзадано либо высшей сущностью, либо фундаментальной структурой мироздания. Системная структура представляет собой субстанциально-качественную иерархию, в которой нижележащие уровни служат вышележащим. Каждый индивид так или иначе приписан к определенному месту в структуре и должен реализовывать через себя его логику. В этом смысле человек предполагается позитивно понимаемым «человеком пассивным», который не создает сам для себя жизненные цели, а реализует те цели, которые предзаданы местом в структуре. Если мы сделаем проекцию этой конструкции на универсум, то получим «закрытый» универсум. Для средневекового общества земная и сверхземная реальности соединялись в единую сквозную иерархию. Такой универсум для средневекового человека создан высшей сущностью и является в своих основных чертах совершенным.
«Открытым» можно считать такое общество, система которого не предзадана его элементам (индивидам). Наоборот, элементы являются стратегически активными, они создают проекты обществ, строят и перестраивают их. Общественная система представляет собой функциональную структуру, предназначенную решать те задачи, которые индивиды вкладывают в проект. Человек в таком обществе утверждается как позитивно понимаемый «человек активный», который строит жизненные проекты и реализует их. Если сделать проекцию такого типа общества на универсум, то мы получим «открытый» универсум. Он предполагается находящимся в процессе бесконечной эволюции, в которой одни жизненные формы сменяются другими. В таком же процессе эволюции находится и «открытое» общество.
Какой позитивный смысл можно вложить в «закрытое» общество? Это смысл реализации глобальной для всего человечества и каждого отдельного человека истины. Человек предполагается существом, который постоянно отпадает от истины. Поэтому его надо постоянно направлять. Единая, объединяющая всех истина, решающая фундаментальные проблемы, есть, и ее надо реализовать. Реализатор, который предполагает вечно отклоняющуюся от истины суть человеческой природы, будет строить «закрытое» общество. В качестве примера можно привести проект идеального государства Платона. В мифе о пещере Платон объяснил суть абсолютной истины, которую люди не видят и не хотят видеть. Как реализовать путь человека к истине не только для философа, который сознает истину, но и для всех остальных? Самый логичный путь – построить общество, которое будет реализовывать себя как коллективный и объективно поддерживаемый путь к истине. Всякому человеку, который колеблется и отклоняется, такое общество будет служить направляющей силой. В рамках этой логики Платон строит свой проект и пытается найти его реализаторов.
Такой же тип общества можно видеть реализованным в средневековой европейской миросистеме. С точки зрения ветхозаветной метафизики, которую христианство приняло в качестве точки отсчета, универсум создан Богом и создан совершенным. Несовершенство в нем является продуктом человеческого волюнтаризма, несанкционированной и, следовательно, негативно понимаемой активности. Человек своим волюнтаризмом совершил грехопадение, и все, что ему после этого осталось, – искать путь к утраченному раю. Бог создал не только универсум, но и общество. Его структура предполагается как земная часть мировой иерархии. Универсум иерархичен. Всякий субъект (элемент мира) располагается на своем структурном месте в иерархии и должен следовать логике этого места. В этом и заключается позитивное понимание «человека пассивного». Возвращаясь к раю, человек должен отбросить свой волюнтаризм.
Если мы представим, что такой тип универсума и общества становится фундаментальным жизненным вызовом, то ответ на вызов (зададим его как структурное отрицание вызывающей ситуации) будет направлять к проекту и реализации «открытого» общества-универсума. Развертывание модерна можно представить как последовательность реформ-революций, каждая из которых делала свои шаги в направлении построения логики «открытости». Этому процессу сопутствовали контрреволюции, которые пытались взять логику «открытости» в скобки, придать ей тактический смысл, оставляя стратегический смысл за «закрытостью». Европейские общества, несмотря на внутреннюю демократизацию и либерализацию, могли оставаться в рамках каких-то «сверху» заданных системных форм. Классическим примером здесь может служить логика национальных государств. Их формирование на всем протяжении развертывания модерна осуществлялось как двоякий процесс. С одной стороны, совершались преобразования «открытости» в тактическом отношении. С другой стороны, утверждалась логика господства «нации» как системного целого, по отношению к которому каждый отдельный человек является средством. В этом смысле на стратегическом плане утверждалась логика «закрытости». Первая мировая война стала максимальным выражением борьбы наций, в которых индивидуальный человек становится «человеком системы» и расходным материалом в войне. В той мере, в какой логика понимания социально-культурной реальности и логика ее реального существования непременно была погружена в логику социально-системной организации с противостоянием систем, модерновый процесс «открывания» общества и универсума оказывался существенно ограниченным. Можно говорить, что на протяжении логики развертывания модерна разворачивалась диалектика про-системности и контр-системности в отношении понимания и построения человеческого существования. Как я уже говорил, определённым рубежным пунктом стала рефлексия второй половины XX века – постмодернизм. Отвечая на вызов войн систем первой половины XX века, он утверждал максимально контр-системное понимание, контр-системный проект.
Всю мировую историю можно прорисовать как идеологическое и конструктивное движение между полюсами «закрытости» и «открытости». Если считать, что модерн представляет собой глобальный проект «открытого» общества-универсума, то следует признать все до-модерновое пространство-время как господство «закрытой» социокультурной архитектуры. «Закрытая» и «открытая» архитектуры представляют собой различные проекты истины (а значит, свободы) и способов их реализации. Если говорить в терминах «ктойности» и «чтойности», то различные социокультурные архитектуры задают различные версии «ктойности». Если быть в «ктойности» означает быть в свободе, то определенное понимание свободы будет определенным пониманием «ктойности». Именно поэтому на протяжении всего модерна и до настоящего времени контр-модернистские действия сопровождали про-модернистские действия и старались указать на негативный смысл логики «открытости». Выражаясь в терминах «ктойности – чтойности», они утверждали, что модерн с его индивидуализацией превращает человека из «ктойного» в «чтойного», лишая его подлинной связи с духом.
И здесь можно акцентировать модерн как переход от культуры «мостов к трансцендентному» к культуре «прохождения через земную реальность». В логике Мурзина тоталитарные системы образуются через то, что можно назвать проектом покорения природы. Мурзин акцентирует такие системы как способные стать геологической силой, меняющей реальность. Это акцентируется как господство «чтойности» над «ктойностью». Но вполне логично считать, что покорение природы, наоборот, является вполне адекватным способом увеличить размеры «ктойности». Мурзин, описывая человека мифологической эпохи, акцентирует только его сознание, культуру как символическую реальность. Но если иметь в виду, что этот человек жил в рамках земной реальности, то его «ктойность» постоянно и неуклонно ограничивалась властью наличной природы. Как и любое другое существо на Земле, человек находился во власти природы. Следовательно, нужно говорить о том, что и его «ктойность» находилась в руках той же власти. Это возможности элементарного земного существования, которые ограничивались болезнями, стихийными бедствиями, космическими событиями и т. п.
Древний человек в максимальной степени был в этом смысле во власти природы. Если иметь в виду все современное понимание катастрофических возможностей земной и космической природы, то человек уже тогда чувствовал себя «мыслящим тростником». Пусть те бездны, которые его окружали и поглощали, осознавались не продуктами безличной природы, а мифологическими личностями. Это не изменяло характера его «тростниковости». Человек модерна логично считается тем, который утверждает проект покорения природы как ту направленность своей активности, которой ему не избежать. Если он мыслящий тростник, то ему надо расширять власть своей тростниковости. Так вот, логично предполагать, что стремление к расширению своей власти было уже у человека мифологической эпохи. Но реализовывалось оно через ту онтологию и те инструменты, которые были у него тогда.
Р. Генон, например, в рамках своего интегрального традиционализма акцентирует самую раннюю эпоху в существовании человечества как эпоху господства магических практик, предназначенных для управления мировыми сущностями. Человек древности был «человеком управляющим». Это вполне логично, если считать, что осознание себя «мыслящим тростником» должно быть очень древним актом человека. А следовательно, все мифологии и религии должны были становиться так или иначе понимаемыми формами управления внешним для человека миром. Если мы посмотрим на европейское средневековье, то увидим, что церковь (и религия в целом), несмотря на то, что она была реализацией логики «мостов к трансцендентному», были универсальной «суммой технологии». И эта технология одной из своих сторон была направлена на земную реальность. Человек средневековья обставлял все свои малые и большие дела обращением к высшим силам за помощью, через церковь или помимо нее. Можно говорить, что Реформация акцентировала именно это, когда критиковала католические «дела» и утверждала принцип «только верой». Можно говорить, что Реформация развела материально-инструментальную и фидеистическую составляющую церкви. Первая часть превращалась в отдельную размерность человеческой природы и жизнеустройства. Так практики изменения окружающего мира были выделены в отдельный план человеческого существования. Это можно рассматривать как один из важных шагов в переходе от культуры «мостов к трансцендентному» к культуре «прохождения через земную реальность».
Итак, если мы станем говорить о современном поглощении человека технологиями покорения природы, то мы с полным правом должны будем говорить о том, что другой стороной этого процесса является увеличение меры «ктойности» как меры свободы от власти этой природы.
Глава 2. Философия культуры М. Хайдеггера и нерефлексивный контр-модерн
Эта глава анализирует философские взгляды М. Хайдеггера, изложенные в статье А. П. Огурцова «О критике культуры как ценности»14. Автор предлагает интерпретацию мышления Хайдеггера как проявление нерефлексивного контр-модерна. Автор утверждает, что Хайдеггер недооценивает негативные аспекты традиционных идеологических обществ и неправомерно идеализирует концепцию «мира с глубиной». Обсуждается, что современный «мир без глубины» возник как ответ на вызовы, порождаемые «глубинными» культурными системами. Рассматриваются исторические примеры, такие как средневековье и последствия Первой мировой войны, иллюстрирующие необходимость переосмыслять концепции «глубины» и идеологии. Эта глава также демонстрирует противопоставленность позиции Хайдеггера и модерновой «критики культуры», подчеркивая, что подходы последней направлены на раскрытие культурных систем как человеческих конструкций, тогда как Хайдеггер пытается вернуть им статус абсолютной реальности. В заключение, автор утверждает, что Хайдеггер упускает из виду фундаментальные социокультурные контексты и вызовы, что делает его позицию нерефлексивной.
1. «Мир без глубины» как ответ на жизненный вызов негатива «мира с глубиной»
Идея написания этой главы пришла ко мне после прочтения статьи А. П. Огурцова «О критике культуры как ценности», напечатанной в журнале «Vox» в связи с десятилетием со дня смерти философа. Это навело меня на мысль о том, что философия Хайдеггера до сих пор является парадигмальной для определенной части теоретиков. В то же время позиция Хайдеггера, с моей точки зрения, является выражением того, что можно назвать нерефлексивным контр-модерном. Имея в виду эту нерефлексивность, я решил, что имеет смысл прорисовать логику этой позиции и её содержание, используя результаты моих исследований в направлении выявления социокультурной логики модерна и социокультурной методологии15.
Вот как начинается статья Огурцова: «Во «Введении в метафизику» (1935) [М.] Хайдеггер говорит о «духовном падении Земли», о помраченьи мира, бегстве богов, разрушении земли, омассовлении человека, о нетерпимом презрении ко всему творческому и свободному на всей земле. Эту позицию он не называет культурным пессимизмом, имея в виду О. Шпенглера, поскольку он предсказывает разворачивание новых исторических духовных сил немецкого народа, новый поворот в историческом бытии немецкого народа, а тем самым и в судьбе Европы, где решается, по его словам, судьба Земли.
Его оценка европейской культуры после «краха немецкого идеализма» весьма критична. «Человеческое бытие начало соскальзывать в мир без глубины. Господствующим измерением стало расстояние и число». Бытие превращается в сущее, которое мыслится и оказывается на деле поставщиком энергии и вещества для техники. Утверждается господство рассчитывающего, а не осмысляющего мышления. Наука оказывается ядром всей культуры. Формируется ложное истолкование духа. Это ложное истолкование Хайдеггер усматривает в четырех тенденциях. Во-первых, в интерпретациях духа как умственной способности, сводящейся к понятливости и подсчету. Во-вторых, в превращении духа в инструмент чего-то иного – либо управления и производства, либо порядка и прояснения всего предстоящего. В-третьих, в превращении духа в мир культуры, который делится на различные области и становится объектом попечения и планирования. «Духовный мир становится культурой, в сотворении и содержании которой ищет своего осуществления отдельный человек. Эти области становятся полями свободной деятельности, которые устанавливают свои мерила в значении, которого она еще добивается. Эти мерила деятельности по поставлению и использованию зовутся ценностями. Культурные ценности утверждают свое значение в целом культуры посредством только того, что удерживаются в рамках самостоятельности – поэзия ради поэзии, искусство ради искусства, наука ради науки». «Дух как целенаправленная умственная способность и дух как культура в конце концов становятся предметами роскоши и обеспеченности.
Дух сам Хайдеггер определяет как знающую решимость, коренящуюся в изначальной настроенности к существу бытия. Там, где бытийствует дух, бытийствует бытие. Вопрошание о бытии – одно из условий пробуждения духа»16.
Что можно сказать о содержании той позиции, которая развертывается в этом тексте?
На первый взгляд, идеи Хайдеггера выглядят неотразимыми, но это только на первый взгляд. Я предлагаю увидеть в этой позиции проявление нерефлексивного мышления. Эта нерефлексивность касается исторических форм существования «духа». Для Хайдеггера неоспоримо, что «человеческое бытие начало соскальзывать в мир без глубины». Но что будет, если мы введем принцип, который утверждает, что нет такого масштабного исторического движения, которое не было бы ответом на важный жизненный вызов, решением важной человеческой проблемы? Тогда у соскальзывания современности в «мир без глубины» должна появиться вторая сторона, которая покажет нам, на какой вызов это состояние является ответом. Для прояснения этого нам необходимо ввести еще один важный принцип: ответ на вызов является структурным отрицанием вызывающей ситуации. Складывая оба введенных принципа, мы получаем, что 1) современный «мир без глубины» является продуктом ответа на жизненный вызов, созданный в прошлом, и 2) характер вызова задается как структурное отрицание ответа (если ответ является структурным отрицанием вызывающей ситуации, то и вызывающая ситуация является структурным отрицанием ответа).
Какой жизненный вызов прошлого мы должны считать тем, который в качестве ответа порождает «мир без глубины»? Таким вызовом должно быть состояние «погруженности мира в духовную глубину» («мир с глубиной»). Кажется, что в этой точке рассуждения мы пришли к тупику. Но это только кажущееся положение. Позиция Хайдеггера предполагает, что «мир с глубиной» не имеет негативных сторон, поэтому об этих сторонах даже не заводится разговор. Но именно такой разговор и надо начать.
Что такое «мир с глубиной»? Какие негативные стороны он может иметь? И как они создают фундаментальный жизненный вызов, ответ на который порождает историческое движение к «миру без глубины»? Рассмотрим в качестве примера самую очевидную версию «мира с глубиной» – средневековые социокультурные системы. Будем рассматривать только европейский вариант таких систем. Какой негатив они создавали?
По размерности «система – элемент» создавался негатив «идеологического» общества. Как можно задать такое общество? Это будет общество с установленной «сверху и для всех» системой предельных представлений о мире (идеологией) и институциональным контролем над сознанием. Каждый человек в таком обществе находится во власти идеологии. Эту власть можно интерпретировать как нечто позитивное и как нечто негативное. Как позитивное она будет пониматься в логике направления уклоняющегося индивида на пути к абсолютной истине. Как негативное она будет пониматься как принуждение индивида к истине. Вместо того, чтобы дать каждому отдельному человеку возможность иметь свое отдельное мировоззрение, она принуждает его к заданному «сверху и для всех» мировоззрению. Такой негатив можно назвать идеологическим деспотизмом. Для обозначения этого негатива уже давно выработаны понятия, такие как «еретики», «инквизиция», «индекс запрещенных книг», «охота на ведьм», «борьба с инакомыслием» и т. п. Эти понятия можно применять не только к средневековому, но и к любому другому идеологическому обществу.

