Контрмодерн и границы идеализма
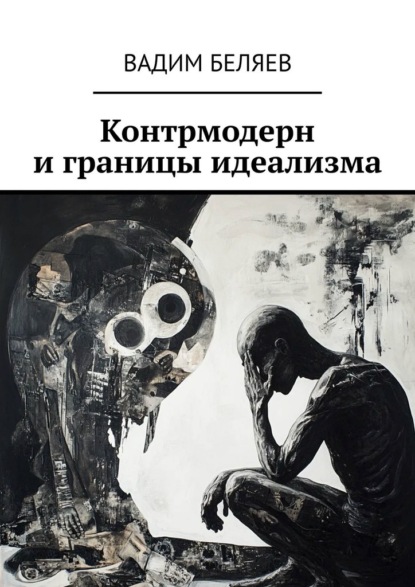
- -
- 100%
- +
По размерности «система – система» идеологическое общество создает вызов борьбы материализованных идеологий. Каждое такое общество можно рассматривать как материализацию соответствующей идеологии, превращение ее в экспансивную систему. Борьба таких систем является борьбой соответствующих материализаций, в которой индивид максимально задается как «человек системы» и становится расходным материалом. От средневековья к такого рода феноменам относят понятия «крестовые походы», «религиозные войны» и т. п.
Итак, если следовать предложенной прорисовке негатива, то получается, что «миры с глубиной» оказывались идеологическими обществами. В таких мирах индивидуальный человек оказывался «принуждённым к глубине» и становился расходным материалом в войнах «материализованных глубин». Если мы теперь представим, что этот вызов становится глобальным вызовом, то ответ на него (структурное отрицание вызывающей ситуации) должен направлять к обобщенно понимаемой «критике культуры». Если идеологические общества называть культурами, то критику этих обществ как именно идеологических следует называть «критикой культуры». В каком направлении должно развиваться понимание человеком «глубины»? Самым главным, что здесь должно возникнуть, это понимание, что «миры с глубиной» и сами «глубины» являются человеческим продуктом. «Глубины» созданы человеком. Созданы человеком и общества, которые пытаются материализовать эти глубины, реализовать их абсолютную истину. То есть постулат идеологического общества о том, что его «глубина» является чем-то несозданным, абсолютным и предзаданным человеку, является самообманом, причем самообманом, который отбирает у индивидуального человека свободу и направляет его (как представителя своей «материализованной глубины») на борьбу друг с другом. Что нужно сделать, чтобы выйти из описанного негатива? Нужно сделать структурное отрицание вызывающей ситуации. Нужно перейти к условному «миру без глубины». Надо понимать, что в исходном смысле (в смысле победы над властью негативно понимаемых «глубин») «мир без глубины» является состоянием свободы.
Это состояние легко почувствовать, если сравнить музыкальные сочинения классики и романтизма с музыкальными сочинениями нарастающего авангарда ХХ века. Музыка Дебюсси и Равеля – как «солнце в холодной воде». Если до этого музыка была насыщена какими-то духовными состояниями и их метаморфозами, борьбой так или иначе понимаемых духов, то музыка импрессионизма выглядит освобождением от всего этого. То же самое можно сказать и обо всех других символических формах этого направления. Если искать литературный пример того же, то здесь подойдут романы Э. Ремарка. Его первый роман «На западном фронте без перемен» описывает Первую мировую войну как изнанку погруженности человека в войну «материализованных глубин». С позитивной точки зрения люди, принимающие участие в Первой мировой войне, борются за свои «глубины». У каждой нации есть своя «глубина», которая понимается как нечто безусловное. Военная пропаганда утверждает борьбу именно за эти «безусловные глубины». Какой свободой должно было стать окончание такой войны для всех тех, кто чувствовал на себе деспотизм «глубины»! Отвечая на фундаментальный вызов, бывшие участники войны должны были утверждать «мир без глубины» как логику своего освобождения и гарантию того, что случившееся больше не повторится. Романы Ремарка, написанные непосредственно после войны, наполнены чувством освобождения от власти «глубин». А когда к власти пришли нацисты и стали строить свой вариант идеологического общества, в его романах стала выражаться логика поглощения человека новой «глубиной».
Чтобы не уходить далеко от темы войны, обратим внимание на тот эпизод у Огурцова, где он акцентирует позицию Хайдеггера как говорящую о «духовном падении Земли», о помрачении мира, бегстве богов… И одновременно Хайдеггер «предсказывает разворачивание новых исторических духовных сил немецкого народа, новый поворот в историческом бытии немецкого народа, а тем самым и в судьбе Европы, где решается, по его словам, судьба Земли». Что означают эти декларации? То, что урок Первой мировой войны для Хайдеггера прошел мимо. То, что Хайдеггер является антиподом Ремарка. Каким образом мимо рефлексии Хайдеггера прошел негатив этой войны? Каким образом мимо него прошла та логика, по которой желание избавиться от власти «глубин» имеет позитивное содержание? Хайдеггер готов снова утверждать идеологическое общество, власть «глубин» и т. п. Если мы поймем все это, то сможем существенно по-другому смотреть на его призывы.
Позицию Хайдеггера можно назвать критикой «критики культуры». Если последняя старалась ответить на вызов негатива «культурного» состояния человечества (как состояния поглощенности идеологическими обществами и их междоусобной борьбой), утверждая позитивность «мира без глубины», то Хайдеггер пытается восстановить «глубину». Но делает он это предельно нерефлексивно. Его позицию можно назвать контр-модернистской. Но это неконструктивный контр-модерн. Конструктивным можно считать тот контр-модерн, который вполне выучил уроки истории и не забывает о социально-исторических метаморфозах «Бога», «духа» и «глубины». Позиция Хайдеггера демонстрирует невыученность этих уроков.
Итак, формирование «мира без глубины» как стратегическая тенденция модерна является ответом на фундаментальный вызов, созданный средневековьем как социокультурной архитектурой, состоящей из культур как идеологических обществ. Развертывание модерновой критики культуры является развертыванием критики идеологического общества. Эти общества создают «миры с глубиной». Изначально, как продукт средневековья, «глубины» были метафизическими перспективами теистического характера. Это были «глубины» Бога и Богов. Каждое из теистических идеологических обществ реализовывало своё представление о Боге, считая его абсолютным фундаментом универсума и общества. Все негативы идеологического общества, которые были описаны, заставили рефлексию повернуться и двигаться в противоположном направлении, к «миру без глубины». Этот мир оказывался миром свободы от негатива теистических идеологических обществ.
Рефлексия, порождаемая критикой культуры, утверждала ценностный характер культурных систем. Говоря проще, критика культуры утверждала и «глубины», и общества продуктами человеческого конструирования (сознательного или бессознательного). Именно так можно было объяснить наличие не одной «глубины», а многих «глубин», не одного Бога, а многих Богов, не одной культуры, а многих культур. В рамках такого рефлексивного процесса создаются представления о ценностях (коллективных и индивидуальных). Если в до-модерновом варианте рефлексии каждая культурная система имела тот вариант самосознания, который ставит ее истину и систему как несозданную (не ценность), то модерновый вариант рефлексии утверждает, что каждая из таких систем и каждое из таких самосознаний является субъективным, то есть созданным человеком как способом реализации каких-то ценностей. Представление о ценностях и их множественности дает возможность не только объяснить множественность культурных систем и «глубин», но и создать то пространство «между» системами и «глубинами», которое может выполнять функцию общечеловеческого пространства и бытия. Такое пространство можно назвать посткультурным. В той мере, в какой революция модерна является развертывающейся критикой культуры, она создает все более расширяющееся пространство посткультурно-общечеловеческого.
В высказываниях Хайдеггера утверждение «наука оказывается ядром всей культуры» указывает на нечто негативное. Но если мы будем рассматривать это в логике критики культуры, то у этого появится позитивное содержание. «Наука» будет символическим выражением посткультурного пространства. Быть ученым в этой логике означает быть по ту сторону захваченности ценностями. Быть гуманитарным ученым означает создавать пространство по ту сторону ценностей и их противопоставлений. Причем сами ценности могут не отвергаться. Но их области действия будут ограниченными. Все возможные культурные ценности при этом не будут описывать весь универсум социокультурного. Будет выделяться и расширяться пространство посткультурно-общечеловеческого. Оно тоже будет особого рода ценностью, задаваемой ответом на исторический вызов. Последовательная критика культуры будет создавать тот тип общества, который можно назвать постидеологическим. В нем не будет установленной «сверху и для всех» системы предельных представлений о мире. В нем должна быть установлена «постидеологическая идеология», которая будет глобальным коммуникативным пространством, создающим условия для конструктивного взаимодействия адептов различных мировоззрений.
Каким образом можно утверждать, что создаваемый модерном мир является лишь негативно понимаемым «миром без глубины»? Только если не видеть всей той исторической логики, которая его порождает.
2. Контр-модернистская критика «критики культуры»
Продолжим чтение текста Огурцова: «В «Письме о гуманизме» Хайдеггер как бы подводит итог своей критике философии культуры, апеллирующей к ценностям и строящейся как теория ценностей: «Мысль, идущая наперекор «ценностям», не утверждает, что все объявляемое «ценностями» – «культура», «искусство», «наука», «человеческое достоинство», «мир» и «Бог» – никчемно. Наоборот: пора понять, наконец, что именно характеристика чего-то как «ценности» лишает так оцененное его достоинства. Это значит: из-за оценки чего-либо как ценности оцениваемое начинает существовать только как предмет человеческой оценки. Но то, чем нечто является в своем бытии, не исчерпывается своей предметностью, тем более тогда, когда предметность имеет характер ценности. Всякое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть субъективация. Она оставляет сущему не быть, а – на правах объекта оценки – всего лишь считаться. В своих странных усилиях доказать во что бы то ни стало объективность ценности люди не ведают, что творят, когда «Бога» в конце концов объявляют «высшей ценностью», то это принижение божественного существа. Мышление в ценностях здесь и во всем остальном – высшее святотатство, какое только возможно по отношению к бытию. Мыслить против ценности не значит поэтому выступать с барабанным боем за никчемность и ничтожество сущего, смысл здесь другой: сопротивляясь субъективации сущего до голого объекта, открыть для мысли просвет бытийной истины». <…>
Хайдеггер обращает внимание на различные типы объяснения бытия. Во-первых, на традиционное, христианско-богословское объяснение мира. Во-вторых, на способ объяснения, представленный в начале западной метафизики Платоном, объясняющим мир, т. Е. Совокупность сущего, через идеи. И, наконец, третий способ объяснения, представленный прежде всего [Ф.] Ницше, объяснение мира через ценности. Это – завершение метафизики. Для европейской метафизики «идеи» и «ценности» – это «орудия истолкования мира и организации жизни». Культурная деятельность распалась на ряд автономных областей – политику, науку, искусство, общество. Способом их объединения оказывается «мировоззрение», взгляд на мир, картина мира. Здесь достигается сведение бытия к сущему, господство над сущим, превратившимся в нечто производное и произведенное волей к власти. Прежнее противопоставление бытия и долженствования преодолевается. Бытие начинает мыслиться с точки зрения долженствования, с точки зрения ценностей: «Само бытие становится простой „ценностью“». Нигилизм – это эпоха в истории человечества, эпоха «бытийной оставленности», превращения бытия в устраиваемость, ставящее себе на службу всѐ и вся, в том числе и самого человека. Это – эпоха забвения бытия во имя «расходования сущего для манипуляций техники», во имя «планирующе-рассчитывающего обеспечения результатов», во имя «самоорганизующего процесса выхватывающего изготовления». «Мир, – как заметил Хайдеггер, – взвешивается по „ценностям“»17.
Критически рассматривая эти характеристики позиции Хайдеггера, можно акцентировать следующие аспекты.
Первое – это стремление придать каким-то ценностям объективный характер («В своих странных усилиях доказать во что бы то ни стало объективность ценности люди не ведают, что творят, когда „Бога“ в конце концов объявляют „высшей ценностью“; то это принижение божественного существа»). Здесь можно увидеть ту непростую диалектику, которая связана с критикой культуры. На первом, радикализирующем этапе такой критики все сущности и понятия субъективируются, переводятся из статуса объективного в статус субъективного. Бог, например, из фундамента мира и человека превращается в то, что создано самим человеком. Но это только первоначальный этап. На втором этапе критики происходит осознание того, что отношение к Богу как ценности (хотя и высшей) уничтожает в Боге то, что является поддержкой человеку. Если это принять как вызов, то ответом на такой вызов должна стать та рефлексия, которую демонстрирует Хайдеггер. В целом это контр-модернистская рефлексия. Если модерновая критика культуры раскрывает различные реальности как то, что создано человеком, то контр-модернистская рефлексия пытается вернуть им статус безусловной реальности. Неконструктивный вариант такой рефлексии пропускает все то, что связано с социально-историческим существованием указанных реальностей. Поэтому и получается, что человек просто-напросто «забыл Бога» или «убил Бога» или что-то в этом роде.
Все это проблематизирует то, что реальности, которые становятся объектом критики культуры, обнаруживаются как реальности, которые необходимы человеку (ровно в том смысле, для которого они создавались). Если представление о всемогущем и всезнающем Боге были необходимы человеку для того, чтобы найти способ борьбы с катастрофичностью мира и положением человека как «мыслящего тростника», то статус Бога как реальности должен иметь безусловный смысл. Бог не должен быть продуктом человека, ценностью. Он должен быть реальностью, которая создает самого человека и универсум. Следовательно, если критика культуры утверждает Бога как ценность, то есть продукт человека, то Бог теряет характер безусловной реальности.
Здесь можно вспомнить метаморфозы Канта, когда он реализовывал через себя просвещенческий вариант критики культуры. Своей «Критикой чистого разума» Кант разрушает метафизический тип мышления, а значит, разрушает и культуру, которая обосновывается таким мышлением. Кант развенчивает все доказательства бытия Бога. Но на следующем шаге, в «Критике практического разума», он возвращает бытие Бога, бессмертие души и посмертное воздаяние. Это делается как шаг помощи простому человеку в жизни быть нравственным. Если говорить в терминах Хайдеггера, то сначала Кант разрушает представление о Боге как «бытии», а затем возвращает его в качестве «высшей ценности». Но в этом качестве он уже понимается как только продукт человека. Следовательно, сначала человек уничтожил Бога, его «бытие», а затем пытается придать ему характер «псевдобытия». Если на место Бога поставить какую-то другую реальность, то развертывание модерна можно описать как: 1) процесс разрушения высшей реальности в качестве безусловного бытия; 2) процесс осознания экзистенциальной важности этой высшей реальности; 3) попытку вернуть высшей реальности статус бытия. Второй и третий пункты создают логику контр-модерна. Как я уже говорил, здесь возможны варианты. На одном полюсе находится тот вариант, который демонстрирует Кант, который возвращает Бога в качестве высшей ценности. На другом полюсе находится тот вариант, который предлагает вернуть Богу «бытие». Позицию Хайдеггера можно отнести к последнему варианту. Его разговор о «бытии» является разговором о высших реальностях, которые человек модерна «забыл» или «убил», превратив в ценности.
Второй аспект разговора, на который надо обратить внимание, – это то, что можно назвать «методологическим поворотом» в европейской рефлексии. Одновременно этот поворот можно назвать модерновым поворотом. То есть модерн как эпоха может описываться как методологический поворот в европейской и мировой рефлексии.
Методологический поворот можно описать как утверждение методологического типа рефлексии. Эту рефлексию можно разложить на следующие пункты: 1) денатурализация различных типов мышления и деятельности, превращение их из несозданных в созданные человеком; 2) нахождение для каждого из денатурализированных типов факторов, их порождающих; 3) собирание денатурализированных типов и факторов в связную систему (то есть построение методологического пространства); 4) построение онтологии, которая связала бы все предыдущее в единую систему.
Развертывание модерна можно представить как развёртывание методологического поворота, как последовательную денатурализацию тех реальностей, которые протягивались от средневековья или создавались уже самим модерном на его ранних фазах. Все эти реальности из статуса «бытия» переводились в статус «ценностей» и продуктов социального конструирования. С точки зрения критики культуры этот процесс имеет позитивный смысл. Это возможность для человека освободиться от власти «бытия» по размерностям «система – индивид» и «система – система». Для контр-модернистской позиции этот процесс имеет негативный смысл. Разница между версиями контр-модерна может состоять только в том, признается ли за методологическим поворотом позитивный смысл освобождения от власти негативно понимаемых «глубин». Это признание предполагает социально-историческую рефлексию. Если эту рефлексию исключить, то получится утверждение о модерне как о простом «забвении бытия/глубины» или «убийстве бытия/глубины».
Третий аспект разговора – это акцентирование модерна как утверждения культуры «прохождения через земную реальность» и «человека активного». Средневековье можно считать культурой «мостов к трансцендентному» и «человека пассивного». Для христианского сознания мир и человек созданы Богом. Изначально мир был райским, но человек нарушил райское состояние своей несанкционированной активностью. За это он был послан в мир страданий. Такому человеку остается только одна жизненная задача – вернуться к утраченному раю. Средневековая социокультурная архитектура основана на такой онтологии и представляет собой «мосты к трансцендентному». Человек в ней является позитивно понимаемым «человеком пассивным». Его задачей является не перестройка окружающего мира, а выход из этого мира через «мосты к трансцендентному».
Если мы представим, что такое положение дел становится вызовом, то ответ (как структурное отрицание вызывающей ситуации) должен направлять к культуре «прохождения через земную реальность» и «человека активного». Как конкретно может проявляться вызов? Человек средневековья может получать такой вызов через рефлексию над стихийными бедствиями разного характера. Это неурожаи, голод, наводнения, космические события, эпидемии болезней. Их действие может оказываться не соответствующим представлениям о праведности. Погибать в таких бедствиях могут те, кто вполне обоснованно считается праведными, например, монахи. Это подрывает представление о том, что миром управляет всемогущий и разумный Бог. Человек средневековья использовал религию и церковь в качестве «суммы технологии», обставляя абсолютно все свои дела обращением к высшим силам за помощью. Сама церковь превращалась в коллективного материального и духовного капиталиста и технологического посредника между земным миром и небесным, превращая отдельного человека в предельно зависимого от себя. Это должно было когда-то стать вызовом, ответом на который должны были стать действия, подобные Реформации. Человек европейского средневековья внутренне трансформировался, становясь постепенно «человеком активным». Когда мера этой активности достигла определенного предела, произошло то, что можно назвать социокультурной революцией, направившей человека к «прохождению через земную реальность» и утвердившей его как «человека активного», который может изменять социальную и природную реальность.
Чем больше остатки средневекового бытия и мышления сопротивлялись про-модерновым тенденциям, тем более радикальной становилась критика культуры. Реформация постепенно превратилась в Просвещение, доводя эту критику до предельных значений. С точки зрения нерефлексивного контрмодерна все это рассматривается как «забвение бытия».
3. Генезис ценностного подхода к культуре
Далее Огурцов раскрывает представление Хайдеггера о генезисе ценностного подхода в культуре.
«Ценностный подход к культуре возник, по Хайдеггеру, лишь в XIX в. Он называет имя Г. Лотце, который превратил платоновские идеи в ценности, Ницше с его мыслью „переоценки ценностей“ как выражения европейского нигилизма. После появления подхода к культуре как миру ценностей этот подход экстраполировался на иные культуры и „заговорили о „культурных ценностях“ Средневековья и „духовных ценностях“ античности, хотя ни в Средневековье не было ничего подобного „культуре“, ни в aнтичности – ничего подобного „духу“ и „культуре“. Дух и культура как желательные и испытанные виды человеческого поведения существуют только с Нового времени, а „ценности“ как фиксированные мерила этого поведения – только с новейшего времени. Отсюда не следует, что прежние века были „бескультурными“ в смысле погружения в варварство, следует только вот что: схемами „культура“ и „бескультурье“, „дух“ и „ценность“ мы никогда не уловим, к примеру, историю греческого человечества в ее существе“. Хайдеггер весьма последователен в своем акценте на историчность таких оппозиций, как „культура – некультура“, „бытие – ценность“, связывая трактовку культуры как мира ценностей лишь с новоевропейской историей и подчеркивая неподвластность всей предшествующей истории такого рода схемам описания и объяснения. Для Хайдеггера не приемлемо распространенное представление о культуре как области, где развертывается духовная и творческая деятельность как мира ценностей, которыми человек дорожит. Подобное представление, как замечает Хайдеггер, не в состоянии измерить всей глубины существа культуры, раскалывая ее на отдельные, ценностно значимые области культурного производства. Для него культура возникла как замещение религиозного культа, как секуляризация иудейско-христианских представлений о творчестве Бога. Утверждение новоевропейской метафизики разрушило авторитет Бога и Церкви, поставив на их место „авторитет рвущегося сюда же разума“. Бегство от мира в сверхчувственный мир заместилось историческим прогрессом, поскольку потусторонние цели вечного блаженства оказались подмененными идеалами земного рая для большинства. <…> Период метафизики для Хайдеггера – это не просто определенный период в истории философской мысли. Это способ бытия, „пространство исторического совершения“, причем такого свершения, которое забывает о бытии и оказывается гниением»18.
Обратим внимание на то, как Огурцов передает суть модернизации, развертывания модерна. Это рождение и распространение представлений о «духе», «культуре» и «ценностях». Причем речь идет в первую очередь об эволюции модерновой философии. «Культура возникла как замещение религиозного культа». «Утверждение новоевропейской метафизики разрушило авторитет Бога и Церкви». Что это за процесс? Создается впечатление, что история содержит в себе только логику абстрактной смены одних господствующих представлений другими. Надо акцентировать внимание на том, что в этом процессе для Хайдеггера нет фундаментального позитива. А с другой стороны, в средневековье (в средневековом способе существования «Бога» и «бытия») он не усматривает никакого негатива. Хочу обратить внимание на то, что такая историческая логика не предусматривает за социокультурными революциями ответов на важные жизненные вызовы и разрешений важных проблем. Изменения просто происходят. Философы начинают думать иначе. А если это так, то вполне логично считать, что их стремление забыть «Бога» или «бытие» является абстрактным отпадением от фундаментального жизненного источника. Нужно обратить внимание на то, что при этом модерн меряется по мерке средневекового самосознания.
Кроме того, надо обратить внимание на комментарий Огурцова: «Хайдеггер весьма последователен в своем акценте на историчность таких оппозиций, как „культура – некультура“, „бытие – ценность“, связывая трактовку культуры как мира ценностей лишь с новоевропейской историей и подчеркивая неподвластность всей предшествующей истории таким схемам описания и объяснения». Здесь нужно сделать уточнение. Похоже, что Огурцов не просто передает суть позиции Хайдеггера, но и присоединяется к ней. Во всяком случае, он говорит об этой позиции позитивно. Но что означает позиция Хайдеггера? Вроде бы она говорит о том, что каждая историческая культура имела свою систему представлений о мире. Если модерновая культура говорит о «духе», «культуре» и «ценностях», то это не означает, что другие исторические культуры мыслили о мире так же.
Однако у Хайдеггера теряется та составляющая исторической рефлексии, которая выстраивает единую онтологию для всего исторического процесса. Я уже говорил о модерновом мышлении как о том, которое содержит в себе методологический поворот. Это означает, что, создавая теорию культур, такое мышление будет: 1) денатурализировать все те формы мышления и деятельности, которые можно обнаружить в исторических культурах; 2) будет искать те факторы (например, ответы на вызовы), которые создают эти формы мышления и деятельности; 3) будут создаваться методологические пространства, которые будут сводить в системную реальность все обнаруженное и созданное ранее; 4) будут создаваться онтологии, которые будут описывать весь исторический процесс и все исторические культуры, создавая интегральную (методологическую) онтологию.

