Контрмодерн и границы идеализма
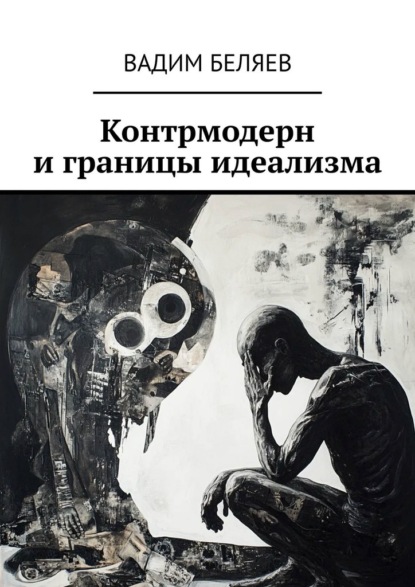
- -
- 100%
- +
И здесь надо четко понимать, что такие понятия, как «культура» и «ценность», могут быть частью единой онтологии, через которую будут описываться все обнаруженные историей культурные системы. В этой онтологии будет ряд понятий, которые будут описывать структуру культурных систем, и ряд понятий, которые будут описывать самосознание систем. Разумеется, каждая из исторических культур будет иметь свой тип самосознания (и в этом смысле свою онтологию) – это будет ответом на вопрос «как культуры видят себя». Но все эти культуры будут описываться через единую систему понятий – это будет ответом на вопрос «чем культуры являются». В той мере, в какой модерновая рефлексия является такой, для которой важно максимально реалистично увидеть все исторические культуры, она будет создавать ту систему понятий, которая может это сделать. Если в эту систему понятий будут входить понятия «культура» и «ценность», то они будут относиться не к самосознанию культур, а к их структуре.
Здесь снова можно говорить о науке как о той когнитивной позиции, которая находится по ту сторону захваченности ценностными системами. Культурология как наука будет располагаться на этом фундаменте. Каждая из культур для нее будет описываться как какая-то структура и какое-то самосознание. Исторический процесс (как процесс смены одних культурных систем другими) будет описываться по двум линиям: линии структурных изменений и линии изменений самосознания. В принципе, эти линии можно рассматривать как независимые друг от друга. Но возникает законный вопрос: а действительно ли они являются независимыми? Можно ли считать, что самосознание является ответом на те вызовы, которые создаются с участием структурных компонентов и проблем, с ними связанных? Я даю положительный ответ на этот вопрос и строю свое исследование на этом принципе. В той мере, в какой модерновое самосознание является ответом на вызовы негатива культурных систем по размерностям «система – индивид» и «система – система», оно выходит на посткультурно-общечеловеческий уровень и пытается построить объективную теорию культурных систем как способ их фундаментального соизмерения. Это означает, что такие понятия, как «культура» и «ценности», являются компонентами объединяющей социокультурной онтологии. Эти понятия должны быть применимы ко всем историческим культурам (но не к их самосознаниям, а к их структурам).
В такой рефлексии важно не только, какие формы самосознания существовали в определенной исторической культуре (например, представление о Боге), но и как эти формы самосознания включались в социальные структуры. Важно, что для средневековья не только был Бог, но и идеологическое общество, которое принуждало к представлению о Боге и вело религиозные войны, в которых индивидуальный человек оказывался расходным материалом. Если мы установим такое соединение, то вполне логичным станет вывод: модерновое «отпадение от Бога» должно включать в себя ответ на вызов негатива указанного идеологического общества.
Для Хайдеггера такой логики просто не существует. У него получается, что культурные системы состоят из одних самосознаний. И если в каком-то из таких самосознаний нет понятий «культура» и «ценности», то там нет ни самой культуры, ни ценностей. Кроме того, Хайдеггер просто проецирует средневековые представления на модерновые. Только так можно говорить, что из модерна ушло «бытие», которое было в до-модерне.
4. «Открытое/закрытое» общество-универсум, структурный идеализм/материализм
Огурцов завершает описание понимания Хайдеггером культуры.
С одной стороны, метафизика становится выражением «забвения бытия».
«При своем завершении новоевропейская метафизика, обращаясь к ценностной точке зрения на мир, разрушает себя, замещая метафизическое, сверхчувственное позитивными ценностями, т. Е. Сущим, рассматриваемым как нечто ценное, оцениваемое как ценное. Для Хайдеггера существенно то, что ценность – это лишь точка зрения, это взгляд-на, кругозор, это субъективная оценка. Ценность значима лишь до тех пор, пока она признается. Какого-либо объективного бытия сами по себе ценности не имеют. Будучи связанным с секуляризацией мысли и с забвением бытия, ценностное мышление укореняется в воле к власти. <…> Воля к власти оказывается принципом ценностного полагания и постижения действительности»19.
С другой стороны, остается потенциал для восстановления бытия.
«Бытие способно к самопроявлению, самопросветлению. В нем самом скрыта способность к предпониманию, «структура предпонимания». Эта возможность предпонимания или просветления бытия раскрывается в деятельном совершении (Besorgen), представленном в двух формах – «сподручного» (Zuhandenes) и «просто наличного» (Vorhandenes). <….> Бытие открывается через Dasein, через его деятельную заботу, мир культуры и мир слова. И это не знаковое отношение, которое укоренено в бытии, а онтологическое отношение феномена к бытию. Мир созданных вещей, мир культуры и мир слова – это самоговорение бытия, сказ бытия. Понимание этого «сказа бытия» всегда «в пути», вытекает из заброшенности человека в мир заботы и из проективности его бытия. Эта проективность предполагает постоянное расширение горизонта мира, которое и достигается благодаря деятельной заботе и культуре, особенно культуре поэтического языка.
Хайдеггер противопоставляет эйдетический и аксиологический подходы к культуре. Если для первого подхода характерно определение культуры как идеи, как идеального мира, противопоставляемого материальному, как идеального образца, устойчивого и инвариантного по сравнению с лабильным и текучим миром явлений, до определения культуры как ценности, [которое] субъективирует ее, укореняет ценность в оценке, связывает ее с полезностью, утилитарностью и служебностью для человеч [еских] потребностей»20.
На что здесь следует обратить внимание? На то, что Хайдеггер вводит два фундаментальных типологических понимания культуры: эйдетическое и аксиологическое. Для первого понимания культура является идеей, идеальным миром, противопоставленным материальному, а для второго культура связывается с системой ценностей и трансформацией окружающего мира.
С моей точки зрения, здесь следует сделать прояснение. Я предлагаю другое понимание этих типов. Оно не является отрицанием тех типов, которые введены Хайдеггером, но придает им социально-историческую размерность. Я уже говорил о до-модерне как эпохе, в которой господствовали идеологические общества. Революцию модерна можно представить как интегральный ответ на вызов идеологической социокультурной архитектуры, как движение к постидеологическому обществу.
Другим фундаментом здесь может служить противопоставление «открытого» общества-универсума «закрытому». «Закрытое» общество-универсум можно определить как то, в котором система мира (или общества) предзадана элементам мира (или общества). Как правило, «закрытое» общество и универсум являются иерархически организованными, и каждый элемент находится на своем месте в этой иерархии. Человек «закрытого» общества должен следовать той жизненной программе, которая задана ему местом в социально-универсальной иерархической структуре. Таково средневековье (европейское и мировое).
Нетрудно увидеть, что суть «закрытого» общества-универсума соответствует «эйдетическому» пониманию культуры у Хайдеггера. Представление о культуре «как идее, как идеальном мире, противопоставляемом материальному, как идеальном образце, устойчивом и инвариантном по сравнению с лабильным и текучим миром явлений» полностью соответствует логике «закрытости». Человек как элемент общества и универсума по своему онтологическому положению включен в культуру как предзаданную ему систему мира. Причем эта система мира считается некой глобальной «формой», по отношению к которой индивидуальный человек оказывается «материей». «Материя» должна реализовывать через себя логику «формы». Такое построение можно назвать «структурным идеализмом».
В логике Хайдеггера «эйдетическое» понимание культуры, «закрытый» универсум проходит как нечто безусловно позитивное. То есть движение в противоположном направлении (к «открытому» обществу-универсуму, структурному материализму) должно пониматься как строго негативное. Однако такое понимание (как я уже не раз говорил) полностью игнорирует социально-исторические формы реализации «эйдетического» понимания культуры. Если средневековье реализовывало такое понимание в формате идеологического общества, то актуализировались все те вызовы по размерностям «система – элемент» и «система – система», о которых я говорил. В той мере, в какой «эйдетическое» понимание оказывалось соединенным с реализационным негативом и создавало вызов, ответ на вызов (структурное отрицание вызывающей ситуации) направлял к «открытой» архитектуре.
«Открытое» общество-универсум можно определить как такое, в котором нет предзаданной для элементов мира (общества) системной структуры. Такие структуры человек создает сам на основе проектов и способов реализации. Если для «закрытого» общества-универсума утверждался «пассивный человек», который следует эйдетической иерархии, то для «открытой» архитектуры человек становится «активным», который изменяет системы общества. Общество и мир оказываются системами, суть которых задается процессом глобальной эволюции, в котором элементы мира (общества) оказываются активными и принимают участие в создании системных форм. Если в «закрытой» архитектуре активной составляющей была «форма», то в «открытой» архитектуре активна «материя», которая своей активностью порождает системные формы. Это можно назвать структурным материализмом.
Итак, модерн можно считать глобальной революцией, которая представляет собой переход от «закрытого» общества-универсума к «открытому», от структурного идеализма к структурному материализму. Предельно важно понимать, что этот переход не является абстрактным изменением мировоззрения. Это интегральный ответ на систему фундаментальных жизненных вызовов, созданных историческими формами существования логики «закрытости». Точнее сказать, здесь присутствует как само противопоставление логики «открытости» логике «закрытости», так и противопоставление реальному способу существования логики «закрытости» в виде идеологического общества.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025).
2
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 32.
3
Беляев В. А. Интегральный традиционализм и социокультурная логика модерна. – [б.м.]: Издательские решения, 2025. – 144 с.
4
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 44.
5
Там же. С. 44.
6
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 45.
7
Беляев В. А. Современный культуроцентризм как объект методологического анализа. Теория интегральных аспектов мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2024. – 309 с.
8
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 32.
9
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 34.
10
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 34.
11
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 36.
12
Мурзин Н. Н. Отравление общности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 49 (июнь 2025). С. 40—42.
13
Беляев В. А. Методологический дискурс о модерне: Через критику книги Ю. Хабермаса «Философский дискурс о модерне». – М.: URSS, 2022; Беляев В. А. Европейская социальность в зеркале социокультурной методологии и параметрической реконструкции. – М.: КнигИздат, 2022; Беляев В. А. Современный культуроцентризм и история в поисках общечеловеческого. Российский проект цивилизационного развития и Программа мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2023; Беляев В. А. Современный культуроцентризм как объект методологического анализа. Теория интегральных аспектов мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2024.
14
Огурцов А. П. О критике культуры как ценности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 44 (март 2024).
15
Беляев В. А. Самосознание модерна: Между контр-модерном и пост-модерном. – М.: ЛЕНАНД, 2016; Беляев В. А. Социокультурная методология в действии: В сопоставлении с традиционной, феноменологической методологиями и миросистемным анализом. – М.: ЛЕНАНД, 2019; Беляев В. А. Методология как социокультурный феномен: Методология в широком смысле. Социокультурная методология. Методология ММК в зеркале социокультурной методологии. – М.: URSS, 2022; Беляев В. А. Современный культуроцентризм и история в поисках общечеловеческого. Российский проект цивилизационного развития и Программа мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2023; Беляев В. А. Современный культуроцентризм как объект методологического анализа. Теория интегральных аспектов мирового развития. – [б.м.]: Издательские решения, 2024.
16
Огурцов А. П. О критике культуры как ценности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 44 (март 2024). С. 2.
17
Огурцов А. П. О критике культуры как ценности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 44 (март 2024). С. 3.
18
Огурцов А. П. О критике культуры как ценности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 44 (март 2024). С. 5.
19
Огурцов А. П. О критике культуры как ценности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 44 (март 2024). С. 6.
20
Огурцов А. П. О критике культуры как ценности // Электронный философский журнал Vox. Выпуск 44 (март 2024). С. 7.

