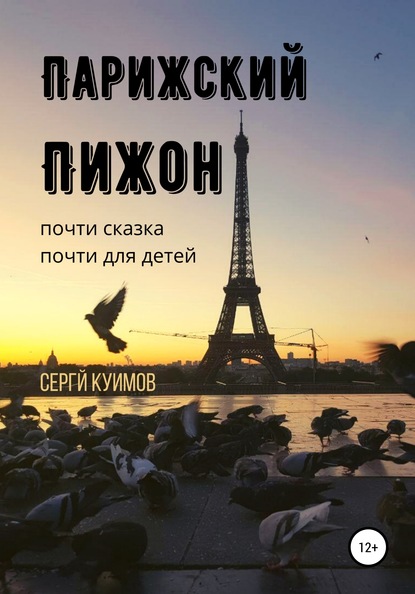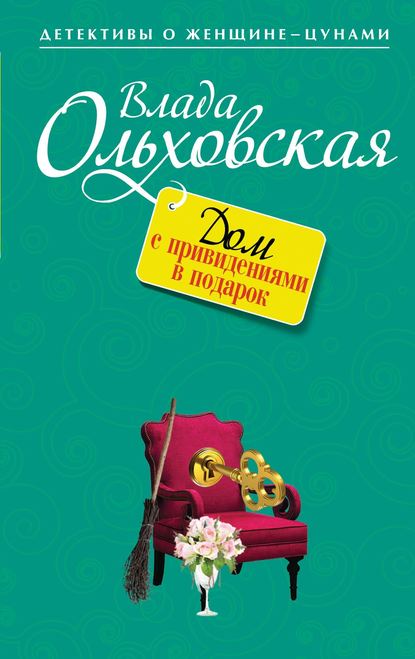- -
- 100%
- +

Серхио, Мундо, Старухе, Шону и всем друзьям из Остина
благодарностью сотрудникам Центра Гарри Рэнсома
Более пятидесяти лет мое царствование приносило победу или мир, подданные меня любили, враги боялись, а союзники уважали. У меня было в избытке богатств и почестей, власти и наслаждений, все земные блага, казалось, были доступны моим желаниям. И вот, достигнув вершин, я старательно сосчитал все дни чистого и подлинного счастья, которые выпали на мой век: их оказалось ровно четырнадцать.
Абд Ар-Рахман Третий© Jacobo Bergareche & Libros del Asteroide SLU, 2021
All rights reserved by and controlled through Libros del Asteroide, Barcelona.
This edition c/o SalmaiaLit, Literary Agency
© Н. Беленькая, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство АСТ”, 2025
Издательство CORPUS ®
Луис и Камила
Остин
июнь 2019
Дорогая Камила,
только сейчас я понял, что за минувший год моей жизни самыми полноценными и истинными моментами счастья были потасовки, которые моя младшая дочь Кармен называет войной. Этот недолгий ритуал потешной битвы Кармен устраивает ежевечерне, прежде чем лечь спать. Гневно посмотрев мне в глаза, принимается молотить меня ногами и руками, ее воинственные нападки, скорее всего, вдохновлены каким-нибудь боевым искусством, подсмотренным в школьном дворе, а я должен поймать одну из ее взлетающих конечностей, обездвижить ее, перевернуть в воздухе и бросить на кровать, она пытается встать, а я ей не позволяю, толкаю в лоб и отбрасываю назад; не в силах удержаться в сидячем положении, она шлепается на подушку и делает попытку подняться, а я снова ее отталкиваю. Затем хватаю за лодыжки, одним рывком переворачиваю лицом вниз и принимаюсь щекотать, пока она не скажет “хватит”. Она терпит изо всех сил и наконец сдается, хохоча и повизгивая. Иногда уворачивается и бьет меня по носу, причем довольно чувствительно, или же я случайно задеваю ее ногтем и оставляю царапину, или она ударяется о стену, и дело кончается слезами. Но в основном битва проходит гладко, Кармен требует, чтобы мы повторили сальто, я переворачиваю ее, ухватив за лодыжки, затем щекочу ступни, а она меня шантажирует, уверяя, что, если мы не продолжим сражаться, она не поцелует меня на ночь, – знает, что я не привык засыпать без ее прощального поцелуя.
Иногда я не успеваю вернуться домой вовремя, и Кармен ложится спать, так меня и не дождавшись, или же я настолько устаю, что просто не в состоянии подбрасывать ее в воздух в уверенности, что не сломаю ей шею или не растяну лодыжку. В такие дни меня преследует мысль, что нашим войнам пришел конец, что я, сам того не подозревая, упустил последний шанс, что на следующий день Кармен ничего уже не захочет и через день тоже, а потом внезапно вырастет, и ей разонравится бесцеремонное подбрасывание в воздух, разонравятся щекотка и смех, она передумает так дорого продавать свой поцелуй на ночь и будет молча чмокать меня в щеку, чтобы побыстрее отделаться. Как в один прекрасный вечер около года назад она впервые потребовала битву перед сном, так однажды она перестанет об этом просить, и как бы я ни старался прибывать вовремя на очередное сражение, одна из битв станет последней, а я этого не пойму (если только финал не станет результатом несчастного случая, например, смертельного удара затылком об угол стола, я всегда подозревал, что такое может случиться, потому что, к сожалению, все, чего мы боимся, в конечном итоге когда-нибудь случается) до тех пор, пока вечер за вечером наши сражения не начнут отменяться: то я в командировке, то она в летнем лагере, и постепенно время положит конец войнам, Кармен станет старше, а я старее, наши потасовки превратятся в счастливые воспоминания детства, сведясь к точному и исчерпывающему количеству сражений: первое, множество других и последнее. Числа этого мы не знаем, нас не интересовало количество битв, и все-таки я постоянно помню, что число это существует, и если был первый раз, то, скорее раньше, чем позже, наступит еще один, на этот раз последний.
Это касается не только войн с Кармен, но и многих других любимых и повторяющихся событий: сколько раз после воскресного обеда я прощался с мамой, думая, что этот обед может быть последним, сколько раз, уезжая в командировку, целовал на прощанье троих своих детей и, когда они оставались вдали, думал, что, возможно, это был последний поцелуй, потому что самолет может разбиться или они сгорят в нелепом пожаре, вызванном увлажнителем воздуха, который, по мнению жены, предотвращает у детей кашель и которому я доверяю не больше, чем снадобьям, купленным в травяной лавке. Нечто похожее происходит и с тобой, происходит с тех пор, как я впервые тебя поцеловал, а потом лег спать, молясь о том, чтобы этот первый поцелуй, такой невероятный, такой неожиданный, не был последним, а на следующий день, когда ты поцеловала меня еще раз, я начал вести учет каждого поцелуя, который мы подарили друг другу за те три дня нашей первой встречи. Пока мы не увиделись снова, я много ночей сражался с призраком последнего поцелуя, сопротивляясь мысли о том, что, целуя тебя, я и думать не мог, что этот поцелуй не повторится, что все кончено, занавес опустился, зрители разошлись по домам, а я по-прежнему сижу в партере, ожидая второго акта. Когда через год мы вернулись на место преступления и ты поцеловала меня в аэропорту, прежде чем я успел произнести все слова, вертевшиеся у меня в голове на протяжении полета, пока я тщательно продумывал, что скажу тебе при встрече, я успокоился и перестал наконец вести счет, утратил страх перед неизбежностью конца, убедил себя в том, что все это будет повторяться каждый год, последний поцелуй исчез из виду, затерявшись где-то в далеком будущем.
Сколько времени я убил понапрасну, погружаясь в затуманивающие сознание страдания каждый раз, когда нечто заставляло меня вспоминать о том, что все, чем я дорожу, имеет начало и однажды закончится. Я стараюсь побыстрее избавиться от этой навязчивой мысли, прежде чем смятенный мозг вылепит видение последнего раза, его созерцание поглотит меня, и я больше не смогу защитить разум от тлетворного влияния этих бесплодных усилий.
Вот почему в тот миг, когда мне в руки случайно попала папка с перепиской известного писателя с его возлюбленной – оба давно мертвы, – я невольно опечалился: видя на дне папки первое письмо любовной переписки, а сверху последнее, я прикинул на глаз, сколько листов уместилось между обоими письмами, первым и последним, а значит, сколько писем оставалось каждый раз до завершения их отношений. Набор свидетельств, сохранившихся в мире от их любовной истории, имел толщину едва ли в полсантиметра и умещался в пространстве размером тридцать пять на двадцать пять сантиметров, что примерно соответствовало объему папок цвета слоновой кости, в которые разложены письма из 11-го контейнера архива Уильяма Фолкнера в Центре Гарри Рэнсома, где я убиваю время сегодня утром и где, скорее всего, проторчу весь этот день, а заодно и последующие дни, пока не забуду полностью о цели своего визита, успевшего потерять для меня всякий интерес. Слишком уж соблазнительны эти бумаги, которые, как я тебе уже говорил, попались мне случайно, зато теперь они заключают в себе возможность найти ответы, а потому захватили меня полностью, как подростка раздел о любовных делах в молодежных журналах. Но тем не менее содержимое папки наводит меня на новые и новые вопросы. Какие перспективы у нашей истории (давай будем называть это “нашей историей”, за неимением лучшего термина)? Какой след она оставит, какие отпечатки, какой пепел? Свидетельств больше нет. Я удалил все, абсолютно все, и, насколько мне известно, ты тоже. Я просто знаю, что в прошлом году видел тебя четыре дня в эти же даты, в этом же городе, а годом ранее – еще три дня в те же дни и в том же месте. “Видеть тебя” – эти слова заключали в себе все. У меня была ты, у тебя был я. Мы были друг у друга.
Интересно, нет ли в каком-нибудь уголке Южной Дакоты или на Мальте работающего сервера, где все еще хранятся заархивированные копии всех наших удаленных сообщений? Осталось, правда, несколько фотографий с пейзажами, которыми мы любовались вместе и которыми оба делились в соцсетях, но всегда осторожно, чтобы кто-нибудь не заподозрил, что мы имели какое-то отношение друг к другу. Так, на фотографии в инстаграме остался неповторимый рисунок облаков в тот день, который мы провели вдвоем. И еще у меня осталась книга, подаренная тобой в остинском книжном, и теперь я очень сожалею, что попросил тебя не подписывать ее на память, опасливо и предусмотрительно заметив, что нельзя оставлять следовнашей истории: бегло и завистливо заглянув в частную переписку мистера Фолкнера, я внезапно почувствовал потребность в том, чтобы у меня сохранился крошечный след, отзвук, намек, напоминающий о том, что наша история действительно существовала, что нас что-то объединяло. Я не собирался ничем утолять этот голод, и, пока не попал сюда, мне приносило огромное облегчение именно отсутствие следов, тот факт, что у меня не имелось фетиша, прикосновение к которому заставило бы погрузиться в круговерть фантазий о том, как могла бы пройти эта неделя с тобой; я был рад, что у меня не сохранилось ни единой фотографии, могущей воскресить воспоминания о четырех ночах, проведенных вместе в прошлом году, и о трех других ночах – годом ранее. Мне трудно поверить, что мы были вместе всего семь дней, они занимают столько места, поэтому мне едва удается думать о чем-то другом, пока я хожу по городу, зная, что и ты сейчас где-то неподалеку, возможно всего лишь в пятистах метрах от меня, и пробудешь здесь еще четыре ночи. Я не собирался тебе писать, я согласен с твоим решением и не требую объяснений, просьбу в твоем последнем сообщении я воспринял как приказ: “Мой муж в последнюю минуту решил ехать со мной, пожалуйста, не пиши мне больше. Останемся воспоминанием. Прощай, люблю тебя”. Я стер сообщение, перечитав его двадцать раз, затем удалил твой номер мобильного, чтобы избежать соблазна (электронную почту я забыть не смогу, слишком она проста). Это “останемся воспоминанием”, которым ты предлагаешь мне утешиться, превратилось в неожиданную проблему: чтобы воспоминание не исчезло, нужно где-то его хранить, однако, как известно, воспоминания, не подкрепленные образами, словами или предметами, постепенно стираются из памяти, утрачивают свою отчетливость, контуры их размываются, цвета расплываются, и нам остается лишь туманное пятнышко света на фоне тьмы, которая в конечном итоге все поглощает.
“Останемся воспоминанием”, говоришь ты, и, одержимый манией высчитывать и определять все, что случается в последний раз, я понимаю, что эта фраза, вероятно, будет последним глаголом, который мы проспрягаем, придав ему форму первого лица множественного числа, – нашим последним совместным действием от первого лица множественного числа будущего времени. Странная просьба, не возьму в толк, какую пользу может нам это принести, тем не менее для начала воспоминание следует выстроить и зафиксировать таким образом, чтобы мы могли в нем остаться. Моих слов хватает только на бальзамирование. А потому позволь написать это письмо, хотя я, вероятно, никогда его не отправлю: мне достаточно знать, что я с тобой беседую, хочу еще немного послушать тот особенный голос, которым я говорил только с тобой: он рождался во мне только в твоем присутствии. Это так пошло и недостойно, но я хочу услышать собственный голос, который вот-вот утонет в твоем молчании, поиграть еще немного на этом блестяще освоенном мною инструменте, который служил исключительно для того, чтобы ты его слышала.
Пишу эти строки, и у меня закрадывается подозрение, уж не влюбляемся ли мы в себя влюбленных, не боюсь ли я утратить прежде всего возможность быть человеком, влюбленным в тебя, человеком, который может делать, говорить и чувствовать то, что делает, говорит и чувствует влюбленный. Сомнения обоснованы: в конце концов, я провел с тобой всего семь дней, точнее три дня, за которыми наступила годичная разлука, а потом еще четыре дня и еще один год пустоты, который должен был завершиться вчера грандиозной встречей в аэропорту. Следует считать также и время, проведенное вдали от тебя, потому что разлука важна для нашей истории, как тишина в музыке или тень в живописи.
После первых трех дней, проведенных с тобой два года назад, я понял, что на самом деле вернулся не только в Мадрид, но и в свою жизнь, поскольку три дня я прожил в другой жизни. Та другая жизнь тоже была полностью моей, это она порождала тот голос, исходивший из меня только в твоем присутствии, и никто в ней больше не помещался, а обычная жизнь, которая, по-видимому, снова стала моей единственной, исчезала, пока не возобновлялось твое отсутствие. У человека может быть более одной жизни, но он не умеет пребывать в обеих одновременно и думает, что у него она только одна, а потом внезапно оказывается в другой, которая тоже ему принадлежит.
Мы деликатно избегали разговоров о наших других жизнях (жизнях или партнерах, не знаю, как правильно выразиться), мы прятали их друг от друга в герметичных хранилищах из чисто гигиенических соображений: чтобы не смешивать одну с другой. Я не хотел слышать твоего мнения о той жизни, куда мне предстояло вернуться, и не хотел представлять тебя в твоей, изучать ее свет и ее тени или сравнивать себя с твоим мужем, а тебя с моей женой. Было важно освободить друг друга от тех, кто мы есть, пока не видим друг друга, от тех, к кому нам скоро предстоит вернуться. Сейчас все будет по-старому, я не собираюсь рассказывать тебе о своей жизни, по крайней мере называя все своими именами, в своем рассказе я прибегну к метафоре: итак, к моменту твоего появления моя жизнь представлялась мне огромным кораблем, груженным контейнерами, одни из них были забиты токсичными отходами, другие – иллюзиями с истекшим сроком годности, обязанностями, заботами, подавленными желаниями. Судно неповоротливо, а океан слишком огромен. Каждое утро ты просыпаешься в одной из кают, надеясь, что волнение уляжется, что скоро появится порт, где ты сможешь выгрузить часть груза, потому что в любой мало-мальский шторм все эти наставленные друг на друга контейнеры сдвигаются, и судно опасно кренится. И вот посреди этого плавания я встретил тебя, и, как ни удивительно, несколько дней, проведенные с тобой, легли на судно необходимым противовесом, оно обрело устойчивость, набрало скорость, прибыло в порт и – о чудо! – выгрузило десяток-другой ящиков.
Три или четыре дня в году – идеальное решение, их не должно быть больше. Та часть нас, которую мы скрываем от других, должна быть невелика, в противном случае мы станем абсолютно непроницаемы для близких или, что еще хуже, станем слишком понятны тем, с кем нас объединяет близость двоих незнакомцев. В жизни наступает момент, когда только с незнакомцами, не боясь напугать их или разочаровать, можно говорить о скрытых желаниях, о том, во что мы перестали верить, о том, кем мы больше не хотим быть, и о том, кем постепенно становимся.
Я становлюсь невыносимо поэтичным (в худшем смысле этого слова, возможно, правильнее было бы сказать пошлым), меня начинает тошнить от этих аллегорий – о голосе, которым я говорю только с тобой, и о жизненном корабле. В Остин я прибыл главным образом для того, чтобы использовать выражения, которым ты меня научила, потанцевать с тобой в обнимку, потискать тебя, трахнуться в такси по дороге в отель, отдубасить крысу палкой (это, без сомнения, мое любимое мексиканское выражение), вдуть, засадить, или попросту, как говорим мы, испанцы, хорошенько тебя отодрать, о чем мы мечтали, что предвкушали и чего жаждали целый год. Вместо этого я воспаряю в метафорах, обряжая трупнашей истории с большим тщанием, чем обряжали египетскую мумию. Альтернатива состоит в том, чтобы постараться не думать о тебе, не думать о том, что ты разгуливаешь по этому же кампусу, в то время как я пытаюсь писать красиво (читай: пошло), и, возможно, столкнусь с тобой на выходе из Центра Гарри Рэнсома, и сосредоточиться на том, за чем я, собственно, сюда прибыл, а именно – на репортаже на четыре или пять страниц для воскресного приложения к газете, потому что финансовый директор, который у нас, по сути, всем заправляет, не видел смысла оплачивать мне поездку только затем, чтобы я поприсутствовал на конгрессе, на кой черт сдался газете этот конгресс, если тамошние тусовки транслируются по всем каналам; однако все было бы куда проще, увидь он, как мы отплясываем в “Белой лошади”: мигом бы сообразил, что энтузиазм, который я привезу с собой по возвращении, заразит всю редакцию. Таковы будни испанской медиагруппы, вечный базарный торг: я оплачу тебе поездку, но самым дешевым рейсом с тремя пересадками, отельHoliday Inn, питаться будешь бутербродами, а взамен привезешь репортаж или что-то, оправдывающее расходы. Скорее всего, в следующем году поездку мне уже никто не оплатит, вряд ли мне удастся выжать из Остина больше одного репортажа, к тому же теперь это не имеет значения, изначальный смысл поездки исчез, приехать ради воспоминаний – так себе идея, я всегда убеждал себя в том, что не верю в ностальгию.
На самом деле из Центра Гарри Рэнсома можно выжать столько сока, что хватит на несколько страниц для любых приложений и разделов. Ты наверняка видела это место: квадратный бастион из армированного бетона, смахивающий на бункер, который под действием тектонического смещения вылез из земных недр на 21-й улице посреди университетского кампуса, аккурат напротив фонтана. В этом сером кубе хранятся сорок три миллиона документов, в том числе две Библии Гутенберга, первая фотография Нисефора Ньепса, несколько экземпляров Первого фолио Шекспира, полные или частичные архивы живых и главным образом мертвых гениев: мага Гудини, По, Конан Дойла, Жана Кокто, Габриэля Гарсиа Маркеса, Джойса, Беккета, Дэвида Фостера Уоллеса, Кутзее, Исигуро, Энн Секстон, Дэвида О. Селзника, Роберта де Ниро, Артура Миллера, Алистера Кроули, Пола Боулза, Льюиса Кэрролла, Фолкнера, Борхеса, Барохи (интересно, каким ветром занесло Бароху в Техас?), Хемингуэя, Малькольма Лаури, снимки фотоагентства “Магнум”, всевозможные редкие книги, Уотергейтские документы Боба Вудворда, рукописные ноты Верди, Стравинского, Равеля, сочинения Ньютона, расчеты Эйнштейна – вот лишь то немногое, что позволяет получить минимальное представление о бездонном хранилище. Трудно поверить, что это подобие Александрийской библиотеки нашего времени приютилось в заштатном городишке в центральной части Техаса, который вряд ли кто-либо назовет кладовой высокой культуры. Кое-кто спросит: что делает редчайшее собрание в Остине, как оно здесь оказалось? Это место начисто ускользнуло от моего внимания во время двух предыдущих визитов в Остин, оно неизменно оказывается в конце любого списка местных достопримечательностей, уступая первенство магазину ковбойских ботинок на Саут-Конгресс, барбекю Аарона Франклина, трассе Формулы-1 или колонии летучих мышей под мостом на Конгресс-авеню. Спроси любого встречного о Центре Гарри Рэнсома, и он затруднится ответить, что это такое, тем более где находится. Я бы никогда не узнал о существовании замечательного хранилища, если бы газета не приставила мне к виску пистолет и не заявила: либо я привезу репортаж для страниц приложения, либо в этом году командировка в Остин отменится.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.