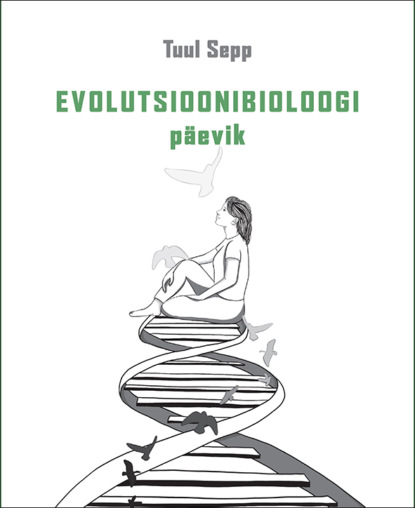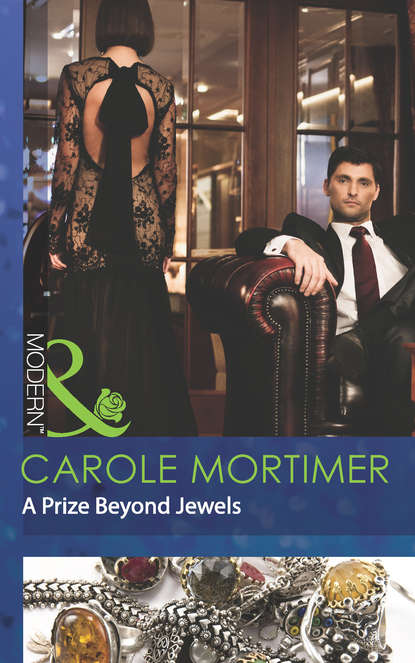Сестры Шред

- -
- 100%
- +
– Угу, хорошо им теперь? – Без Олли команда опустилась в самый конец турнирной таблицы. – Надеюсь, они довольны.
– Не в этом дело. Она вела себя неправильно.
– Можно было просто отстранить разок от соревнований, вот и все.
– И к чему ты клонишь? Что должна думать Эми? Что принимать наркотики – это нормально? – вопрошала мать, используя меня как аргумент, молчаливый и даже глухой.
– Лоррейн, это всего лишь травка…
– Это наркотик!
Мать вскочила из-за стола, метнула тарелку, как диск фрисби, в раковину и бросилась вон из кухни.
– Ну, успокойся, пожалуйста. – Папа поймал ее за руку.
– А ты, я смотрю, спокоен и счастлив, да?
– Да нет, же, родная, но ты слишком разнервничалась.
– Твою дочь выперли из школы! Она принимает наркотики!
– Она не первый ребенок, который попробовал покурить…
Мать сердито посмотрела на него, потом перевела взгляд на меня.
– Хорошенький разговор при ребенке!
* * *Зная, что Олли никогда не согласится пойти к психиатру по доброй воле, мама вытащила ее из дома под каким-то надуманным предлогом. Мне было совестно, что я не предупредила сестру.
– Не смей трогать мои шмотки! – крикнула Олли, когда они выезжали из гаража.
Едва машина скрылась из виду, я приготовила все необходимое для одной из моих любимых игр – «Сапожник». У папы была электрическая машинка для чистки обуви – такая капсула, похожая на пушистую гусеницу; касаясь щетиной ботинка, она жужжала, как циркулярная пила. Она меня просто завораживала. Отец говорил, что эта машинка разок чуть не оторвала ему палец, и велел не трогать ее. В отличие от Олли, мне этого было достаточно. Я не из тех детей, кто норовит потрогать горячую плиту или постоять на карнизе. Я надела старый фартук, разложила кремы для обуви, выстроила в рядок папину обувь и принялась «чистить» ее, хотя больше изображала усердие, конечно. Да, в четырнадцать лет поздновато предаваться таким фантазиям, но знакомые маленькие миры, которыми я управляла, меня успокаивали.
Оставшись дома одна, я сделала то, чего никогда не делала: щелкнула манившим меня серебристым выключателем. Машинка зажужжала, щетинки быстро завертелись. Я еще раз нажала выключатель, и щетка с приятным щелчком затихла, постепенно замедлив вращение до полной остановки. Сделав так еще несколько раз, я приложила крутящиеся щетинки к одному из отцовских ботинок: тусклая кожа на нем засверкала. Довольная результатом, я нагнулась за кремом для обуви, и машинка внезапно ухватила клок моих волос. С нахлынувшей тошнотой я почувствовала, как от моей головы отрывается кожа. Из глаз брызнули слезы, я попыталась вырваться. Потом машинка издала визг, похожий на звук скользящих по асфальту шин, и чудесным образом отключилась. В нос ударил тошнотворный сернистый запах горящих волос, и меня чуть не вырвало.
Волосы туго накрутились на ось, как шнур на катушку, и освободиться можно было только срезав их. Изогнувшись, я дотянулась до ящичка отцовской тумбочки и принялась шарить там вслепую, надеясь отыскать какие-нибудь ножницы. Мне попались щипчики для ногтей на ногах; я лихорадочно кромсала ими волосы, пока не освободилась. Если бы Олли это видела, она бы смеялась до упаду. В каком-то мультфильме я видела такой забавный эпизод с волосами. А теперь держала в руке клочок собственного скальпа. Кровавое пятнышко на голове, бывшее поначалу размером с маленькую монетку, растеклось до размера серебряного доллара.
Паника стихала, а боль усиливалась. Я быстро убрала всю обувь, кремы и щетки, отчаянно пытаясь скрыть все улики, как будто заметала следы на месте преступления. Я распутала тот клок волос, который намотался на ось машинки, завернула его в салфетку и зарыла в мусорном баке на улице. Проверяя пределы собственного терпения, я потрогала больное место на голове и хладнокровно взглянула на оставшуюся на пальцах жидкую кровь. Потом я раздвинула волосы, рассмотрела рану в мамином увеличивающем зеркальце и промокнула кровь ватным тампоном. Увидев, как быстро пропитываются волокна, я чуть не потеряла сознание.
Боясь упасть, я опустилась на пол ванной. Не знаю, сколько я там просидела, но когда встала, на коврике осталось пятно крови, поэтому я скатала его и спрятала под кровать. Чтобы скрыть проплешину, я зачесала волосы набок и закрепила их заколкой, которую нашла в старой спальне Олли. С тех пор, как она перебазировалась в подвал, никто в этой комнате почти ничего не трогал. Оставленные на столе ножницы так и лежали раскрытыми, как девочка с раскинутыми ногами.
Наши с сестрой комнаты, с общей ванной посередине, были очень похожи: обои одинакового цвета и мебель с такой же отделкой, одинаковые покрывала и наволочки. У кровати Олли был старомодный балдахин, который мне очень нравился, а ей больше нравилась моя кровать в виде саней. Она прыгала в этот воображаемый экипаж, хватала воображаемые вожжи и удирала от погони, ограбив банк и убив кассира. В детстве мы носились из одной комнаты в другую; во всех играх Олли всегда брала на себя доминирующую роль. Только позже я осознала, сколько садизма было в наших развлечениях: я играла Любопытного Джорджа, а Олли была Человеком в Желтой Шляпе[8]. Она загоняла меня под корзину и сидела на ней, а я вопила, чтобы меня выпустили. А еще Олли играла убийцу Билла Сайкса из «Оливера и компании» и гонялась за мной по всему дому с кухонным ножом. Я запиралась от нее в ванной, а она грозила мне, просунув лезвие под дверь. Но я продолжала с ней в это играть.
Вернувшись домой после визита к психиатру, Олли ураганом пролетела по дому, сунула в рюкзачок какую-то одежду и умчалась к Бену.
– Все прошло хорошо, – сообщила мать без своего обычного сарказма.
Стоя у шкафа в прихожей, она бросила на меня через плечо такой взгляд, каким на дороге проверяют, не приближается ли сбоку машина.
– Что-то изменилось? – Теперь она окинула меня с головы до ног тем пронзительным взглядом, с которым проверяла, помыла ли я за ушами и почистила ли зубы.
Я ужасно боялась, что она разглядит пятно под волосами, но мама была слишком раздражена после поездки.
– Не знаю, Эми, сдаюсь! – сердито произнесла она, хоть я и не предлагала ей угадать. – Мне сейчас некогда.
Вообще-то, я любила задавать родителям вопросы-загадки: сколько оленей живет на нашей планете (примерно двадцать пять миллионов); как звали шимпанзе, которого отправили на орбиту (Хэм); сколько спиц в колесе велосипеда (в среднем тридцать две).
– Я зачесала пробор по-другому, – тихо сказала я.
Мать еще раз внимательно посмотрела на мою голову и произнесла без всякого выражения:
– Это-то я вижу.
Излишне энергично гремя вешалками, она повесила пальто в шкаф и сообщила, что собирается вздремнуть.
– Просто потрясающе! – Папа выставил большой палец и прищурился, словно собирался меня нарисовать.
У меня из глаз потекли слезы.
– Правда! Мне нравится! – Папа потискал меня за плечи. – Что с тобой, Зайка?
Я ничего не ответила. Алая монета жгла голову. Отец попытался поцеловать меня в макушку, но я увернулась – боялась, что выскочит заколка. На следующий день, когда я была в школе, мама нашла под кроватью окровавленный коврик и обрадовалась, решив, что у меня наконец-то начались месячные. «Милая, тут нечего скрывать!» У меня не хватило смелости признаться, что это кровь из головы.
В апреле того же года наши родители сделали последнюю попытку поддержать видимость полноценной семьи: решили сообща съездить в столицу. Олли отказывалась ехать. К тому времени мама с папой успели понять, что заставлять ее бесполезно, поэтому подкупили, предложив отдельную комнату в мотеле – то есть мне предстояло спать на складной кровати в номере родителей. Даже после этого Олли продолжала ныть до самого отъезда. В машине она сидела отстраненно, погрузившись в свои мысли. Странно было уже то, что она отказалась от предложенных конфеток ассорти. Обычно она выхватывала у меня весь пакетик и опрокидывала себе в рот.
Центральным пунктом поездки была выставка в Смитсоновском институте «Стейбен: семьдесят лет американского стеклоделия», которую хотела посмотреть мама. Впервые она увидела стекло этой фирмы еще в детстве, когда на Всемирной выставке 1939 года, по ее словам, попала в настоящий хрустальный лес. В моем списке первым пунктом шел Национальный зоопарк; хотелось увидеть недавно прибывших из Китая гигантских панд Лин-Лин и Син-Син. Для полноты ощущений отец запланировал поездку так, чтобы она выпала на сезон цветения сакуры. Он назвал нашу поездку паломничеством, и я ждала ее с волнением, хотя старалась не показывать Олли своего нетерпения.
«Добро пожаловать в Делавэр». Мы остановились пообедать на придорожной площадке для пикников. Олли первой подошла к столикам.
– Да тут везде птичье дерьмо! – Она перебегала от столика к столику и шлепала ладонью по каждому, словно играла в «утка-утка-гусь»: – Дерьмо, дерьмо, дерьмо!
Столы были не такими грязными, какими их выставила Олли, но когда отец попытался убрать птичий помет носовым платком, он только размазал белую пасту, и стало еще хуже.
– Фу, гадость!
Мама села за один из столиков и, открыв термос с кофе, объявила, что это вполне преодолимые трудности. Пока мы разворачивали сэндвичи, Олли продолжала бродить вокруг. Я приступила к своему ритуалу снятия хлебной корки единым куском. Это было одно из моих небольших, но важных удовольствий: снять кожуру с апельсина целиком или заточить карандаш так, чтобы стружка не сломалась. Олли терпеть не могла моей обстоятельности и любимых кропотливых занятий: долгие вечера я проводила, собирая карточные домики, пазлы или цепочку из оберток от жвачек. Дело было не в недостатке терпения; просто ее ум работал быстрее и лихорадочнее моего. Иногда она начинала стучать под столом ногой, как отбойным молотком, или хрустеть суставами пальцев, словно сбрасывала излишек энергии.
Когда я добралась до сложного запекшегося края хлебной корочки, Олли выхватила у меня сэндвич, смяла его в шар и метнула в кусты.
– Выбешиваешь, зануда!
Никто из нас и слова не успел сказать; из кустов тут же взлетела целая туча ворон и набросилась на хлеб. Олли принялась кричать им в ответ:
– Кар! Кар! Кар!
В это время к стоянке подъехала еще одна семья; едва начав расстилать скатерть на загаженном столике, они услышали крик Олли и торопливо отошли подальше. Казалось, раздвинулся некий занавес, и наше семейство вновь оказалось в центре сцены, исполняя спектакль, который мы не хотели никому показывать.
Вороны опустились на землю возле парковки, и Олли кинулась туда. Она захлопала руками и громко каркнула; птицы одновременно поднялись в воздух – словно черный плащ взметнулся. Мать погнала нас к машине, а отец подобрал пакеты и фольгу и выбросил в мусорку. Прежде чем закрыть термос, он попытался напоследок глотнуть кофе, но мама махнула рукой в сторону машины: поехали быстрей. Я ждала, что она отругает Олли, но она просто велела отцу сесть за руль, и он вывел автомобиль на шоссе.
– Ма-ам! – взвыла я.
– Что о нас подумают? – услышала я в ответ.
Закутавшись с головой в свое одеяло, я тихо закипала. А Олли стала тихонько напевать строчку из песни «Пинк Флойд» о людях, проводящих жизнь в тихом отчаянии. Она, конечно, имела в виду нас, точнее меня. Ей нужен был достойный противник, а я слишком легко сдавалась, не вступая в бой, к которому она так стремилась. Но на сей раз, разозлившись на сестру как никогда, я вылезла из-под одеяла, набросилась на Олли сзади, схватила ее за волосы с обеих сторон головы и дернула изо всех сил. Она откинулась назад и взвизгнула так громко, что мой отец резко повернул руль; фургон на соседней полосе вильнул в сторону, чтобы не врезаться в нас, за ним другие: машины уворачивались, водители отчаянно сигналили. Отец потерял контроль над автомобилем, и тот вылетел с дороги. Мать закрыла глаза руками. В это время Олли вдруг вытянула ногу и дважды сильно пнула меня, сначала в живот, потом в бедро. Я согнулась пополам на полу перед задним сиденьем. Отец резко затормозил, и я ударилась головой о дверцу машины.
Мы остановились на обочине. Какой-то парень на грузовике показал нам средний палец и крикнул «мудак», проезжая мимо. Олли тоже показала ему средний палец.
– Оливия! – крикнула мама.
Отец заглушил двигатель и сидел, наклонившись вперед. На какое-то жуткое мгновение мне представилось, что он умер. Потом он выпрямился.
– Лор, ты цела?
Мама взялась за голову руками, словно проверяя, не развалилась ли та, и кивнула.
Я думала, что он спросит и нас, но вместо этого отец, перекинув локоть через спинку сиденья, сердито посмотрел на меня.
– Ты что, хочешь, чтобы мы все убились?
Голос его прозвучал так гневно, что я испугалась и на время забыла о боли и несправедливости всего происходящего. Наш папа, которого было очень нелегко разозлить, теперь был просто в ярости.
– Если вы не перестанете драться, я разворачиваюсь, и мы едем домой. Вы этого хотите?
Маме явно понравился этот ультиматум – редкое пробуждение патриархата. Все это время она ждала, когда же отец проявит инициативу и возьмет власть в свои руки.
– Оливия? Эми? Вы слышите меня?
– Да и пожалуйста, – буркнула Олли себе под нос.
– Что ты сказала?
Оливия сложила руки на груди в идеальном жесте беспечности, равнодушия и отвращения.
– А я с самого начала никуда не хотела ехать.
– Прекрасно, – произнес отец и повернул ключ зажигания. – Едем обратно.
4
«Это Учреждение» – так мы его называли. Мама говорила: «Давайте съездим в Италию, когда Олли выйдет из Этого Учреждения» или «Парковка у Этого Учреждения отвратительная». В восемнадцать лет Оливию в первый раз положили в психиатрическую лечебницу. Это было учреждение средней и долгосрочной помощи в Нью-Йорке, где пациенты лежали от трех месяцев до трех лет. По субботам родители исправно ходили туда на обязательные сеансы семейной терапии. Папа ради этого отказался от игры в гольф, мама – от дня шопинга и тенниса. Она каждый раз брала комплект выстиранной одежды, новую зубную нить (старую Олли зачем-то наматывала на руки, как боксер бинтует кулаки) и две банки чипсов «Принглс».
Медсестры обыскивали сумки посетителей; мама считала это правило излишним и «показушным». По ее мнению, конфискованные предметы – бритвы, ватные палочки, щипчики и пилки для ногтей – скорее всего, перекочевывали в сумки самих медсестер. Еще она сказала, что Олли не хочет видеть никого из знакомых, даже меня. У меня было подозрение, что мама просто не хочет, чтобы я контактировала с Олли, как будто та может меня заразить. Мне не нравилось оставаться в стороне, но и увидеть родную сестру в психушке было боязно. Перед тем как ехать в больницу, отец обнимал меня одной рукой сбоку – цеплял и притягивал, словно персонаж водевиля длинной тросточкой. Когда у меня начала расти грудь, он перестал обнимать меня по-настоящему. Стоя в дверях, я смотрела, как он медленно, словно круизный лайнер, выводит «Крайслер» из гаража на подъездную дорожку и отъезжает от дома.
Пытаясь понять, что происходит с моей сестрой, я прочитала кучу книг. На каждой обложке была изображена девушка, задумчивая брюнетка. «Дневник Алисы», «Лиза, яркая и темная», «Под стеклянным колпаком». Ни одна из героинь не была похожа на Олли. Они не прыгали в кабриолет, распустив волосы, чтобы ими поиграл ветер. Они не ныряли со скал и не выныривали на поверхность, бешено колотя по воде руками, в полной готовности прыгнуть снова.
Отсутствие Олли угнетало меня еще сильнее, чем ее присутствие. Кресло, на котором она обычно сидела; музыка, которую она громко включала; окно, в которое она вылезала холодными зимними ночами. Олли согласилась лечь в Это Учреждение только ради папы – после того как он уговорил знакомого судью не отправлять ее в тюрьму для несовершеннолетних и, соответственно, не создавать ей репутацию преступницы.
Это случилось на первой вечеринке учебного года. Олли с друзьями завалились в дом одного из них, хозяева тогда были в отъезде. Они поставили усилитель на бочку, так что стены сотрясались от басов. Когда приехала полиция, кто-то спрятался в шкафу, кто-то сбежал. Чистый адреналин, говорила потом Олли, половина веселья в этом и состояла.
«Без мусоров было скучновато».
Потом выяснилось, что пропала норковая шуба хозяйки, а также восемь ложек, выкованных в мастерской Пола Ревира[9], возможно, работы самого мастера. Стали допрашивать всех участников вечеринки. Когда полиция пришла к нам, Олли выглядела как прилежная отличница: скромно сидела между родителями, коленки вместе, ручки на коленках, великолепные волосы собраны в хвостик на затылке. На вопросы полицейских она отвечала, глядя им в глаза, казалось, совершенно искренне.
«Да, офицер, я была на той вечеринке».
«Да, сэр, меня пригласили».
«Мы с Бобби знакомы с начальной школы».
«Да, я знала, что его родители в отъезде».
«Да, на вечеринке были наркотики».
«Нет. Мне не нравятся наркотики».
«Да, я выпила две банки пива “Хейнекен”».
Пожилой полицейский, извинившись за доставляемые неудобства, попросил разрешения осмотреть комнату Олли. Полицейские вместе с папой и Оливией спустились в подвал, а я увязалась следом. В комнате Олли плакаты зловеще светились фиолетовым и зеленым, зубы Стиви Никс сияли белизной. Когда молодой полицейский включил верхний свет, взорам предстала свалка: ломаная мебель, старые зеркала, постеры, косметика, грязная одежда, горы туфель и сапог, стереосистема, беспорядочно разбросанные пластинки и обложки от них.
Старший полицейский вежливо попросил разрешения заглянуть в комод и в шкаф. Олли не возражала. Она была в тот день такой покладистой. Он выдвинул верхний ящик, достал раздвижной щуп, похожий на антенну радиоприемника, и порылся в куче трусов и бюстгальтеров. Момент был неловкий, особенно для папы. Младший полицейский посветил фонариком под кровать. Луч выхватил из полумрака валявшиеся там журналы, учебники, грязные тарелки, комки пыли, одежду. Тут Олли слегка занервничала, до того идеальный образ дал трещину.
– Ну как? Вы закончили? – спросила она чуть раздраженно.
Фонарик выключили. Папа взялся было за дверную ручку, готовясь выпроводить непрошеных гостей, но молодой полицейский подошел к кровати с другой стороны, и фонарик вновь вспыхнул, как маяк в тумане.
– Хватит, – сказал отец. – У нее ничего нет.
Олли шагнула к нему, и он приобнял ее, гордясь и защищая.
– Эх, ничего себе! – Молодой полицейский вытащил из-под кровати норковую шубу и показал ее, держа за рукав. В карманах обнаружились восемь серебряных столовых ложек Ревира стоимостью, как мы потом узнали, более шестидесяти тысяч долларов. Полицейский постарше сказал, что ему придется забрать Олли в полицию.
– А нельзя просто вернуть эти вещи владельцам? – спросил у него папа. – Мы почистим шубу…
– Увы, нет, – ответил тот с искренним сожалением в голосе. – У самого дочери.
Мать сказала, что у нее в тот день дважды прихватывало сердце: первый раз – когда у наших окон засверкали красно-синие огни, а второй – когда Олли усаживали на заднее сиденье патрульной машины.
До той вечеринки Олли исчезала из дома все чаще и на все более длительное время. С каждым таким исчезновением мои родители явно пересматривали свои представления о нормальном поведении, поскольку оно менялось на глазах. Они больше не звонили друзьям Олли, товарищам по команде, тренеру, полиции. Олли в конце концов возвращалась домой и жила по-прежнему, по-своему. На день-два запиралась в своей комнате, а ночью совершала набеги на холодильник. Однажды она оставила на столе открытую бутылку молока. Утром мать, вся дрожа от гнева, вылила содержимое в раковину. Наш дом превратился в заправочную станцию, где Олли заправлялась перед тем, как снова отправиться в путь.
Когда мамино старинное кольцо с бриллиантом, доставшееся ей от бабушки, исчезло вместе с подаренным Олли теннисным браслетом, мать уволила нашу домработницу. Но осталось подозрение: может, драгоценности взяла Олли? Отец обошел все ломбарды в радиусе шестидесяти миль. Он вернулся домой с пустыми руками и расстроенный. Он не мог выбросить из памяти увиденное в ломбардах: обручальные кольца, подарочные наручные часы, фотоаппараты, горн. Папа сказал, что ему было больно думать о том, как люди отламывают части себя, чтобы выжить. Он даже прикинул, не купить ли подставку для книг в виде пары бронзовых детских ботиночек.
– Представь, каково это – заложить вещь своего ребенка?
– Они на эти деньги покупают наркотики, – возразила мама. – Я бы не стала проливать слезы по этому поводу.
Раньше доброта и уравновешенность отца всегда помогали маме успокоиться. Теперь те же самые качества ее бесили. Ей хотелось, чтобы муж откликнулся, разделил ее эмоции, почувствовал ее негодование и разочарование. А он был убит горем, ведь его прекрасная дочурка оказалась в психушке. Отец, сколько мог, спасал Оливию, выручал ее, переводил ей деньги, переводил ее саму в другие больницы, возвращал домой.
– Как поживает твоя старшая сестра? – спросил доктор Сэлинджер.
– Отлично, – поспешно ответила за меня мать. Раньше мы с Олли всегда вместе приходили на ежегодный осмотр к нашему семейному педиатру. Доктор попросил маму подождать несколько минут в коридоре. За всю мою жизнь такого тоже не случалось.
– Нам бы надо поговорить как взрослым людям.
– А! Хорошо! – кивнула мама с наигранным весельем.
Доктор Сэлинджер носил огромные ортопедические туфли с маленькими кожаными буграми. Постукивая резиновым молоточком по моему колену, он сам слегка подпрыгивал, словно проверял свои собственные рефлексы. Мне дико хотелось рассказать ему об Этом Учреждении, о том, что натворила Олли, о том, что родители теперь все время ссорятся из-за нее и что весь наш дом наполнен отравленной атмосферой стыда и тайны.
Я чувствовала, что ему можно доверять, но мать строго-настрого запретила рассказывать кому бы то ни было о наших проблемах. К тому же я знала, что она устроит мне в машине допрос с пристрастием и я сломаюсь.
Доктор Сэлинджер спросил, веду ли я половую жизнь.
– М-м-м, нет.
– Месячные уже начались?
– Нет еще.
Он сделал несколько пометок на потертой по краям карточке.
– Как оценки, все так же на высшем уровне?
– Да.
– Друзья есть?
Я чувствовала, что он хочет услышать «да», и пошла ему навстречу. Если честно, никому нет дела до того, что ты не вписываешься в общество. Доктор пригласил маму обратно в кабинет и предложил мне выбрать в подарок плюшевую игрушку фирмы «Штайф» из огромной коллекции у него на эркере. Хотя я не была фанаткой плюшевых игрушек, я оценила реализм изделий: они были твердыми, как игольницы, с мохеровым мехом и стеклянными глазками. Мама говорила, что у игрушек этой фирмы есть знак подлинности – крохотные серебряные пуговки в ушках.
– Спасибо, – вежливо отказалась я.
– Возьми какую-нибудь, Эми! – Доктор, наверное, все-таки почувствовал, что друзей у меня нет.
Я понимала, что игрушки неодушевленные, но у меня рука не поднималась забрать одну из них из семьи.
– Спасибо, не надо.
– Ну, пожалуйста, – настаивал он. – Мне будет приятно.
Пока они с мамой разговаривали, я выбрала самую маленькую из игрушек, белую мышку, и пощупала крошечное ушко. Пуговка была на месте.
Папа наконец уговорил маму свозить меня к Олли на сеанс семейной терапии.
– Зря все это, – бросила мать, когда мы ехали в Это Учреждение. Она не хотела, чтобы я видела других пациентов – некоторые из них были «явно недееспособными».
– Они же сестры, Лор. Мы одна семья.
– У Эми есть дела поважнее.
Я, сидя позади, готовилась к предварительному тестированию в колледж.
– Доктор Саймон говорит, нужно, чтобы вся семья приезжала, – отстаивал свою позицию папа.
– Ну вот, мы все и едем… – Мама достала из сумочки тюбик помады, опустила козырек и второй раз накрасила губы.
В Этом Учреждении, проверив сумки на предмет контрабанды, нас провели в большое открытое пространство под названием Общественная комната, обставленное потрепанной мебелью. Здесь работал телевизор, негромко рекламируя ювелирные изделия. Пост медсестер был отгорожен толстыми стеклянными стенами, укрепленными проволочной сеткой. Там находился пункт выдачи лекарств, и на стене был прикреплен плакат с изображением висящего на лапах кота и надписью: «Держитесь там».
Понемногу начали прибывать другие семьи. Один из сотрудников вкатил тележку со складными стульями и расставил их широким кругом. В огромных дверях из нержавеющей стали начали по одному или по двое появляться пациенты. Мама сказала, что там находятся палаты и что Олли всегда появляется последней: ей нужно сделать из этого событие. Я вдруг испугалась, что не узнаю родную сестру или что она не узнает меня, хотя прошло всего несколько месяцев. Меня медленно, но верно охватывала паника.