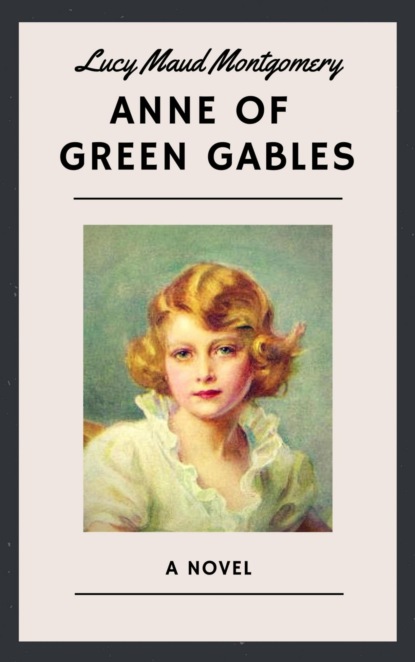Сестры Шред

- -
- 100%
- +
Одна девочка была одета в короткие шорты и укороченный топ. На другой была футболка с отслаивающимся принтом с котом Гарфилдом. Был еще мальчик со стрижкой под горшок, в скаутской форме без нашивок и значков и в огромных кроссовках. Они расходились по кругу к своим семьям, обменивались приглушенными приветствиями и осторожными объятиями и усаживались на свои места. Наконец появилась Олли, и моя тревога утихла: сестра не изменилась. Она осталась собой. Спортивный костюм, шлепанцы, темные очки поверх красивых локонов.
– Эй, это моя заколка! Я что говорила?
Я крепко обняла ее за талию и прижалась к ее груди.
– Э, э, я тоже по тебе соскучилась.
Я чуть не разревелась.
– Где ты пропадала, Эйкорн?
Я обняла ее еще крепче.
Сестра плюхнулась на один из стульев и потянула меня на место рядом. Теперь, вблизи, я увидела, что губы у нее высохли и потрескались в уголках. Волосы у пробора были покрыты перхотью, пальцы в ободранных заусенцах, ноги грязные.
В этот момент вошли и выстроились в шеренгу терапевты и социальные работники с планшетами и картонными папками.
– Семь гномов, – шепнула мне на ухо Олли.
Последним вошел мужчина в свободных брюках и кремовой водолазке, с медальоном в форме чайного листа на золотой цепочке. Это был директор лечебницы доктор Саймон.
– Этот человек – эготист, – объявила моя мать после первого такого сеанса. Они с отцом тогда вернулись домой измотанные, купив по дороге ведерко курятины, что делалось в тех редких случаях, когда мама не готовила ужин.
– А чем эготист отличается от эгоиста? – с невинным видом спросил папа.
– Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, – отрезала мама.
Через несколько недель она упрекнула доктора Саймона в том, что он «пичкает» своих пациентов сильнодействующими лекарствами. Он ответил, что психиатрия – несовершенная наука, ошибки неизбежны, но лекарства облегчают страдания. Неужели она хочет, чтобы ее дочь страдала? Маме не понравился его тон, и она обвинила папу в том, что тот за нее не заступился.
– Он же разговаривал со мной как с ребенком! При тебе! Ты все слышал!
– Он просто пытался объяснить, как это работает…
– Там половина пациентов ходят как зомби!
Мама не верила, что Олли страдает. Она много раз говорила, что если бы Олли, как положено, отправили в исправительную колонию, то это пошло бы ей на пользу. Вся эта «терапия» – просто способ избавить детей из привилегированных семей от юридических последствий за правонарушения. Олли поймали на воровстве, а страдаем из-за этого теперь мы, ее близкие. А доктор Саймон к тому же был сторонником системной терапии семей. Он считал, что то, что случилось с Олли, случилось со всеми нами. И если мы хотим, чтобы ей стало лучше, мы должны разобраться в себе.
– Как он смеет! – возмущалась мама. – Как он смеет переводить стрелки на нас!
Наслушавшись маминых отзывов, я представляла себе доктора Саймона крупным и внушительным мужчиной, но он оказался довольно маленьким. Большой у него была только голова, которая все время кивала и покачивалась туда-сюда, как у китайского болванчика. Он уселся, подтянув штаны, и представился директором психиатрического отделения. Я не упустила возможности посмотреть на его промежность. Меня в то время одновременно интересовала и отталкивала мужская анатомия. Но у доктора Саймона там, похоже, вообще ничего не было; его «чинарик», как называла эту штуку Олли, полностью затерялся в складках штанов. Очередная загадка мужской анатомии, которую я не могла постичь.
Доктор Саймон внимательно оглядел весь круг, многозначительно посмотрев в глаза каждому пациенту и члену семьи. Дойдя до меня, он остановился.
– А вы?..
– Это Эми, моя младшая сестренка, – объяснила за меня Олли.
– Добро пожаловать, Эми. Позвольте вас немного озадачить. Вы знаете, почему ваша сестра сейчас здесь? Не волнуйтесь, неправильных ответов тут нет.
По своим одноклассникам я знала, что неправильных ответов бывает много, равно как и глупых вопросов.
– Эми, – повторил доктор медленно, – вы можете нам сказать, почему ваша сестра здесь оказалась?
Все взоры были устремлены на меня.
– Надеюсь, с ней все в порядке, – только и смогла выдавить я. Сотрудники лечебницы начали щелкать пальцами. Позже я узнала, что щелчки в Этом Учреждении означают высшую форму похвалы; и хором щелчков награждают только за одно – за искренность. Мой отец присоединился к этому хору, пощелкивая одной рукой, как будто отбивал ритм в джазе. Мать сидела неподвижно, скрестив руки на груди.
– Спасибо, Эми. Вы все являетесь частью этого процесса, – продолжал доктор Саймон. – Мы очень рады, что вы сегодня с нами. Мы все здесь, потому что ваши сыновья и дочери борются за свою жизнь. Некоторые из них пристрастились к наркотикам, серьезным наркотикам, некоторые отказывались от пищи, некоторые совершали безрассудные поступки. – Он сделал драматическую паузу. – Некоторые пытались покончить с собой… – Доктор помолчал, чтобы все осознали важность сказанного. – Вы нужны нам, – заключил он, – потому что семья – это динамическая система…
– Вот, он переходит к той части, в которой будет нас обвинять, – шепнула мама отцу.
Олли достала из кармана рубашки леденец и, сорвав целлофановую обертку, сунула его в рот. Она быстро втягивала и вытаскивала его, так что мне было слышно, как конфета стучит по зубам. Потом она разгрызла леденец с таким звуком, словно во рту у нее хрустнуло стекло.
Я начала подозревать, что эта система лечения Олли не поможет. Что она просто научится с ней играть. Она не стала бы злоупотреблять лекарствами или объявлять голодовку, но своим отказом подчиняться и сотрудничать она продолжала затягивать срок своего пребывания здесь. Она называла доктора Саймона настоящим Чудом Без Члена, и мне хотелось спросить, заметила ли она, что в складках его полиэстеровых брюк ничего не просматривается.
Позже в тот день нам предложили посетить комнату арт-терапии, спортзал, библиотеку и кафетерий, где бесплатно угостили кофе с печеньем. Я хотела посмотреть комнату арт-терапии.
– Я у них в черном списке, – призналась Олли. Один раз она напала на арт-терапевта, вооружившись детскими ножницами, – понарошку, как она сама сказала, – и ее отправили до конца дня в палату, лишив возможности посмотреть телевизор. – Из-за каких-то сраных детских ножниц!
На следующем занятии она нарисовала на альбомном листе гроб и написала: «Спи с покойником». На сей раз ей запретили курить.
– Вот люди! – пожаловалась Олли. – Ни хрена чувства юмора!
Доктор Саймон считал, что все замечания и жесты имеют значение, особенно шутки. Он утверждал, что люди прибегают к юмору, чтобы отвлечься от боли. Олли говорила, что это все чушь, но мне это показалось правдой. А мама полагала, что все в лечебнице делается исключительно для показухи.
Рисунки пациентов были развешаны по всему кабинету арт-терапии на ниточках, как белье на веревках. Арт-терапевт показалась мне человеком доброжелательным. У нее были блестящие каштановые волосы, платье-халат от Лоры Эшли, толстые колготки и башмаки. Неудивительно, что Олли сразу же ее невзлюбила. На столах стояли коробки из-под печенья с мелками, губками, пластиковыми баночками с темперной краской, как в начальной школе. Кисточки были запрещены. По словам Олли, один из пациентов воткнул себе кисточку в глаз.
– Полный неждан, – бросила Олли. Я попыталась представить себе эту картину, но это было слишком ужасно. – А один парень повесился на простыне, – добавила Олли. – Вот это самоотдача.
Нам предложили самим нарисовать «особую открытку» для родственника-пациента. Я взяла губку и нарисовала на листе желтой бумаги красное сердце. Сначала я написала на нем «Возвращайся домой», а потом замазала надпись. В обычной ситуации я взяла бы новый лист; терпеть не могу ошибок и исправлений. Но времени начинать все заново не было, поэтому я написала поверх старой надписи первое, что пришло в голову: «Это отстой». Поздно вечером, когда мы вернулись домой, Олли мне позвонила. Она сказала, что ей понравилась моя открытка, и заплакала. Олли никогда раньше не плакала; по крайней мере, я не видела.
– Ты одна говоришь правду, – всхлипывала она. Я слушала ее, пока она не успокоилась. Потом в трубке послышался крик какого-то другого пациента:
– Время, Шред!
Я спустилась в комнату Олли и включила ультрафиолет. Комната засверкала: осветились лады гитары, ворс на одеяле стал похож на море люминесцентных водорослей, загорелись звезды, приклеенные к потолку, – мой подарок на день рождения. Они должны были располагаться в форме Овна, ее знака зодиака, но Олли, как обычно, не стала следовать инструкциям и беспорядочно разбросала звезды по потолку.
5
Я старалась стать невидимой. Прятала лицо за своими длинными каштановыми волосами, а неразвитое тело – в просторной одежде. Новая школа, в которой мне предстояло учиться, была в три раза больше старой, и я поставила себе цель затеряться в толпе. Для этого я перестала поднимать руку на уроках и больше не садилась на первый ряд – ни в классе, ни в школьном автобусе. Самые крутые ребята, как во всех подростковых фильмах, поселились на задних рядах. Про себя я назвала их МБА, Мудацкое Будущее Америки, но у меня хватало ума понять, что это от зависти.
Прежде всего я надеялась, что меня перестанут травить, но в первую же неделю в туалетную кабинку, где я сидела, кто-то бросил полоски горящей туалетной бумаги. Они опустились по спирали и, к счастью, сгорели на лету. Девочки бросали мне под ноги зажженные окурки. Я бы не выжила без своей системы блоков и уворотов. «Я умнее их. Я поступлю в лучший колледж. Я получу Нобелевскую премию по молекулярной биологии».
Вскоре после начала занятий наш учитель биологии попросил меня остаться после урока. Волосы у него были зачесаны набок, а пальцы пожелтели от долгих лет рисования мелом на доске.
– Ты ведь сестра Оливии Шред?
– Да.
– Господи, какие же вы с ней разные.
Я понимала, что он сказал это в похвалу мне, но сразу захотелось заступиться за сестру. Он спросил, почему я не поднимаю руку на уроках; он по письменным работам понял, что я все знаю.
– Не надо стесняться, Эми.
Потом учитель открыл ящик стола и вытащил коробку ярко-желтых зефирных конфет. Я не могла понять, это он по доброте душевной или на самом деле он из числа тех извращенцев, о которых говорила мать – мужик в машине со своим «чинариком» в руке.
– Возьми, это тебе.
Я совершенно растерялась; наверное, нужно было просто из вежливости взять конфеты, но я испугалась. Когда прозвенел звонок на следующий урок, я схватила их и, устыдившись, выбежала из класса. Может, учитель биологии обратил на меня внимание, потому что что-то нелюдимое в нем почувствовало что-то нелюдимое во мне?
На следующий урок я не пошла – впервые в жизни – и спряталась в туалетной кабинке в спортзале. Я сняла целлофан, отлепила одну зефирку и сунула в рот. Паточный сахар начал медленно растворяться. Потом я услышала, что в раздевалку вошли две девочки, и быстро сунула в рот оставшиеся конфеты, словно какой-нибудь контрабандный товар. У меня вдруг перехватило дыхание, глаза полезли на лоб. Я облилась по́том. Сладкий комок прилип к нёбу и разбух. Я вся взмокла от пота, в ушах зашумело, глазные яблоки, казалось, вот-вот взорвутся. Я сунула указательный палец в рот, но размокшая горстка конфет не двигалась. Девочки услышали, как я давлюсь, и замолчали. Потом одна из них сказала:
– Черт, что это было?
Я сидела на унитазе, подобрав под себя ноги и держась за края кабинки. По моему лицу текли слезы, но я отчаянно старалась не издавать никаких звуков и не выдать себя.
– Да неважно, – сказала вторая. Хлопнули двери кабинок, и послышались шаги, милосердно удалявшиеся по цементному полу. Зефир к этому времени размок у меня во рту настолько, что я смогла его выкашлять – конфетный шар вылетел, ударился о дверь и шлепнулся на пол, дрожа, как жидкий яичный желток.
На ежегодном конкурсе по естествознанию я заняла первое место, и мы с родителями отправились в «Золотую дверь» отпраздновать это событие. Я сделала модель вулкана, который извергался каждые три минуты при помощи миниатюрного гидронасоса, подключенного к таймеру. Вокруг моего вулкана на выставке презентаций толпились ученики и родители. Некоторые задерживались, чтобы посмотреть извержение во второй и в третий раз.
На этот раз пруд стоял без воды и без рыбок, его чистили. С водой его черные стенки красиво блестели, а теперь на них виднелись трещины и белый осадок.
– Я не пойду больше в школу! – Эти слова вырвались из меня сами собой.
– Что ты такое говоришь? – удивилась мама. – Ты же заняла первое место!
– Я хочу в школу-интернат.
– Вторая дочь из дома прочь? Ну уж нет!
– Тогда в частную какую-нибудь!
– Зайка, расскажи нам, что происходит? – вмешался папа.
У меня язык не поворачивался во всем сознаться.
– Ну, скажи, что случилось? – продолжал он все так же ласково, таким тоном, словно мог решить любую мою проблему.
– Давай, говори уже! – нетерпеливо сказала мать. – Что опять не так?
«Опять?» До тех пор я не жаловалась на свои проблемы. Когда я училась в средних классах, она сама выманивала у других родителей приглашения на дни рождения одноклассников и уговаривала их звать меня в гости с ночевкой. Теперь я просто лгала матери и отцу, что у меня есть друзья, с которыми можно пообедать или поучить вместе уроки. То была ложь во спасение: я создавала видимость благополучия, чтобы не нарваться на мамино огорчение или, чего доброго, ее помощь.
Незадолго до этого несколько мальчиков играли на перемене в горячую картошку моим новеньким калькулятором. «Хочешь машинку, робот? На, возьми!» Я попыталась отнять у них калькулятор, но их было больше. Я села за парту и попыталась успокоиться, молясь, чтобы они его не уронили. Я злилась на собственную беспомощность и беззащитность; но труднее всего было справиться с чувством унижения.
– Сегодня твой праздник, Зайка. Давай купим яичные рулетики? – предложил папа.
– Я больше не могу, не могу! – Я заплакала, закрыла лицо руками и убежала в туалет. Меньше чем через минуту дверь открылась. Я думала, что это мама пришла меня успокоить, но это оказалась женщина с маленьким мальчиком, который прятал лицо у нее между ног. Когда я вернулась к столу, отец объявил, что, если я смогу закончить семестр, родители подыщут мне частную школу для дальнейшего обучения.
– Правда?
– Да, правда, – ответил папа.
– Мы можем себе это позволить?
– Не волнуйся, Эм.
– Да, мама?
– Я согласна. Ты это заслужила.
Не знаю, что сказал папа за эти несколько минут, как он смог ее убедить, но это не имело значения. Этого обещания мне было достаточно, чтобы дотянуть до конца учебного года. После того вечера мама направила бо́льшую часть своей энергии на то, чтобы найти мне подходящую частную школу. У нее появился новый проект: звонки, оформление документов, посещение кампусов. Через много лет она признала, что меня нужно было отправить в частную школу с самого начала.
Оставшуюся часть семестра мы все трое вели себя друг с другом с образцовой вежливостью. У каждого были свои обязанности по дому, и мы выполняли их, не жалуясь. Иногда возникал повод сообща посмеяться, как в тот раз, когда мама уронила на пол горячую кастрюлю с запеченными зити[10]. Правда, смех звучал не очень-то весело. Без Олли мы все пребывали в режиме ожидания. Однажды папа объявил, что ее отпустят домой на выходные, и если все пройдет хорошо, разрешат забрать из больницы на все лето.
Доктор Люси, самый молодой врач в больнице, наверное, был первым и единственным мужчиной, которого Олли не удалось соблазнить. Она ходила к нему на терапию три раза в неделю и, как она сама мне призналась, просыпалась пораньше, чтобы принять душ перед утренним визитом к нему. Ей хотелось, чтобы волосы выглядели обворожительно. Олли пересказывала мне это все по телефону в отведенное ей для звонков время. Мне было лестно, что она звонит именно мне. Кроме того, я поняла, что, несмотря на всю ее популярность в школе, близких друзей у Олли на самом деле не было.
С Беном они расстались, и, конечно, она делала вид, что ей все равно.
Она внимательно изучала доктора Люси: его широкие ноздри, его узкий, как линейка, вязаный галстук, его дешевые, не до конца зашнурованные мокасины. Он был худощавым, как и она. Возможно, также занимался бегом. Во время сеансов Олли потчевала его историями о своей сексуальной жизни. Она хвасталась тем, как любит делать минет и какая она в этом мастерица, как ей нравится заниматься сексом на открытом воздухе, под трибунами стадиона, на парковке, на пляже. По словам Олли, доктор не перебивал ее и не пытался флиртовать, просто делал пометки в своем блокноте. Забавляясь, она начинала время от времени говорить очень быстро, чтобы заставить его писать быстрее – словно он был марионеткой, а она кукловодом.
Во время одного из сеансов запасная ручка, которую доктор держал в нагрудном кармане, протекла, и чернила расплылись по рубашке, как пятно в тесте Роршаха. Кролик, картошка, пенис. Олли знала, что доктор Люси женат; его единственным украшением было обручальное кольцо. Постепенно ее привязанность переросла в настоящую одержимость. В своем дневнике она признавалась в любви к нему, много раз писала его имя, начиная верить, что это взаимно. Когда в какой-то момент доктор Люси спросил ее, что она сейчас чувствует, Олли была поражена тем, что он этого не знает.
Примерно в это же время Олли уговорила санитара оставить две двери незапертыми, чтобы она могла незаметно улизнуть. Она подружилась с ночной медсестрой, игравшей на бас-гитаре в панк-группе, и хотела увидеть ее выступление в клубе в центре города. Выскользнув в ночь, рассказывала Олли, она чувствовала себя как выпущенное на волю животное. Ночной город опьянял и будоражил. Какой тогда был воздух! Добираясь до клуба на метро, она пыталась понять, догадываются ли окружающие, что она сбежала из психушки. Что в Нью-Йорке хорошо, сказала потом Олли, так это то, что всем на всех наплевать.
Оказалось, что она перепутала даты, группа медсестры в тот вечер не выступала. Олли было все равно. В клубе стоял грохот, все дышало хаосом и бунтом. Стены были в несколько слоев покрыты граффити, играла оглушительная музыка. Олли стала фанаткой панк-рока с той минуты, когда впервые его услышала. Когда она направилась в туалет, барабанщик из группы разогрева пошел за ней и стал «разогревать» ее пальцами.
– Эйм, это было что-то невероятное…
Олли не планировала, куда пойдет и что будет делать после концерта, но ее ночь свободы внезапно оборвалась. Камера видеонаблюдения в больнице зафиксировала ее побег, санитар под угрозой ареста сдал ее, и у выхода из клуба уже стоял больничный фургон.
Доктор Саймон вызвал наших родителей для личной беседы в присутствии Олли. Он выдвинул гипотезу, что в стенах палаты Олли чувствует себя в безопасности, ведь она подсознательно стремится в них остаться. Иначе зачем ей понадобилось нарушать правила и тем самым продлевать себе время пребывания в лечебнице? Она уже пробыла в Этом Учреждении десять месяцев; последствия ее проступков были так велики, что доктор Саймон рекомендовал продлить срок еще на год.
– Я уходила только на одну ночь, – защищалась Олли. – Я же собиралась вернуться.
Ее визит домой на выходные был отменен. Папины планы, что дочь проведет дома лето, занимаясь парусным спортом и отдыхом на природе, тоже рухнули. Олли по телефону жаловалась на несправедливость, как будто она была заключенной, а доктор Саймон – ее тюремщиком.
– Я знаю свои права, – рыдала она, – меня не имеют права держать здесь насильно.
Если бы ее отправили в исправительное учреждение для несовершеннолетних, Олли теперь, вероятно, уже была бы на свободе. Как она сама любила говорить, притворяясь закоренелой преступницей: «Раньше сядешь – раньше выйдешь». Ее одноклассники заканчивали школу, а ей предстояло провести еще год в Этом Учреждении. По закону она находилась под опекой государства (в лице доктора Саймона), и только он мог решать, когда и на каких условиях ее отпустить. Олли испытывала величайшее презрение к «пожизненным» пациентам, особенно к женщине по имени Кейси, которая старалась всячески угодить доктору Саймону и остальному персоналу.
– Какая ей польза от того, что она лижет всем задницы? – удивлялась Олли. Однажды ночью, пока Кейси спала, Олли оторвала у ее любимых турецких тапочек оранжевые помпоны и бросила их в унитаз. – Они были похожи на какашки, которые кто-то забыл смыть, – смеялась сестра.
Кульминация наступила во время следующего сеанса Олли с доктором Люси. Она еще не пришла в себя после новости о продлении срока.
– Сначала я ничего не говорила, мы просто так сидели. – Их сеансы терапии нередко начинались с такой игры в гляделки. – Конечно, он первый моргнул, – хвасталась Олли своей победой. – Потом он спрашивает меня, что я, блин, чувствую. Надо же, какой оригинал. И начинает что-то записывать, хотя я ничего не говорила. – Олли разволновалась. – Я говорю, а ну отложил ручку. Говорю, кто тебе разрешил писать про мою жизнь. Это моя жизнь, черт бы ее побрал!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Почти все прозвища героини имеют дополнительное значение: Эйм (англ. Aim) – «цель», Эйкорн (англ. Acorn) – «желудь».
2
Около 2,5 кг.
3
Около 152,4 см и 45 кг.
4
«Где все цветы?» (англ.) – популярная в 1960-х годах песня барда Пита Сигера.
5
«Герои» (англ.).
6
«Я чувствую себя красоткой» (англ.).
7
Детская игровая фраза, означающая конец игры (или ссоры).
8
Герои мультфильма про обезьянку, между которыми были хорошие отношения.
9
Американский ювелир начала XIX века.
10
Зити – разновидность макаронных изделий, происходящих из Южной Италии, Кампании и Сицилии. Они имеют форму длинных и широких трубочек длиной около 25 см.