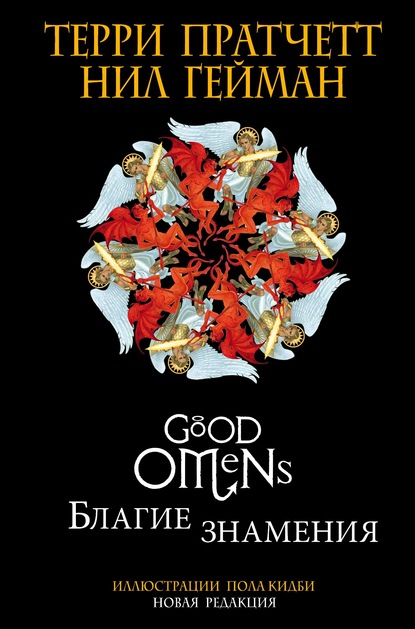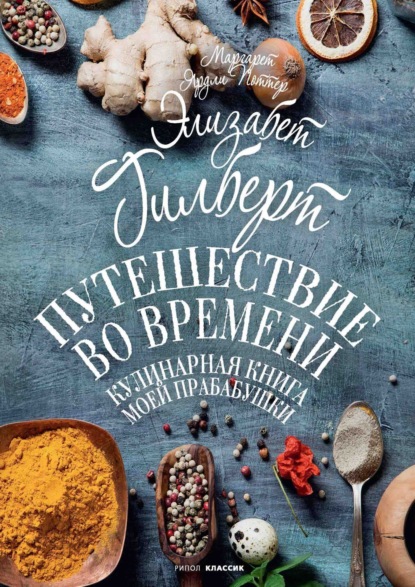Зов Гималаев. В поисках снежного барса
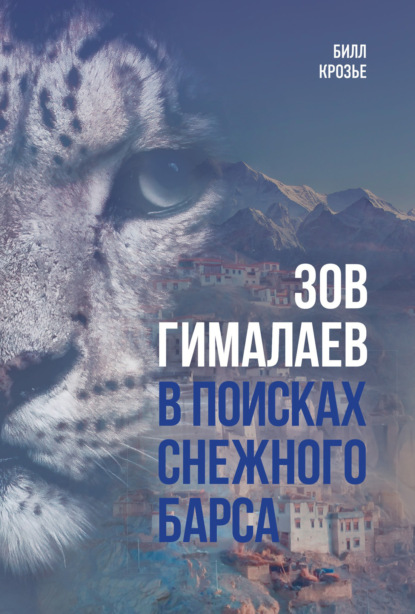
- -
- 100%
- +
Вторая поездка Снеллгроува в Непал была во многом призвана продолжить и завершить первую – в первый раз он не продвинулся западнее Катманду. В январе – марте 1956 г. он описывал буддийские монастыри Патана, Катманду и Бхадгаона (Бхактапура). Потом с марта по октябрь, восемь месяцев подряд, исследовал Непал, отправной точкой избрав Непалгандж на индийской границе. Оттуда он отправился на север к Бхери, поднялся вверх по Сулигаду и достиг по-волшебному голубых вод озера Пхоксундо. По дороге он покорил перевал Канг-Ла, где через семнадцать лет побывают Маттиссен и Шаллер, и прошёл «Внутреннее Долпо». Он исследовал Ше, «Хрустальный монастырь», и прилегающие к нему долины, а потом отправился на восток, прошёл севернее Дхаулагири и ступил в долину реки Гандак у Кагбени. Оттуда он добрался до Катманду, пройдя севернее Аннапурны и Манаслу и проследовав притоком Гандака. Там он и закончил восьмимесячное путешествие.
О своём масштабном походе Снеллгроув написал книгу «Гималайское паломничество»[11]. Её я тоже сумел купить онлайн, правда, пришлось заказывать доставку из Штатов. Книга стала настоящим открытием: она была переполнена важными сведениями о маршруте, которым мы собирались путешествовать в Долпо. В ней подробно рассказывается о деревнях, монастырях и, что особо интересно, – о людях, их жизни и обычаях. Кроме того, Снеллгроув упоминает первого иностранца, который пересёк Долпо, – японского монаха по имени Кавагути Экай, который в июле 1900 г. путешествовал по восточной части долины, надеясь тайком проникнуть в Тибет. Его собственный рассказ об этих странствиях вышел в 1909 г. под названием «Три года в Тибете».
Итак, я избрал «Гималайское паломничество» Снеллгроува своим путеводителем. Перед отъездом я запаковал книгу в водонепроницаемый пакет, и каждый вечер в дороге я вынимал её, чтобы сверить с ней собственные дневниковые записи: мне хотелось знать, многое ли изменилось за пятьдесят девять лет.
Путешествие 1956 г., впрочем, не стало для Снеллгроува последним. Он горел идеей перезимовать в Долпо. В конце 1960 г., незадолго до холодов, он отправился в путь через Покхару и Гандак, взобрался на Сангду и вошёл в Долпо с востока. Остановившись у своего старого друга Ньимы Черинга, главы поселения Салданг, Снеллгроув обнаружил старые документы, содержащие биографии средневековых монахов, которые обитали когда-то в этом регионе. Биографии были полны интереснейших фактов о быте, жизни и смерти в XV–XVIII вв. Снеллгроув решил, что эти исторические документы необходимо перевести, и в 1967 г. выпустил книгу «Четверо лам из Долпо», в которую вошёл также подробный рассказ о его путешествии и о трудной трёхмесячной стоянке в долине Нангкхонг.
Во время путешествия 1960–1961 гг. Снеллгроув преследовал исключительно писательские цели. Поэтому он очень хотел пригласить с собой антрополога, который бы наблюдал за сезонной деятельностью и экономикой долпо-па, коренного населения Долпо. Желающий нашёлся в лице мсье Корнеля Жеста, сотрудника Музея человека в Париже. Жест родился в 1930 г. и имел богатый опыт работы в Гималаях. Он прожил в Долпо целый год и написал об этом несколько книг на французском. Одна из них попала в печать лишь в 1998 г., и впоследствии её перевели на английский язык. Она называется «Бирюзовые байки. Паломничество в Долпо» и описывает трёхнедельное путешествие, которое автор совершил в компании тибетца из окрестностей Дхо-Тарап. Этот человек по имени Карма славился талантом рассказчика, и путешествовать в его обществе было одно удовольствие. Жест записывал за ним разные байки и небылицы и включил их в свою книгу. Получился ценный культурный срез нравов и традиций тибетцев, населяющих Долпо.
Питер Маттиссен в «Снежном барсе» едва прошёлся по верхам многогранной культуры и быта региона Долпо – однако, добавив к его книге труды Шаллера, Снеллгроува и Жеста, да ещё прочитав и посмотрев более современные источники, я получил целую «команду виртуальных гидов». Теперь я был уверен, что путешествие в Долпо станет для меня глубоким и осознанным опытом, а не просто прогулкой по горам.
3. Лама
Впервые в Непал я отправился в 2004 г.
Самолёт «Сингапурских авиалиний» резко пошёл на посадку в долине Катманду. Горные вершины стремительно приближались. Их крутые склоны затейливо усеивали узкие полосы зелёного и жёлтого цвета – распаханные террасы, на которых толпились крохотные зданьица. Пейзаж захватывал дух – но тут самолёт совершил головокружительный поворот на 180°. Мой борт обратился к северу, и впервые предо мной предстали Гималаи. Гряда за грядой – ослепительно-белые снежные вершины, не уступавшие нам в высоте, ярко сияли на послеполуденном солнце.
Мы приближались к Катманду. Сверху этот город из кирпичных домов с торчащими печными трубами казался построенным из «Лего». Впервые я оказался в этом сказочном месте. Что, в сущности, я о нём знал?
«К северу от Катманду стоит одноглазый жёлтый идол», – гласит поэма, повествующая о крахе некоего Безумного Кару. Через гуркхов, непальских солдат-добровольцев, Катманду имеет историческую связь с британской армией. Кроме того, в 1960-х гг. город стал пунктом притяжения для множества хиппи. В 2001 г. здесь короновали нового короля, после того как его племянник расстрелял из винтовки большинство членов королевской семьи. Непал – страна индуистская, однако буддизм в ней тоже силён. И в «мирном» королевстве недавно погибли около 12 000 человек, став жертвами террористического акта боевиков-маоистов.
Разумеется, я заранее запасся путеводителями и часами их изучал. Мне не терпелось проникнуться этим чарующим местом, увидеть его своими глазами. И мои ожидания оправдались с лихвой.
Это был первый из моих многих последующих визитов в Катманду. Город полюбился мне, как мало какой другой. Это настоящий пир для органов чувств. Калейдоскопическая феерия, напоённая всеми запахами Востока, дурными и приятными. Бесконечная какофония уличного шума, колокольного звона, песнопений, криков торговцев и нищих. В 2007 г. «Непальские авиалинии» принесли в жертву двух коз, заколов их на взлётной полосе перед «Боингом 757–200», дабы умилостивить индуистского бога неба по имени Акаш Бхаираб и «разрешить некоторые трудности в починке авиалайнеров». К сожалению, знаменитого книжного магазина «Пилигримы» уже нет: он сгорел в 2013 г. На каждом углу – храм тому или иному индуистскому божеству, и сутки напролёт люди идут с песнопениями и подношениями. Не забыт и буддийский пантеон. Самое впечатляющее его проявление – Великая ступа в Боднатхе. Эта белая полусфера, увенчанная всевидящими очами, обращёнными во все четыре стороны, – настоящий оазис покоя в городском водовороте. Вокруг ступы принято гулять не торопясь, по часовой стрелке, и занимает это примерно двадцать минут, во время которых надо обязательно покрутить один из сотен молитвенных барабанов. Такое незамысловатое путешествие вокруг храма помогало мне изучать основы буддизма.
Мой отец Джордж Крозье, всю жизнь предпочитавший называться «Черри Крозье», почти два года прожил в Индии, в 1944–1946 гг. Он был сержантом в Королевском корпусе связи и почти всю войну проездил на мотоцикле, выполняя обязанности курьера. В Африке и Италии ему пришлось очень туго. В 1944 г. его отправили в Индию, откуда он должен был двинуться в Бирму на битву с японцами – но атомный взрыв положил конец войне. Об Индии он всегда рассказывал с особенным восторгом. Он любил поесть знатного карри и одним из самых важных моментов своей жизни называл тот день, когда увидел Ганди во главе процессии. Однажды, когда мы с братом ещё были детьми, отец рассказал нам потрясающую, практически невероятную историю. По приезде в Индию в его подразделении стали проводить учения по десантированию у подножия Гималаев – и однажды всё пошло насмарку. Самолёт «Дакота» уже подлетал к горам, когда разразился шторм. Самолёт жестоко болтало в воздухе, отнесло далеко от курса, и вскоре он начал терять высоту. Поступил приказ срочно прыгать, и солдаты разлетелись на своих парашютах кто куда. Пилот геройски погиб вместе с самолётом. Отец приземлился куда-то в снег, но увидел деревню неподалёку, на склоне горы. Местные приютили его и напоили горячим чаем. Отец едва успел согреться, как вдруг его подвели к постели, на которой дрожал в бреду больной молодой человек. По словам отца, у него при себе был аспирин и немного спиртового раствора из компаса. Он дал то и другое больному, и на следующее утро лихорадка спала: местные жители решили, что это настоящее чудо. Оказалось, что больной – тибетский лама, и в те несколько недель, что отец отдыхал в деревне, они крепко подружились. Лама был чрезвычайно благодарен своему спасителю и, прежде чем расстаться с ним, пообещал, что станет его духовным наставником и всегда придёт ему на помощь в трудную минуту. Отец утверждал, что они часто общаются мысленно! И хотя мы с братом не то чтобы поверили, благословение ламы давало о себе знать. Всякий раз, когда мы озорничали, отец точно знал, что мы плохо себя ведём. Он ясно видел, кто из нас развёл бардак или не выключил свет в доме. «Откуда ты узнал, что это я?» – спрашивал я у него, а он отвечал: «О-о, это мне лама сказал!» Подкреплял он свои россказни сюжетом фильма «Потерянный горизонт». Нам казалось, что раз похожую историю показывают в кино, значит, папа точно не врёт. Во всяком случае, теперь мы думали дважды, прежде чем озорничать. Разве могли мы тягаться со всезнающим ламой! Конечно, всё это был вымысел – зато мы перестали врать отцу о своих проделках ровно до того возраста, когда наконец не выудили из него всю правду. Он знатно посмеялся над нашим легковерием, которое продержалось так долго. Так или иначе, отцовская шутка стала моим первым знакомством с буддийскими ламами и с мистической духовностью, разительно отличающейся от сурового христианства, которое насаждали в школе в наши невинные головы.
В те времена школьников ещё собирали каждое утро на утреннюю молитву. Я увлекался наукой и с возрастом научился критиковать, даже презирать христианский нарратив, особенно ту его версию, которую исповедуют напыщенные и догматичные англиканская и католическая церковь. Получив естественно-научное образование, я отказался от концепции всемогущего божества. Однако, начав работать врачом, я научился понимать и принимать глубокую, более духовную веру, которую исповедуют многие люди. Пусть я и стал атеистом, однако чем больше я читал о буддизме и чем глубже открывал его для себя, тем больше я влюблялся в философию и образность Будды.
Впервые я задумался о Будде в конце 1990-х гг. Я прошел практику в больнице Гая в Лондоне и получил специальность анестезиолога. Вырвавшись из тисков британского здравоохранения, два года я преподавал в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе. После я переехал в Австралию, начал практиковать там и был всем доволен, а дети мои росли настоящими австралийцами. В 1999 г. меня пригласили съездить по работе во вьетнамский Хошимин от организации под названием «Интерпласт» – Международная ассоциация пластических хирургов. Две недели нам предстояло работать бок о бок с вьетнамскими врачами, делая восстановительные операции, учась и уча друг друга приемам реконструктивной хирургии. Я тут же принялся изучать историю Вьетнама и был весьма приятно удивлён, выяснив, что Вьетнамская война, здесь называемая Американской, ушла в прошлое, хотя и была страшной и кровавой. Оказалось, что Вьетнам – богатая, незнакомая мне культура, которой целых четыре тысячи лет. Приехав туда, я посетил несколько буддийских храмов, и меня поразила их атмосфера, их богатое разноцветие. То были места, где люди живут и занимаются своими повседневными делами. Это было совсем не похоже на массивные, давящие европейские соборы, битком набитые туристами. Я видел пагоду Нефритового императора, с черепашьим прудом и огромными стаями голубей, и гробницу Ле Ван Зуета, и пагоду Ха Лой, с её статуей Будды высотой с двухэтажный дом. В безмолвных думах остановился я в старом Сайгоне на том месте, где в 1963 г. поджёг себя Тхить Куанг Дык[12] и где сняли ту самую знаменитую фотографию, поднявшую антивоенные настроения в западном обществе. Я продолжал глотать книги – и глубоко влюбился в простой буддийский нарратив. Срединный путь, спокойствие, внимание к окружающим и идея о том, что источник счастья находится внутри человека, – всё это живо влекло меня. В 2004 г. «Интерпласт» отправила нас в поездку на Шри-Ланку, и там я познакомился с другой гранью буддизма, со школой Тхеравада[13]. Я посетил город Канди в центре острова, над которым возвышается холм с массивной статуей Будды, и увидел воочию, как много разных культур и систем ценностей принял в себя буддизм. Он адаптировался ко многим человеческим обществам – и эти же общества он трансформировал. В храме Зуба Будды хранится фрагмент челюсти с одним-двумя зубами, которые, по легенде, вынули из потухшего погребального костра последнего Будды, Сиддхартхи Гаутамы. Реликвия хранится в золотой ступе, и раз в году, во время парада, её помещают на спину первого из шестидесяти слонов и провозят по улицам города.
Команда наших врачей работала в неофициальной столице острова Коломбо, проводя разные хирургические операции под эгидой «Интерпласта». Чаще всего приходилось работать с расщеплением нёба у детей и с ожогами, но иногда попадались раны, полученные на гражданской войне. В конце каждой командировки мы обычно оставляли местным врачам неиспользованный инвентарь: перчатки, шприцы, эндотрахеальные трубки и кое-какие препараты. Так было проще, чем везти их обратно в Австралию, а тут они были нужны. Когда я отдал местному врачу кипу детских эндотрахеальных трубок, эта славная шриланкийка смешалась и сказала мне со слезами на глазах: «Спасибо, спасибо! Вы так приумножили свою добродетель». Пришла очередь мне смешаться. Я осознал, что подарить что-то кому-то – это важный жест, исполненный много большего культурного символизма, чем привыкли думать мы, западные люди, испорченные материализмом. Мне понравилось, что я, так сказать, «приумножил свою добродетель». Но также мне пришла мысль, что эта буддийская концепция не подразумевает некоего космического табло, на котором отображаются очки, заработанные мной в жизни, и что нет никакого нужного количества очков, которое обеспечило бы мне пропуск в жемчужные врата. Нет: концепция эта подразумевает, что несложные добрые дела наделяют человека покоем, удовлетворением и благоденствием.
Через несколько месяцев после командировки на Шри-Ланку я собрался ехать на треккинг в базовый лагерь Эвереста вместе с моим кузеном Филом Крозье. Мне не терпелось познакомиться с непальским буддизмом – школой Махаяна. Я уже читал о Сваямбунатхе, «Обезьяньем храме», и о Боднатхе, самой большой ступе в стране. И, конечно, я рвался в Тенгбоче, легендарную деревню из истории покорения Эвереста в 1950-х гг. Сумею ли я добраться до неё?
Первый мой непальский треккинг увенчался незаслуженным успехом. Мы добрались до базового лагеря и взошли на небольшую вершину Кала-Патхар: воздух там разрежен ровно наполовину по сравнению с уровнем моря, а губы приобретают синеватый оттенок. Но не менее ярко в моей памяти отложились другие эпизоды этой поездки: прогулка вокруг Великой ступы, Обезьяний храм, стены мани[14] и чортены, попадавшиеся вдоль трека, и монастыри в Пангбоче и Тенгбоче. Я познакомился с настоятелем Тенгбоче, пережившим реинкарнацию, и получил от него благословение. Я попал, во всех смыслах этого слова, в высшее измерение. И не только это запомнилось мне. Яркие краски, аромат ладана, улыбки монахов в красных одеяниях. Как вращались молитвенные барабаны. Как мы покупали молитвенные флаги на память. Как я приобрёл первую в моей жизни тхангку, сакральную буддийскую живопись. Философия, позиция, образность буддизма. Природа тех людей, что живут по-буддистски. Всё это полностью очаровало меня – и с тех пор я одержим родной землёй тибетского буддизма.
4. К началу
Долгий путь я прошёл, прежде чем оказаться в начале своих странствий в Долпо.
Родился я в городке под названием Уоллсенд на севере Англии. Там проходит древний римский вал Адриана. Рос я в Ньюкасл-апон-Тайне в 1960-е гг., и воспитывали меня далеко не так строго, как можно себе вообразить. Я учился в хороших школах, меня всегда манили привольная сельская Нортумбрия и Озёрный край, так что все выходные я проводил в походах, которые организовывал Клуб занятий на открытом воздухе средней школы имени Резерфорда. В шестнадцать лет меня даже отправили на программу активного обучения через приключения – Outward Bound[15] на Мори-Фёрт, в Шотландию, где я провёл целый месяц. Там я познакомился с простейшим альпинизмом, научился управлять байдаркой и ходить под парусом. Погода, конечно, стояла прескверная, но меня это не беспокоило. Главное – далеко от города и кругом простор. Я не просто хотел выбираться на природу время от времени – меня терзала жажда её естественной красоты и величия, и она до сих пор не утолена.
Средняя и старшая школа пролетели как день, и, сдав экзамены, в восемнадцать лет я отправился в Лондон учиться врачебному делу в больнице Гая. Лондон 1970-х гг. ещё «свинговал», и жить там было одно удовольствие, да и учиться медицине мне очень нравилось. Два года мы зубрили анатомию, психологию и биохимию, а после нас выпустили «в поля» набираться клинического опыта. Особенно мне понравился «период свободного выбора», трёхмесячный срок, когда можно было отправиться на учёбу в любую точку мира. Многие мои одногруппники поехали в Австралию или США, но мы с моим другом Йеном Николсоном выбрали Восточную Африку. В те годы Угандой правил Иди Амин, сопровождая своё правление жестокими расправами. Так что Йен остановился на Танзании, а я – на Кении. Меня распределили в окрестности города Ньери, примерно в 150 километрах от Найроби, и я начал работать в маленькой миссионерской больнице под названием Тумутуму. Там я видел случаи малярии, столбняка, бешенства, проказы и других жутких болезней, которые мне было бы не встретить в английской лечебнице. Я очень многому научился. Из Найроби в Тумутуму мне пришлось ехать на матату, местном такси, в компании девятерых человек из племени кикуйю и нескольких горластых куриц. Красная ухабистая грунтовка вела мимо экзотических жакаранд и «огненных деревьев», которых я прежде никогда не видел, и каждую минуту мне казалось, что вот-вот на дорогу выпрыгнет лев или антилопа гну. Ближе к вечеру, когда небо затянули тучи и стало душно, я прибыл в своё жилище на территории больницы. Мне отвели крохотную деревянную хижину, где нашлись кровать, ванна и маленький стол. Не прошло и нескольких минут, как раздался стук в дверь. Открыв, я с удивлением обнаружил на пороге молодую стройную блондинку, явно из Европы, которая говорила с очевидным шотландским акцентом. Это была Уна Мак-Аскилл, с которой мы станем хорошими друзьями. Она даже будет одалживать мне свой «пики-пики» – мотоцикл. В тот первый день она пришла пригласить меня на ужин и вместе со своей подругой Джойс Бурини накормила меня фасолью и местным маисом.
Ночью я спал плохо и почти не выспался: сказывалась и чуждая, незнакомая обстановка, и странные голоса животных за дверью. Утром, впрочем, мои тревоги рассеялись, стоило мне раздвинуть шторы. Меня встретила гора Кения, ясная и чёткая громадина, возвышавшаяся в 30 километрах к северо-востоку. Она как раз помещалась в моё окно, и над её широкими, покатыми, симметричными склонами торчали острые вершины, будто гигантские клыки. И там-то, наверху, к моему величайшему удивлению и восторгу, я увидел ослепительно-яркий, незамутнённо-белый снег: он венчал вторую по высоте гору в Африке, которая находится точно на экваторе.
За сорок пять лет до моей практики в Тумутуму на кофейной ферме неподалёку от Ньери жил легендарный английский альпинист Эрик Шиптон. Его ферма находилась на расстоянии тех же 30 километров от величественной горы в 5199 метров высотой. Впервые проснувшись в Ньери, он испытал до невероятности похожие на мои чувства, которые описал в книге «На той горе»: «С севера горизонт совершенно загородил собой гигантский конус, окутанный лиловой дымкой. На макушке у него сидел венец из облаков. Над этим венцом, словно паря над землёй, высилась пирамида изо льда и камня, прекрасных пропорций, ясная и чёткая на фоне неба. Солнце ещё не взошло, но его лучи уже коснулись пика, и по его ломаной каменистой поверхности бежали тенистые морщины, перемежаясь с ослепительно пылающим льдом».
В 1929 г., прожив год в Восточной Африке, Шиптон впервые взобрался на Нелион, один из пиков Кении, в сопровождении Перси Уин-Харриса. В 1930 г. он познакомился и подружился с ещё одним кофейным плантатором по пересеченному маршруту.
Время от времени я встречался с Йеном, и вместе мы ездили в Амбосели, Серенгети и даже в Занзибар. Когда наша практика уже подходила к концу, я провёл месяц в Дар-эс-Саламе, работая акушером. Оттуда на десятичасовом автобусе я отправился в Арушу, в Северную Танзанию, и мы с Йеном попытались взобраться на Килиманджаро. Нам было по двадцать одному году, мы были молодые, крепкие ребята. Шёл 1974 г., двадцать с лишним лет миновало с покорения Эвереста, и с тех пор на вершину мира ступили лишь тридцать семь человек. Процесс акклиматизации тогда понимали намного хуже, чем сейчас. Помню, что больше переживал, что замёрзну, чем боялся эффектов высоты. Естественно, мы, молодые люди, убеждённые в своей неуязвимости, поднимались по нижнему склону чуть ли не бегом.
Я был обут в простые кроссовки, не припася никакой крепкой обуви. Три дня спустя, страдая от лёгкой головной боли, мы очутились в хижине Кибо, на высоте 4730 метров. В последние сутки мы почти не пили, а вокруг нас, на пустынной седловине, не было ни родника. Утром мы покинули хижину и взобрались на пик Гилмана (5681 метр). Дорога по серпантину, поднявшая нас на 900 метров, заняла у нас около пяти часов. Нам уже было очень плохо, но мы ещё не понимали насколько. До кратера мы добрались, когда солнце стояло уже высоко, и пока мы там сидели, Йена постоянно тошнило. Я считал у себя пульс, не касаясь шеи: частого-частого стука крови в голове было достаточно. Двести ударов в минуту. Мы повернули назад, как только смогли. Минут через пятнадцать нам полегчало, и мы дошли до Аруши.
Таков был мой первый, очень неприятный опыт восхождения на большую высоту. Я получил медицинский диплом и поселился в Лондоне. Год я проработал в отделении неотложной помощи в больнице Гая, потом отработал своё в кардиологии. Я даже как-то служил корабельным врачом – несколько месяцев плавал в Арктике. Однако в конце концов я решил, что хочу быть анестезиологом, и проучился этому шесть лет.
Тогда же я женился, мы завели детей и переехали в Австралию. На горах я поставил крест, единственное, что могло случиться, – одна-другая поездка в Альпы. В то время мне казалось, что дело моей мечты – мореплавание. Однако мне всегда нравилось слушать рассказы альпинистов. Все эти истории о ранних экспедициях, о Мэллори и Ирвине, Шиптоне и Тилмане, и «Белый паук» Генриха Харрера, и «Эверест» Бонингтона, и «Трудным путём» Дженкинса… Вот это, я понимаю, приключения. Вот это настоящие люди – и они рассказывают о своих победах с одинаковой страстью, юмором и красноречием.
Идея отправиться в 2004 г. в Непал, в базовый лагерь Эвереста, родилась в индийском ресторанчике в Ланкастере, где мы сидели с моим кузеном Филом Крозье. В 2003 г. мы с моей женой Паулой приехали на лето (нашу зиму) в Англию повидать друзей и родственников. Мы с Филом вместе выросли в Ньюкасле, но я не видел его уже много лет, так что нам было о чём поговорить. Мы устроились в цветастом индийском ресторанчике, который никак не сочетался с видом из собственных окон – они выходили на подсвеченные ворота древнего Ланкастерского замка. Выпив сингапурского пива, мы стали обмениваться новостями.
– Ну что, как поживают твои Уэйнрайты? – спросил я.
– Почти закончил с ними – потом заново примусь, – отвечал Фил, имея в виду 214 холмов в Озёрном крае, которые описал в своём знаменитом «Живописном гиде по холмам Озёрного края» Альфред Уэйнрайт[16] (поэтому они так и называются). – Езжу на Озёра как к себе домой. Пару недель назад вот в «Регеде» был, – добавил он.
Я слыхал про «Регед» – выставочный центр в Камбрии, где в то время экспонировались артефакты, найденные на Эвересте вместе с трупом Джорджа Мэллори несколькими годами ранее.
– Вот бы съездить туда, – сказал я. – Жаль, в этот раз не сможем. А то я все книги про Мэллори прочёл – и про то, как его нашли. Удивительная история.
– У меня полно книг про Эверест. Некоторые – даже с автографами Криса Бонингтона и Дага Скотта: я был недавно на их лекции, – ответил Фил.
– Да ты что. Завидую! Я купил «На Эверест трудным путём», как только книга вышла, в 1976-м.
Я помнил дату, потому что как раз тогда получил диплом и начинал работать по специальности на южном берегу Англии. Я и не знал, что Фил так любит Гималаи.
– Вообще-то, – сказал он, – я тут думаю в следующем году поехать на Эверест.