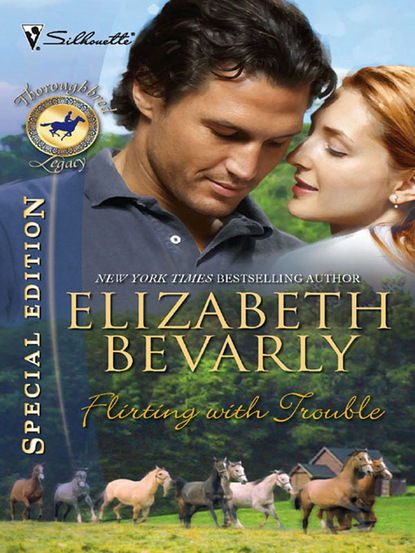- -
- 100%
- +

Истинно великие люди, мне кажется,
должны ощущать на свете великую грусть.
Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание.
I
Уже во второй половине марта весна обрушила на обледенелую землю целую серию обильных и холодных дождей. Низкие свинцовые тучи на несколько недель полностью закрыли небо. Они висели так низко, что длинные пики деревьев едва не упирались своим острием в туманное полотно унылого небосвода. Ранние весенние дожди заливали города, поселки и деревни, смывая с холста России красивые краски уходящей зимы. Все вокруг становилось унылым и безотрадным.
Серое месиво из талого снега и раскисшей весенней грязи толстым слоем лежало на тротуарах Петербурга. Запачканные сосульки то и дело срывались с массивных перил Аничкова моста и падали на льдины, медленно плывущие по Фонтанке. Стаи городских ворон в поисках пропитания без устали перелетали с одной льдины на другую, старательно выковыривая съедобные остатки пищи, вмерзшие в лед, а на широких подоконниках соседних домов стайками гнездились и нервно чирикали продрогшие воробьи.
Неуклюже прячась под зонтами и перепрыгивая внезапно образовавшиеся лужи, спешили по своим делам безликие прохожие, а густой утренний туман продолжал плотно окутывать городские улицы, предательски скрывая от взоров иностранцев острый шпиль Петропавловской крепости.
По Невскому проспекту, искря на стыках проводов своими длинными усами, лениво двигались привычным маршрутом городские троллейбусы, из окон которых выглядывали недовольные лица петербуржцев, едущих на работу, а также любопытные физиономии многочисленных гостей Северной столицы, спешащих увидеть и оценить за короткое время всю красоту и величественную грусть творения Петра.
Так выглядел Петербург этой ранней весной.
А в середине этой унылой картины, на самом краю Аничкова моста, со стороны знаменитого особняка Белосельских-Белозерских, прислонившись плечом к гранитному подножию вздыбленного коня, стоял одинокий человек и грустно смотрел на проплывающие мимо седые льдины.
Человек этот был одет в черное кашемировое пальто длиною немногим выше колен, теплые замшевые перчатки, темные джинсы, черную вязаную шапку с небольшим козырьком спереди и длинный коричневый шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи. Высокий воротник его пальто был приподнят, а из расстегнутого сверху отворота эстетично выпирал треугольник небрежно завязанного шарфа. Его взгляд тяжелым камнем спадал вниз, а правильные черты лица выражали лишь угрюмую задумчивость и сентиментальность.
Со стороны казалось, что человек этот просто ненадолго остановился полюбоваться необычным видом обледенелой набережной или же сфотографировать понравившийся ему архитектурный ансамбль. Наверное, именно так выбирает себе место и художник, желающий запечатлеть в красках мимолетный городской пейзаж.
Петербуржцы уже давно привыкли к таким странным особам и любопытным взглядам, и посему не обращали на странного человека никакого внимания, а иностранные гости всегда старались обращать внимание лишь на городские достопримечательности, не отвлекаясь на ненужные детали. Именно поэтому каждый занимался сейчас своим делом: кто-то читал книгу, уютно устроившись на сиденье троллейбуса, везущего его на работу, кто-то, наоборот, возвращаясь с ночной смены, торопился домой, волоча сумки, набитые продуктами, а кто-то, выходя из метро, спешил к открытию Эрмитажа. Иными словами, в это хмурое мартовское утро каждый был занят исключительно собою, своими мыслями, и никто не хотел обращать внимания на окружающих.
А между тем человека, стоящего на мосту, мучила печаль, и печаль эта была той породы, что имеет свойство сидеть внутри очень долго, может быть, месяцы, а может быть, и целые годы, постепенно обгладывая тонкую материю человеческого существа и разрастаясь иногда до такой степени, что вполне способна спалить человеческую душу дотла.
Этим печальным человеком был Иван Семенович Мышкин сорока лет от роду. Последние несколько месяцев своей жизни он провел здесь, в Петербурге. Вначале он снимал комнату у добродушной старушки Прасковьи Васильевны, живущей на Гороховой улице, в доме 64, в том самом, где когда-то жил сам Григорий Распутин. Прасковья Васильевна была настолько стара, что вполне могла застать Распутина еще живым, по крайней мере, она частенько утверждала, что видела Гришку, будучи еще совсем маленькой девочкой, и что однажды даже общалась с ним лично. Никто не знал, было ли это на самом деле, но, судя по ее возрасту, это могло быть правдой. Но Иван Семенович старался не докучать старушке своими расспросами. Приходя вечером домой, он по обыкновению уже возле порога скидывал свои ботинки, аккуратно вешал в шкаф пальто, шапку и шарф, быстро разогревал на кухне еду и вместе с кастрюлей тихо исчезал в своей комнате, окном выходящей внутрь двора, серого, неухоженного и с вечно открытыми мусорными контейнерами в углу.
В центре комнаты у Ивана Семеновича стоял старенький стол, служивший ему одновременно и столом обеденным, и столом письменным, и книжной полкой. Возле дальней стены с окном располагался телевизор, а рядом с ним два стула. Еще у Ивана Семеновича стоял небольшой шкаф, куда он положил свою единственную походную сумку с вещами, и старый, протертый и выцветший от времени диван. Вот, собственно, и все, что находилось из мебели в комнате Ивана Семеновича.
Хозяйка квартиры Прасковья Васильевна была старушкой небогатой и оттого бережливой, как и большинство стариков, и поэтому все, что находилось в квартире, приобреталось ею совместно с уже покойным мужем еще во времена развитого социализма. И с тех самых пор все эти вещи верой и правдой служили своим хозяевам. Ивана Семеновича такое положение дел вполне устраивало. Он не любил, когда в комнате скапливалось много вещей, и поэтому у него самого имелось лишь самое необходимое, минимальное количество вещей. Так сложилось еще в детстве, в его родном доме, когда он жил со своими родителями в одной из деревень Костромской области, где родился и вырос. Именно так было и потом, в новой квартире в Костроме, куда он переехал сразу после своей свадьбы, где и прожил со своей женой больше десяти счастливых лет, пока она не умерла от внезапно случившегося сердечного приступа, скончавшись еще до приезда скорой помощи, врачам которой оставалось лишь констатировать смерть. Так было и сейчас, когда Иван Семенович, бросив все и собрав сумку в дорогу, уехал из Костромы в Петербург, чтобы попытаться хоть немного отвлечься, пожить в другом городе, в чужой квартире, где ничего не напоминало бы о случившейся трагедии.
Мать Ивана Семеновича умерла не так давно, всего несколько лет назад, а вот его отца не стало, когда Ивану исполнилось семь лет. От своей матери Ивану Семеновичу остался неплохой деревенский дом с большим садом и огородом, а от жены – двухкомнатная квартира в центре Костромы.
Детей у Мышкиных никогда не было, и они с женой Варей в последнее время, буквально за несколько месяцев до ее смерти, часто задумывались о том, чтобы усыновить ребенка, планировали, обсуждали и таким образом морально готовились стать родителями. И лишь внезапная кончина Вари резко оборвала все планы не только на семейное, да и просто на человеческое счастье. Иван Семенович остался совершено один, ну если, конечно, не считать нескольких товарищей, которые в первое время после смерти жены часто появлялись в доме Мышкина, помогали ему, поддерживали. Безусловно, Иван Семенович был искренне благодарен своим товарищам, но заменить семью они никак не могли. У каждого из них была своя семья, свои дети, домашние заботы и хлопоты, а у Ивана Семеновича в один миг не осталось ничего. Лишь зияющая пустота внутри и осознание полной бессмысленности своего существования.
Одиночество давило и уничтожало, оно выворачивало наизнанку память, обнажая прошлое и причиняя тем самым еще большие душевные страдания. Находиться в пустой квартире, где они жили с Варей все эти годы, было выше его сил. И он выходил на улицу, покупал в соседней палатке спиртное, садился на лавочку в соседнем дворе, где они с Варей любили подолгу сидеть и мечтать о будущем, любуясь на бегающих и резвящихся в песочнице детей, и начинал пить. Первое время после смерти жены Иван Семенович пил каждый день и пил помногу. С головной болью он еле-еле просыпался с утра и шел, даже вернее сказать не шел, а плелся на работу. Приходя вечером домой, он снова начинал пить. От такого режима и отсутствия нормального питания у него начались проблемы со здоровьем, появились крупные синяки под глазами, начала болеть печень, пропал сон. В конечном итоге, окончательно вымотав свой организм, он взял на работе длительный отпуск за свой счет, собрал все свои сбережения, сдал в аренду квартиру в Костроме и уехал в Петербург. Выбор Петербурга обозначился сам собой. Выбирая место, куда можно отправиться, Иван Семенович определил для себя, что, во-первых, это должен быть обязательно большой город, где можно занять свободное время, отвлечься и подумать о будущем, во-вторых, это должно быть место, оставляющее приятное впечатление, и где можно хотя бы немного отдохнуть не только телом, но и душой. В результате недолгих раздумий Иван Семенович окончательно остановился на Петербурге. Мышкин уже неоднократно бывал в этом городе, и он ему очень нравился, в отличие, например, от Москвы, где, по его мнению, всегда слишком много ненужной суеты, пустого столичного пафоса и одновременно полное отсутствие узнаваемого городского колорита и живой истории, за исключением Московского Кремля и широко представленной сталинской архитектуры. А Петербург, помимо прочего, очень нравился Варе, но в нем они вместе никогда так и не побывали, хотя много раз собирались. Постоянно что-то срывало запланированную поездку в самый последний момент. Поэтому сейчас, отправляясь в Петербург в одиночестве, но с мыслями о своей жене, Иван Семенович как бы отдавал ей дань памяти, исполняя, таким образом, их давнюю, совместную мечту. Но эта мысль пришла в голову Ивану Семеновичу уже по дороге на железнодорожный вокзал, отчего его решение поехать именно в Петербург приобрело еще более глубокий и одухотворенный смысл.
Так сложилось, что свой сороковой день рождения Ивану Семеновичу довелось встретить уже здесь, в Петербурге.
Как всегда, под самый Новый год, в канун его дня рождения, все вокруг становилось праздничным и красивым. В городе открывались елочные базары, центральные улицы украшались разноцветными гирляндами, витрины магазинов пестрили елочной мишурой и игрушками, и даже усталые фасады старинных зданий приобретали более веселый вид.
«С Новым 2001 годом!» – весело оповещала всех неоновая растяжка над Невским проспектом и, хотя до наступления Нового года оставалось еще больше недели, но настроение у всех уже становилось праздничным. Надвигался год Змеи – первый год нового тысячелетия.
В эту предновогоднюю суету Иван Семенович, засунув руки в карманы пальто и опустив голову, долго бродил по заснеженному Петербургу. Тень его темной и сутулой фигуры промелькнула в этот день во многих стеклянных витринах главного городского проспекта. Каким-то непостижимым образом он выделялся среди всей массы людей, движущихся рядом с ним по улице. И если бы он мог посмотреть на себя со стороны, то он увидел бы задумчивого человека, идущего в толпе таких же людей, как и он сам, но идущего не вместе с ними. Иван Семенович шел заметно медленнее остального людского потока, из-за чего его постоянно обгоняли, обходили, огибали, аккуратно отодвигали в сторону, галантно придерживая за локоть.
– Извините, простите, sorry, excuse me, please, – то и дело слышал вокруг себя Иван Семенович.
Когда его руки касался кто-то из прохожих, он немного вздрагивал, выпрямлялся и поднимал вверх глаза, но, как правило, к этому моменту прохожие уже успевали исчезнуть из виду в новогодней суете Невского проспекта. И тогда он вновь опускал голову и продолжал свое траурное шествие, нарушая своим присутствием привычный ритм главного проспекта.
Иван Семенович пересек дорогу, примыкающую к Невскому, остановился и, облокотившись на перила набережной реки Мойки, задумался.
– На самом деле, – думал про себя Мышкин, – никому нет до меня никакого дела. И никто из прохожих даже не догадывается о том, что у меня сегодня день рождения и что мне исполняется сорок лет. Ну а что бы изменилось, если бы они сейчас узнали об этом? Скорее всего, ничего бы не изменилось. Нет, ну а в самом деле, они что, немедленно бросились бы меня поздравлять?
– Ну вот, взять хотя бы сейчас вот эту женщину, что стоит на остановке и ожидает прибытия троллейбуса, – бессмысленно продолжал рассуждать про себя Иван Семенович, – ну что, она просто подойдет и станет меня поздравлять? Вот так подойдет ни с того ни с сего и станет меня поздравлять?
– Поздравляю вас, мой дорогой Иван Семенович, с сорокалетием! – скажет она.
– Чушь полная! Не подойдет она ни за что и не будет меня поздравлять, даже если узнает, что мне сегодня исполняется не сорок, а сто сорок лет.
– Или вот этот человек, в дорогом кожаном пальто с коричневым портфелем в руках, садящийся в свою иномарку, он что, сразу бросит говорить по телефону, кинет свой портфель с важными документами на заднее сиденье тонированного автомобиля и по слякотному асфальту бросится ко мне прямо посередине Невского проспекта? Даже смешно предположить.
– Или вот тоже, парочка. Ему, наверное, лет двадцать, не больше, а ей и того нет, ну, может быть, лет шестнадцать-восемнадцать. Интересно, куда они так торопятся? И у обоих в ушах наушники. Музыку слушают, да еще наверняка разную. Наверное, ей нравится какое-нибудь сопливое завывание смазливых мальчиков, а ему, конечно же, американский рэп. Да, точно рэп, вон у него даже джинсы на три размера больше положенного, свисают сзади, и косички торчат из-под капюшона. И при чем тут я? Какое им может быть дело до моего юбилея? Да им вообще сейчас сложно себе представить, что человек может прожить сорок лет. Для них я сейчас кажусь непроходимым стариком, практически динозавром.
От этих нелепых мыслей Ивану Семеновичу стало смешно, и на его лице появилась еле заметная улыбка.
Со стороны Невы подул морозный ветер, и Иван Семенович, поежившись и потоптавшись с ноги на ногу, поднял повыше воротник своего черного пальто и укутался поглубже в шарф.
– Извините, пожалуйста, у вас закурить не найдется, – послышалось за спиной.
Мышкин повернулся. Рядом с ним стоял молодой человек интеллигентного вида с элегантными очками на раскрасневшемся от мороза носу.
– Пожалуйста, угощайтесь, – ответил Иван Семенович, и, достав из внутреннего кармана пачку сигарет, протянул ее парню.
– Благодарю вас, – ответил парень, тут же прикурил и, культурно откланявшись, направился дальше по своим делам.
Вообще Иван Семенович не курил, но после смерти Вари и с началом своего длительного запоя, закурил. Для успокоения нервов, как он говорил сам себе. Как ни странно, иногда помогало.
Вспомнив сейчас, что у него, оказывается, есть с собой сигареты, он тоже вытащил из пачки одну штуку и задумчиво прикурил. Когда сигарета дотлела до самого фильтра, Иван Семенович кинул ее на лед и, отвернувшись от реки, прочитал на фасаде желтого старинного здания уже знакомую по прошлым поездкам в Петербург светлую надпись на черном фоне: «С. Волфъ и Т. Беранже».
Весь остаток своего сорокового дня рождения Иван Семенович провел за уютным столиком «Литературного кафе», на втором этаже, возле окна, смотрящего на Невский проспект.
Приглушенный свет бра в виде свечей, висящих на стене, торшеры на подставках, обтянутые материей, темно-бордовые стены и зеленые скатерти на столах создавали впечатление девятнадцатого века. В самом конце помещения кафе молодая женщина негромко играла на рояле. Рядом с ней стоял бюст Александра Сергеевича Пушкина, который, опершись щекой о ладонь правой руки, поэтично взирал за разночинных посетителей кафе. Говорят, что Александр Пушкин частенько захаживал сюда и очень любил это место. Теперь это кафе очень популярно среди иностранцев.
Иван Семенович заказал себе одно из любимых пушкинских блюд: котлеты «Пожарские», которые и на самом деле оказались изумительными, какой-то вкусный мясной салат, жареную картошку и двести граммов водки.
Поскольку Мышкин отмечал свой сороковой день рождения в полном одиночестве, то чокаться приходилось с графином. Иван Семенович поднимал стопку, наполненную холодной водкой, и, глядя на причудливый фонарь с резными ножками и закрученной в виде спирали шеей, стоящий на мосту, прямо напротив окна, мысленно произносил тост. Затем он легонечко дотрагивался до краешка графина, опрокидывал стопку, залпом выпивая все содержимое, и аппетитно закусывал вкусной «Пожарской» котлетой.
– Желаете что-нибудь еще? – вежливо спросил подошедший сзади официант.
– Да. Мне, пожалуйста, еще водочки, – ответил Мышкин.
– Сколько?
– Сто грамм. Да, пожалуй, будет достаточно.
– Что-нибудь еще?
– Да. Еще, пожалуйста, один салатик.
– Какой вы желаете?
– Точно такой же, – ответил Мышкин и показал на свою тарелку с недоеденным салатом, стоящую на столе. Затем подумал и добавил, – и стакан томатного сока.
– Хорошо, – ответил официант и удалился.
Иван Семенович оглядел помещение кафе. В зале было не очень многолюдно и потому достаточно тихо. Женщина продолжала приятно играть на рояле.
Прислушавшись к голосам окружающих, Иван Семенович понял, что в кафе находятся практически одни иностранцы. Из русских в зале он смог выделить только себя и еще немолодую пару за соседним столиком.
– Обидно, – подумал Мышкин, – такое ощущение, что мы, русские, ценим свою историю даже меньше, чем ценят ее иностранцы. Наверняка, многие из присутствующих читали стихи Пушкина и, возможно, даже знают их наизусть.
Иван Семенович снова окинул взглядом зал, после чего попытался вспомнить хоть какие-нибудь пушкинские строки. Как бы там ни было, но раньше, когда он еще учился в школе, ему очень даже нравились стихи Пушкина, и он знал многие из них наизусть. Любовь к творчеству поэта, ему привила, как это ни странно и даже сама того не подозревая, молодая учительница литературы, преподававшая в школе, где учился Иван, и которая тогда очень ему нравилась. Все в классе знали, что она просто с ума сходила от творчества Пушкина, и его строки в качестве цитат висели по всему кабинету русского языка и литературы. И вот однажды, чтобы произвести на нее достойное впечатление, Иван специально выучил несколько длинных стихов Пушкина наизусть, а затем, на уроке литературы, когда класс поздравлял ее с очередным днем рождения, он с выражением прочитал их ей. Ее искреннему восторгу не было предела. Она с замиранием сердца слушала давно знакомые ей пушкинские сроки, она радовалась стихам, словно ребенок, которому подарили желанную игрушку, она смотрела на Ивана восторженными глазами благодарного слушателя и внимала каждому слову, когда-то написанному гением.
После этого случая Иван всегда получал хорошие оценки по литературе и даже по прошествии многих лет сохранил любовь к творчеству великого поэта и долго помнил наизусть его заученные стихи.
И теперь, сидя в уютном кафе, Иван Семенович ворошил в памяти свое далекое детство. И память не отказывала ему, но послушно позволяла выводить наружу прекрасные рифмы:
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…
II
Домой Иван Семенович возвращался глубоко за полночь. У парадного стояла карета скорой помощи, в кабине которой, лениво потягивая губами тлеющую сигарету, сидел одинокий водитель и выдыхал из открытого окна машины в темноту петербургской ночи густой сизый дым.
Мышкин бесшумно проследовал мимо и исчез в темноте. Поднимаясь по исхоженной лестнице на третий этаж, он услышал какое-то шевеление наверху. Из замочной скважины квартиры Прасковьи Васильевны пробивался тонкий лучик света.
– Странно как-то, – тихонечко произнес Мышкин, – обычно Прасковья Васильевна ложится рано. Наверное, опять въехал кто-нибудь из жильцов в соседнюю комнату.
Дело в том, что Прасковья Васильевна жила в трехкомнатной квартире, две из которых сдавала внаем. Жильцы одной комнаты, семейная пара из Ставрополя, съехали два дня назад, и все это время комната пустовала. Иван Семенович начал вставлять ключ, но дверь отворилась сама собой.
В коридоре и на кухне горел свет. За кухонным столом сидела соседка по лестничной клетке, миловидная женщина лет шестидесяти. Мышкин знал, что ее звали Валентина, поскольку она иногда заходила в гости к Прасковье Васильевне, и та всегда называла ее не иначе, как Валечкой, а напротив нее, склонившись над столом, сидел мужчина, одетый в комбинезон сотрудника скорой помощи, и неторопливо заполнял какие-то документы. Возле холодильника стояла молодая женщина в сине-зеленом халате врача и разговаривала с кем-то по телефону.
Заметив вошедшего в квартиру человека, все присутствующие оглянулись.
– Что случилось, Валентина? – начал взволнованно говорить Мышкин, обращаясь к соседке.
– Ой, беда, Ванечка, беда-то какая, – запричитала соседка, и на ее уже красных глазах появились слезы.
– Да что случилось, Валентина, что с Прасковьей Васильевной, где она, что с ней, опять с сердцем плохо, да? – беспорядочно задавал вопросы Мышкин, придерживая Валентину за локоть.
Мышкин знал, что у Прасковьи Васильевны были проблемы с сердцем, и что в последнее время приходилось вызывать скорую помощь два-три раза в месяц. Один раз Иван Семенович лично вызывал скорую, когда внезапно Прасковье Васильевне стало плохо. Но от госпитализации она всегда отказывалась и говорила, что не хочет умереть в чужих стенах.
Обычно сердечные приступы продолжались недолго, и через несколько часов после укола Прасковья Васильевна приходила в себя, поднималась и возвращалась к обычной жизни.
– Ну вот, опять сердечко пошаливает, – говорила она, очнувшись. – Устало, наверное, жить. Уж, чай, девяносто четыре годка бьется, родимое. Все повидало, многое пережило.
И это было правдой. Родилась Прасковья Васильевна еще в царской России, до большевистской революции 1917 года, которую встретила уже десятилетней девочкой, здесь же, в Петрограде. Ребенком пережила Первую мировую войну, где и погиб ее отец, а затем и саму революцию. Хорошо помнила бурлящий, революционный Петроград. Вскоре после революции умерла мать. Затем потянулись тяжелые годы детдома, в котором она и выросла уже при советской власти. Пережила войну гражданскую, коллективизацию, индустриализацию, нэп. Многое запомнила, многому научилась. В Ленинграде вышла замуж за рядового Красной армии. Потом разразилась Вторая мировая война. С Финляндского вокзала провожала мужа на фронт, где он и погиб в первый же год войны. Получила похоронку на мужа и прямо на рабочем месте, под плакатом «Все для фронта, все для победы!», упала в глубокий обморок. Затем настали годы нечеловеческого труда, блокадный Ленинград, снова голод и послевоенная разруха.
По окончании войны второй раз вышла замуж и родила двоих детей, и когда они выросли, то разлетелись по стране. Сын жил во Владивостоке, где остался насовсем, после распределения из института, и последний раз был у матери много лет назад, а дочь после замужества переехала в Смоленск к мужу и тоже очень редко навещала мать, но периодически звонила ей по телефону. После смерти мужа в начале девяностых годов Прасковья Васильевна жила одна в своей квартире на Гороховой улице и в качестве прибавки к небольшой пенсии сдавала внаем комнаты. Сдавала недорого, отчего проблем с постояльцами никогда не возникало.
– Тут тебе и денюжка, тут тебе и общение, – любила говорить своим постояльцам Прасковья Васильевна.
Да и вообще, несмотря на тяжелую судьбу, она до настоящего времени оставалась человеком добрым, отзывчивым и очень общительным.
– Валентина, ну не молчите же вы, – повторял Мышкин, нервно теребя за руку Валентину, – что случилось с Прасковьей Васильевной?
– Умерла Прасковья, – тихо произнесла Валентина и, не сдержавшись, разрыдалась прямо на плече у Ивана.
– Обширный сердечный инфаркт, – сухо констатировал врач, сидевший за столом, – в таком возрасте это не удивительно.
– Родственники у нее есть? – спросила женщина, говорившая по телефону.