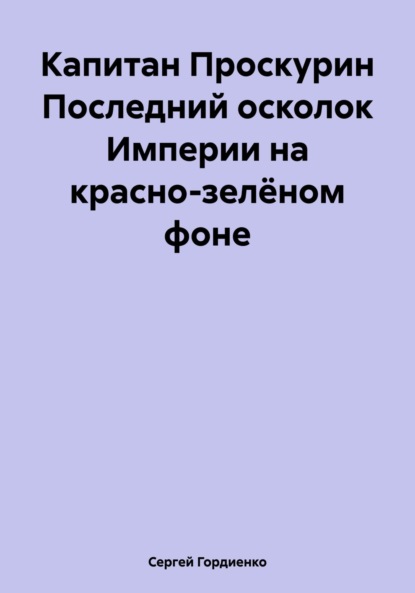- -
- 100%
- +
В лепке я чувствовала себя уверенно и не упускала возможности поиграть с пластилином ни дома, ни в детском саду. А судя по восторженным реакциям взрослых, детей и по выставленным на всеобщее любование моим работам, лепить у меня получалось хорошо. Правда, мою любовь к пластилину не всегда одобряла мама. Дома она ругалась. Особенно, когда я роняла на рябой ковер маленькие кусочки пластилина, забывала их поднять и, что хуже – наступала… Мои слезные оправдания и уверения, что пластилин я уронила случайно, и уж тем более не планировала на него наступать, не работали. Да еще и табурет, что выполнял роль стола, в качестве моего рабочего места не был удобен…
Лепить за письменным столом сестер мне не позволяли. Вместо организации места для лепки, мама просто орала на меня громче. Под аккомпанемент ее криков и брани мне приходилось выковыривать втоптанные в ковер кусочки пластилина. Иногда мне помогала Карина, ведь и старшие сестры наступали на упавший пластилин. Вскоре ругани мамы стало так много, что дома мне вовсе лепить запретили. Тогда я начала рисовать.
Пока Карина Юрьевна оглашала задание, в моем воображении возник образ русалочки Ариель из любимого мультика. Поэтому я решила лепить её. По ощущениям это была импровизация.
В руках вспыхнул первый в жизни «пожар»! Я быстро вылепила тельце и руки жёлтого цвета, после – шею и голову. Соединила. Сформировала хвост из зелёного пластилина и прилепила его к телу; следом— синие ракушки на грудь, как в мультике! Далее, беру кусок красного пластилина формирую шарик ладошками и расплющиваю его на столе. Получившийся блин дорабатываю пальчиками – волосы готовы. Надеваю эти волосы, как шляпу, на голову русалочки поправляю их и прижимаю. Приклеиваю к лицу малюсенькие черные полукруги – глазки. Добавляю красный маленький полукруг – улыбку.
Сгибаю свою русалочку и сажаю ее на большой камень из куска смешанного пластилина неопределённого цвета. Всё! Я довольна своей работой, да еще и завершенной удивительно быстро.
Во время лепки ко мне подбегали ребята посмотреть на процесс. Многие смеялись из-за ракушек на груди русалочки. Моя Ариель из пластилина очень похожа на любимую героиню из мультика! Я удивляюсь и радуюсь, что получилось так же, как в моем воображении.
Возникло желание слепить друга Ариэль – Флаундера и вопрос —смогу ли слепить вредного Себастьяна… Представляю, как покажу маме свою красивую русалочку, и она обязательно разделит мой восторг.
Воспитательница вернулась в группу. Она, как всегда, скорчила брезгливо-недовольно лицо и стала медленно осматривать то, что мы слепили. Любимчики Карины Юрьевны – Коля и Боря – с нетерпением ждали ее реакции на мою работу. Они суетились и подгоняли ее к моей работе.
– Карина Юрьевна! Там Ира голую женщину слепила! Русалку! В лифчике! – выкрикивали они по очереди.
Я начала беспокоиться: «Может быть ракушки это— лишнее?». Воспитательница томно двигалась по группе, и мы дружно перемещались следом за ней. И вдруг все вместе остановились у медведя с бочонком мёда, слепленного Жориком. Коричневый медведь был абсолютно гладким и почти глянцевым, без отпечатков пальцев на пластилине. А маленький бочонок мёда жёлтого цвета был как будто из настоящих деревянных досочек! На бочонке даже имелась надпись «мед»! Выражая восхищение, я стала задавать Жорику вагон вопросов в секунду про его медведя… А Жора с улыбкой рассказал мне по-секрету, что мама водит его на лепку и этого медведя он уже сто раз лепил!
Позже он научил и меня добиваться такой же гладкости пластилина, что оказалось не так уж и просто. Долгое время я пыталась понять, зачем мама Жорика водит его на лепку.
– А тебе дома не разрешают лепить? – спрашивала я с сочувствием.
– Разрешают. – удивленно отвечал Жорик.
– А пластилин дома есть? – не унималась я и представляла, как он тоскливо смотрит в окно…
– Да. Разные цвета, тут нет таких! Я принесу тебе.
– Хорошо. Но тогда зачем тебя водят к какой-то незнакомой женщине?
– Она мамина знакомая и учит меня лепить.
– Ну все же умеют лепить!
–Вот смотри, это она она научила меня правильно лепить.
Медведь, которого Жорик слепил при мне, был очень красив. Но мысли о той женщине, что учит Жорика лепить долго волновали меня. Я расспрашивала его о ней, поскольку сама опасалась чужих и малознакомых женщин, ведь я не знала, чего от них ожидать…
Часто мама забирала меня из садика и приводила к себе на работу, что я обожала! От турникета на проходной и от просторной бетонной площадки, на краю которой располагалась настоящая грузовая машина на постаменте, я была без ума. Каждый раз я спрашивала маму и остальных взрослых: «Зачем там этот старый грузовик?». Все отвечали по-разному, и я так и не поняла цель того памятника… Все что мне оставалось – наслаждаться впечатляющим видом, какой имели и военные истребители у спортивного клуба “Подвиг” на берегу Магаданки.
Стены маминой работы были увешаны серыми железными шкафчиками похожими на нашу настенную аптечку. На дверках этих шкафчиков были окошки, а внутри —большие разноцветные кнопки, некоторые из которых мне разрешали нажимать. Множество черных проводов разной толщины змеями извивались по потолку и стенам. На столе электрический чайник и железные подстаканники. Над столом большой плакат с четырьмя мужскими лицами.
Один из мужчин на плакате с длинными волосами в круглых очках острым носом и тонкими губами. Никогда раньше я не видела мужчин с длинными волосами, поэтому бежала к тому календарю с порога. Одна из маминых коллег угощала меня вкусным чаем с булочками или бутербродами и помогала прочесть надпись на плакате “The Beatles”. Букву “B” я знала – в садике мы учили стихотворение на английском про баттерфляй.
Та женщина встречала меня сдержанной улыбкой вопросами про детский сад, часто что-то вязала спицами, как мама. Иногда она резко вставала открывала железную дверку и сосредоточено нажимала какие-то кнопки. Она громко говорила по зеленому телефону, с крутящимся диском, как у нас дома, и делала записи в большой специальный журнал.
Одна из дверей на маминой работе вела в огромный гараж с высоченным потолком и ямами в полу, куда спускались мужчины, чтобы полюбоваться своими гигантскими машинами снизу и постучать по ним инструментами. В гараже пахло машинным маслом, и я мечтала побегать между глубоких ровных ям. Но мама всегда крепко держала меня за руку и лишь несколько раз подводила поближе к ямам. Мама обещала, что разрешит и побегать между ям, и спуститься в них по интересным ступенькам, когда мне исполнится семь лет.
Единственная причина по которой я не любила мамину работу это тётя Надя. Мама забирала меня из садика и первым делом я спрашивала ее работает ли сегодня теть Надя, чтобы приготовиться к отвратительной встрече заранее и продумать план действий… Но придумать ничего не получалось.
Тёть Надя была самой страшной из всех маминых знакомых. От нее так же, как и от папы воняло водкой и сигаретами. Она громко разговаривала и смеялась своим прокуренным голосом и была вся какая-то опухшая. Её тонкие губы были криво накрашены ярко-розовой помадой, а размазанная тушь ее вовсе не украшала. То рыжие, то белые волосы торчали в разные стороны и похожа она была на Бориса Моисеева из телека.
– О, Иришка, привет – здоровалась она и резко засовывала руки под свою одежду.
Время замедляется и вот я снова вижу ее белый живот, затем бюстгальтер, дальше – ужас и отвращение. Мама стоит рядом и хохочет.
– Смотри, смотри на мои сиськи! – смеется тетя Надя – Мужика у меня нет, детей тоже, сиськи показывать некому! Хоть тебе покажу ёпрст…
Взрослая женщина пихает мне в лицо свою обнаженную грудь… Эта грудь так близко к моему лицу, я отворачиваюсь, морщусь, но её моя реакция не останавливает.
– Ну ёпрст, что не нравятся мои сиськи? Чо ты не смотришь? А, Иришка? Мамкины лучше? – громко хохочет тетя Надя и трясет свою грудь над моим лицом, которое я закрываю ладонями, чтобы это прекратилось.
– Надя, ей не нравится не видишь, что ли? Прекрати давай, а то опять она будет плохо спать. – робко делает замечания мама.
Тетя Надя наконец прячет свою грудь, продолжая мерзко хохотать и материться.
– А вот «шурупу» мои сиськи нравились, когда она была в твоем возрасте!
Мою старшую сестру Залину тетя Надя почему-то звала «шурупом». Термины и новые слова я различала плохо… Поэтому представляла гайку из папиных инструментов. Иногда тётя Надя болела. Тогда я расслаблялась и наслаждалась пребыванием на жутко интересной маминой работе.
Незаметно вся группа подошла к моей русалочке, и все стихли. Дети из толпы стали шептать и выкрикивать:
– Она не сама лепила! Из дома принесла! Ей помогала Карина Юрьевна! – слышала я у себя за спиной голоса одногруппников.
– Она лепила сама, я видела! Ей никто не помогал! – храбро заступилась Алиса, которая сидела слева от меня и наблюдала за всем процессом лепки.
Всем интересна моя русалочка! Ракушки и волосы, хвост и маленькие глазки с красной улыбкой. Наконец я расслабилась и обрадовалась проделанной работе еще больше.
Вдруг воспитательница молча схватила подставку с русалочкой и подняв ее высоко над нашими головами, стремительно понесла мою работу из группы. В моем горле застрял ком слов. По неизвестной мне причине я не могла произнести ни слова, но хотелось кричать: «Куда? что не так? верни!». Я не знаю, как реагировать, и что делать… Со мной подобное впервые! Но я бегу за воспитательницей вместе с другими детьми. Только они чему-то радуются, а я – нет… Карина Юрьевна скрылась за дверью кабинета заведующей. Все вернулись в группу, а я осталась ждать у большой двери, обитой дерматином… Ковыряла железные кнопки. Долго решалась постучать, слушая их громкий смех.
«Может воспитательница забрала русалочку из-за этих ракушек на груди?! Но в мультике тоже ракушки…» – пытаясь понять, что же не так я сделала, готовилась, что меня отругают, но русалочку вернут и тогда я отлеплю эти ракушки, чтобы еще и мама с папой не ругались.
Дверь открывается спустя вечность. Воспитательница выходит без русалочки.
Помню её улыбку и вопрос, типа: «Чего это ты тут стоишь?» Я не смогла ничего сказать. И заплакать тоже не смогла. Дальше – густой туман.
Мне не вернули мою работу. И мама так и не узнала о её существовании. Той русалочки уже и нет вовсе – пластилин недолговечный материал. Возможно, я лепила русалочек и в будущем, но ни одна не была той – первой.
Мне не позволили полюбоваться результатом моего труда, лишили возможности наиграться, повосхищаться вдоволь и проститься. Растоптанность несправедливостью коснулась меня слишком рано. Нелепая и, казалось бы, пустячная потеря, поселилась в моем подсознании, росла вместе со мной и сжирала внушительную часть жизни, без моего ведома. Ощущение безвозвратной и не прожитой утраты настигло меня сквозь много лет.
В кабинете психолога повисла мертвая тишина. Я посмотрела на множество мокрых салфеток вокруг себя – мой личный индикатор глубины переживания. Это была одна из самых эмоциональных сессий за многолетнюю терапию – вокруг был целый океан слез… Вернуться в «здесь и сейчас» было сложно. Сил не было, и плакать было больше нечем… Была горькая обида, ощущение фрустрации и вопрос, занимавший всё во мне: «Ну как же так?!».
Тишину прервал тихий, твёрдый голос психотерапевта:
– Слепи себе эту русалочку. Позволь себе это. Позволь себе обладать ею.
Я ошиблась. Слез хватит еще на несколько океанов.
Красный спортивный костюм.
С того момента, как в кабинете психолога я осмелилась встретиться с вытесненным грабежом моей русалочки, прошло время. Воспоминание обросло подробностями.
Произошло это ещё и потому, что я решила последовать рекомендации психолога и слепить русалочку. В процессе лепки произошло несколько важных для меня открытий. Одно из – тело тоже обладает памятью! Моторика и ощущения хранят воспоминания.
Удивительно что разминание в руках пластилина оказалось своеобразным якорем, связью с подготовительной группой. Пластилин был настолько податлив в руках, словно я лепила из него на протяжении всех двадцати шести лет после садика каждый день.
Когда меня перевели в новый сад, я встретила своего давнего друга Жору. Мы вместе посещали ясли. Он меня узнал, и, во время моего знакомства с остальной группой Жорик встал из-за круглого голубого стола и объявил всем, что будет меня защищать, и чтобы никто не смел меня обижать. От чего Жорик собирался меня защищать я не знала и даже не могла предположить.
Жорик провел мне экскурсию по группе показал аквариум, игрушки и красиво сплетенные кармашки и подвесы для цветов из белых верёвочек. В кармашках хранились цифры счетные палочки и книжки. Жорик рассказал: это все сделала его мама! Он пытался объяснять и показать мне, как это плетется с помощью каких-то деревяшек… Из его объяснений я ничего не понимала, но эти кармашки и подвесы для цветов с кисточками были похожи на узоры, которые умела вязать моя мама спицами и крючком.
Про красивые кармашки с кисточками я рассказала маме, а она показала мне картинки в журналах и назвала это все—макраме. К сожалению, мама плести макраме не умела, зато умела вязать теплые носки и кофты, юбки и ажурные салфетки. Всякий раз любуясь кармашками в садике, я думала, что у Жорика есть напоминание о его маме даже тут, а у меня ничего нет. Давным-давно у меня был зеленый жакет, связанный мамой. Жакет на замке был очень теплым, и мама перевязывала его по мере моего роста. Я носила его в яслях и в прошлом садике. Замком жакета нянечки и сестры часто больно цепляли мой подбородок. А сейчас мама заканчивает вязать папе зеленый пуловер с косами из жакета, ставшего мне маленьким.
В новом саду мне часто было одиноко и грустно. Ни аквариум, ни черепашки ниндзя Олега, ни игры с Алисой и с Жориком не спасали меня от странной тоски. Я боялась, что и в новом садике, как в двух других меня будут оставлять с ночевкой. Самым страшным было ожидание мамы. В яслях забирали почти всех детей, одного из первых – Жорика, а я неделями в ужасе оставалась брошенной матерью.
После яслей я очутилась в другом садике на Билибина. Он был далеко от дома, у моря. К морю мама так меня и не сводила. На мои просьбы отвечала, что зимой море покрыто льдом, там холодно и нечего делать. В садик и домой мы часто ездили в папином автобусе, в котором он работал водителем. Зимой, в дороге было так темно, что я не понимала, зачем меня возят в садик и обратно именно ночью?!
Мешала жить и жуткая каракулевая шуба. Пребывание в твёрдой, жаркой, тяжёлой шубе было кошмаром. Коричневая шуба была тёплой, но непрактичной: во время прогулок на неё налипал снег, и шуба становилась еще тяжелее… Воротник туго сжимал шею и как объяснить это маме я не знала. Она говорила не плакать я и не плакала, а тихо страдала. Затем мне перестали застегивать тугой воротник на крючки и появился волосатый, колючий шарф. Суровой зимой папиным сине-красным шарфом мне закрывали рот и нос. От дыхания шарф дубел, кололся меньше и покрывался снаружи льдом. Только из-за этих интересных метаморфоз и возможности отколупывать дома лёд от шарфа я носила его смиренно.
Усложняла жизнь зимой и противная бельевая резинка от варежек, что мама цепляла к петельке шубы. Резинка путалась в рукавах и нужно было приложить усилия, надевая шубу, чтобы резинка не мешала. Мешали жить и шапки, надетые одна на другую. Верхняя шапка кроличья досталась мне от старшей сестры. Как и варежки, меховую черную шапку фиксировала белая бельевая резинка, обвивая мою голову от подбородка до макушки. Резинка, от резких поворотов головы, соскакивала с шапки и больно била меня по носу… Однажды мама все же заметила, как сложна моя жизнь, и пришила наконец к шапке пуговицу вместо резинки. И все равно одеваться в садик, потом раздеваться, снова одеваться на прогулку и раздеваться после, для меня было мучительным и невыносимо нудным процессом.
Из яслей в саду у моря был Саша. Вместе с ним я пережила пятидневку в яслях. В моем втором саду Саша много баловался, и я вместе с ним. Однажды, воспитательница схватила непоседливого Сашу и собрала всех детей вокруг. Она держала Сашину голову боком, и говорила громко и угрожающе, что у каждого, кто балуется, будут такие же закрученные уши, как у Саши:
– Смотрите внимательно! Видите, какие у него уши?! Это потому, что он балуется и шумит!
Следом воспитательница приводила противоположный пример, обращая наше внимание на маленькие уши тихой девочки, поясняя при этом:
– Вот у неё красивые ушки, потому что она не балуется и не шумит!…
Мы всей нашей средней группой настороженно, почти в ужасе, разглядывали уши испуганного Саши, который стоял, как никогда смирно. Встревоженно мы спрашивали мнение воспитательницы об ушах каждого…
Саша был подавлен: с ним никто не хотел играть. А я долго изучала его уши, чужие, беседовала с ним о его беде, и старалась убедить, что с его ушами всё хорошо: они почти такие же, как у остальных детей, только чуть-чуть другие. После долгих разговоров Саша мне поверил, приободрился и мы снова стали радостно орать и бегать по группе.
За беготню воспитатели нас ругали и ставили в противоположные углы. Мы переглядывались через всю группу, но за это нас тоже ругали. Меня – вдвойне. Говорили: «Ты же девочка! Красивая, воспитанная, аккуратная! Зачем ты балуешься с Сашей? …»
Стоять в углу и испытывать стыд мне не нравилось, воспитатели ябедничали маме, поэтому приходилось уговаривать Сашу баловаться и бегать потише. Взамен он просил меня играть с ним в машинки. В основном это были гонки и аварии. Да, мой друг был чуток беспокойным. Зато, у него были голубые глаза как у папы. И фамилия интересная.
В этом садике многое отличалось от яслей. На горшки мы ходили отдельно от мальчиков. И это не казалось странным или тревожным до тех пор, пока Саша не пошёл на горшок один. Вне положенного времени. Закончив свои дела, он вышел в группу за помощью взрослых. Со спущенными колготками. Я смотрела на его растерянное лицо, а потом я увидела под его футболкой нечто, чем он отличался от меня и от всех кукол. Воспитательница подлетела и быстро унесла его к горшкам. А я осталась в задумчивости, перебирая всех пупсиков и кукол. Ни у одной куклы, ни у мальчиков с короткими волосами, ни у девочек с бантиками ничего не было между ног. Поэтому я решила, что с моим другом что-то не так.
В том же далёком саду у меня впервые отобрали мою работу – фиолетовую хризантему. Это была первая масштабная, трудная и серьёзная работа. А делали мы её для мам. Нужно было скрутить и склеить конусы из готовых, маленьких, цветных квадратиков бумаги, и приклеить конусы на круглое основание из картона. Нам дали посмотреть очень красивый образец! Я беспокоилась и старалась – для меня предельно важно было порадовать свою маму. Я надеялась, что если склею аккуратно и правильно хризантему, то мама больше не будет оставлять меня в этом садике ночами.
Папа регулярно работал вахтой на трассе. И он не знал, что и я во время его вахт жила вне дома. Сначала – в яслях, а потом и в другом саду. Однажды утром меня из яслей внезапно забрала Карина. Ей было одиннадцать лет, а мне два. На улице было холодно, но Карина была в одном платье. Почему-то она не одела и меня. Как и в яслях, я орала изо всех сил на весь «Автотэк», от обиды и внезапной радости, холода, голода и желания сосать соску одновременно с ором… Карина несла меня домой окольными путями, чтобы папа не увидел нас из окна квартиры. Несколько остановок в подъездах «китайской стены». Сестра прыгала, чтобы согреться.
– Скажешь папе что была у Светы поняла? – повторяла Карина снова и снова.
Я соглашалась, и сестра мне возвращала соску, которая по дороге из садика неоднократно падала. По дороге домой Карина проверяла, как я усвоила материал. Забирая соску, она меня спрашивала раз за разом: «Где ты была?».
Папа вернулся с вахты раньше времени. Мама сказала папе, что я у соседей сверху и отправила Карину сбегать за мной в ясли в одном платье. Чтобы у папы не было вопросов… Это был май. Погода в магаданском мае колеблется от нуля градусов до десяти.
Дома папа очень ругался и кричал. Но я орала сильнее. Он не выпускал меня из рук, обнимал, укачивал и возмущенно спрашивал маму: почему я такая грязная, почему от меня воняет и почему я так исхудала. Мама отвечала, что отлучает меня от груди.
И жаль я не могла вмешаться в их разговор и рассказать папе, что мама меня не забирает из яслей, а там я ничего не ем, потому что постоянно сосу соску. Соска помогает мне пережить ужас и брошенность. А за то, что я не ем меня наказывают, раздевая догола. Чья-то мать угостила меня печеньем, и я не могла его съесть, поскольку для этого нужно было вытащить изо рта соску. А соску я достаю только, чтобы докричаться до мамы у входной двери. Но моя мама меня не слышит. Чья-то мать, аккуратно вытирая мое лицо своим вкусно пахнущим носовым платком, возмущенно спрашивала нянек: «Вы их тут вообще моете?!».
А чтобы я не чесалась из-за своего диатеза одна безумная нянька связывает мои руки бинтами: перед собой, за спиной или над головой. И обе няньки зачем-то привязывают меня и остальных детей на ночь к кроватям. Когда привязывали только меня, то после ухода нянек меня пытался развязать Саша, а если развязать не получалось, он чесал меня сам.
Папа продолжал ругаться на маму, а я захотела спать. Он пах своей кожаной курткой, сигаретами и одеколоном. Папа взволнованно проверял мое горло, потому что голос мой охрип. Просил меня покашлять, щупал шею, светил здоровенным и ярким фонарем мне в рот и спрашивал, что у меня болит. Но болела у меня только душа, а как это выразить словами я не знала.
Папа решил, что отлучать меня от груди еще рано и, если ребенок просит нужно кормить. Может и голос восстановится. Так мама иногда подкармливала меня грудью до моих трех лет. Но голос так и не восстановился. Хрипота ослабла, но осталась со мной.
Позже, из тех яслей сделали военкомат. Что было удивительно, ведь я долго вспоминала свои ясли тепло, и об ужасах, происходивших там, не помнила ничего. «Военкомат? Это почему так?» – спросила я в одиннадцатом классе маму.
– Там была незаконная пятидневка. – сухо ответила она.
О том, что и я неделями жила в тех яслях, мама не сказала ни слова. Не говорила мне мама и о том, что и в далеком саду на ул. Билибина я жила неделями. И лучше бы все эти страшные воспоминания, ощущения беспросветности и брошенности не воскресали внезапно из детской амнезии. И лучше бы я никогда не вспоминала, как мама, забирая меня из садика у моря, часто пугала: «Если ты скажешь отцу, что ночуешь тут, я тебя больше не заберу!».
Зато понятно и папино недоумение по поводу моей неспособности говорить на родном языке родителей. Перед своими вахтами папа просил маму говорить со мной на осетинском, как это делал он. Но мама просьбами отца, как и мной пренебрегала… Зато мама, забирая меня с очередной моей вахты, по дороге на остановку и в автобусе, пыталась наспех впихнуть в меня все бытовые осетинские слова. Конечно, эти ее попытки были тщетны. И я, возвращаясь домой, оказывалась на другой планете… Ведь папа говорил на непонятном языке, мама и сестры понимали и отвечали ему, а я не понимала никого.
Когда папа работал в городе, мама забирала меня каждый день. Сашу забирали гораздо реже. Мама меня одевала и уводила, а Саша оставался в группе. Он не плакал, как плакала я в яслях, когда моих друзей забирали домой их мамы. Утром мама приводила меня обратно в садик, где Саша бывал непривычно тихим и сидел на одном месте. Играть со мной он начинал не сразу.
Скручивать и склеивать конусы для хризантемы мне было легко. Только вот дети по обе стороны от меня скручивали трубочки, и я с испугом подумала, что не поняла задание, и не знала, как быть… Но воспитательница меня успокоила:
– Ты всё делаешь правильно, продолжай скручивать, как начала.
И когда я собрала все свои конусы и склеила их, неожиданно получился цветок, даже красивее белого образца!
Тогда я впервые испытала приятное удивление и даже шок. Мама, которую я очень ждала, увидев мою работу, отреагировала сухо: «Давай оставим твою хризантему в саду? А то, как её нести, ведь она развалится по дороге?!». Я начала ныть, и мама положила, наконец мою работу то ли в сумку, то ли в пакет. Вдруг подошла воспитательница. Она, улыбаясь, нежно и ласково нахваливая и поглаживая меня, уже одетую, по шапке, попросила маму, по непонятным для меня причинам, отдать ей мою работу. Мама, с нелепой улыбкой, достала мою хризантему из своего пакета. Они говорили на взрослом языке, а я собралась плакать, тогда мама, как всегда, меня успокоила:
– Ииииира! Это что такое? Как тебе не стыдно? Ты же уже большая?! Не жадничай! Этот цветок просто останется в саду, а дома ты ещё сделаешь! – и отдала воспитательнице мою первую, серьёзную работу …