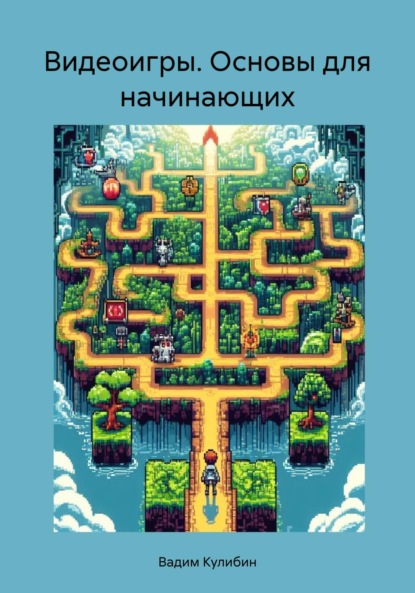- -
- 100%
- +
С Узбекистанской я отправился на троллейбусе на вокзал. В киоске на площади Ганькиной купил жареный пирожок. Наши собрались в здании вокзала. Лица у всех были тяжелы и рассеяны, губы сжаты.
– Что случилось? – спросил я.
– Цой умер, – сказал Андрюха.
Я переводил взгляд с одного на другого.
– Да ладно, – сказал я.
Никто не обратил внимания на моё сомнение.
Дима разродился траурной, оспаривающей жизнь тирадой:
– Вобще-е-е. Цой умер… Как это? Прикиньте. Непонятно. Цой умер…
И Дима шмыгнул носом. Он тоже, как я, переводил взгляд с одного бледного лица на другое, чего-то ища, какого-то единогласия чувств. Но все молчали. Только глупо таращились по сторонам.
Я стал расспрашивать. Но мне отвечали лениво, как бы невпопад, как бы давая понять: детали не важны, настолько ужасен сам факт.
Потом мы уехали к себе в «ква́ртал», ходили по дворам, собирали всех. Всем сообщали новость. Какое-то время ходили скопом, потом рассыпа́лись. Так до ночи. Все были серьёзные, никто не зубоскалил и не балаболил без дела как обычно. Ходили по улицам. Иногда присаживались на скамейки. Ночью стали петь. Что-то спел Руднев. Потом отдал гитару мне. Я знал, что надо спеть. «Закрой за мной дверь, я ухожу». Никто не подпевал. Как будто это было моё личное высказывание и меня внимательно, с долей недоверчивости выслушали.
На другой день в одной из газет напечатали статью под заголовком: «Закрой за мной дверь, я ухожу». Несколько ребят пришли ко мне домой. Андрей сказал то, что расстроило меня и возбудило надмение в душе над Андреем.
– А Игорь был прав! – сказал он.
Как будто и так не понятно, что я прав. Как будто правоту мою должна подтвердить какая-то глупая газета. Венчук всегда был мне мил, паче всего за искренность. Но иногда он глупил как-то уж совсем по-детски.
Мы и другой день весь промолчали.
2.2. Перед колхозом
2.2.1. В институте
В пятницу 17-го было собрание в институте. В фойе вывесили списки групп. Мы с Шигарёвым оказались в восьмой, Вестницкий – в шестой. Нас разлучили из-за языка – Тимоха «немец», мы с Мишкой – «англичане».
Было странно видеть фамилии наших одногруппников, не зная и не видя их. Да и фамилии-то странные: «Берман», «Кузикян», «Сигута», «Фурсанова», «Полозняк». Кроме нас в восьмой мы насчитали пять парней.
Тематика собрания складывалась из напутствия перед учёбой и напутствия перед колхозом. Учёба, как уже предуведомили на выпускном диджеи, ожидала нас «трудная, но интересная». «Врач – это гордо, ответственно» и подобное. Лентяи долго не задержатся. Что до колхоза, то колхоз – дело не менее важное, ибо дело «советское», «коллективное», «объединяющее» и «трудовое», а следовательно – необходимое, и всяких отлынивальщиков мы не потерпим. Не забудьте сапоги резиновые взять и перчатки, чтоб на картофельном поле быть как родным.
Меня занимали не столько речи оратора, сколько мои однокурсники. Слушали они внимательно, были серьёзны. Кажется, большинство из них пришли сюда учиться, и учиться насмерть. Здесь я не увидел Андреев Венчуков, сидящих за партой только чтобы похахалиться над глупым учителем и смешным однокашником. Это было мне мало понятно – почему-то я думал об учёбе менее всего. Наверное, приоритетом моим являлось самоопределение, хотелось искать дружбы и любви. Мысль о колхозе пугала почти так же, как мысль об армии, но тут же являлось смягчающее тревогу рассуждение, что вокруг меня сидят такие же, в сущности, как я – не вояки. Плюс ещё – половина девчонок.
Кстати, о девчонках. Дина выключилась из моей жизни. И мне следовало искать новую любовь. Собрание проходило в 1-й, греческой, циркообразной, аудитории. Мы взобрались на самый верх, к окнам. В окна било августовское, тёплое, схоронившее Цоя солнце, и в его токе я рассматривал девушек. Усмотрел одну, и сердце сразу же подшепнуло, что она ему – сердцу – мила. Лицо бледно-нестандартное, блондинно-кудрявое. Умеренно-худая и как будто вся скрытно несуразная. Движения не такие, какие должны быть у «обычных» людей. Походка мелкая, немного уткнутая в асфальт. По моему лицу – вскользь, равнодушно. При выходе с собрания, мы с Вестницким и Шигарёвым разминулись. И я стал преследовать странную девушку. Издали. Она надела загадочный берет, ростом слегка поднималась над толпой, поэтому как объект преследования являла собой нечто почти идеальное. Я сел с ней в один автобус и, стоя в давке, то и дело поглядывал на неё. Девушка смотрела в окно. Лицо отстранённое – своими светлыми кудрями она бросала вызов серому миру и была в нём неуместна, что твой зверик в зоопарке. Необычность девушки меня одновременно и притягивала, и отталкивала. Мы вышли на одной остановке, на Попова. Я подивился: девушка живёт в моих краях! Своим ссутулившимся, суетливым шагом она направилась куда-то в сторону дома Иры Никитенко. Я постоял-посмотрел ей вслед. Погоня меня утомила, я опасался, что меня рассекретят и решил отправиться своей дорогой домой. Нужно было кого-то любить, но опыт наблюдения за необыкновенной блондинкой резюмировал для моей жадно-ищущей души то, что странного и отталкивающего в девушке всё-таки больше, чем привлекательного. Тем более, подумал я, мы наверняка ещё повстречаемся в институте.
2.2.2. В гости к Юльке
В воскресенье мы всей нашей парневой компанией собрались у меня дома. С вином. А то ли днём, то ли ранним ве́черком нас ждала девчоночья половина компании у Юльки Юсуповой, там, где я неподалёку некоторое время назад сидел на чердаке в ожидании смерти Цоя.
Не знаю, почему дома не было родителей и не было Вадима. Где пропадал Вадим в ту пору для меня ныне загадка, а родители вероятнее всего трудились на огородных грядках в Оголино.
Мы, что называется, нажрались. Полгода назад, потребляя пиво в Шугином подвале, устремляясь к девчонкам, мы, тем не менее, были осторожны: шли тихими стопами, лишь чуть хрумкая полуталым золотом снега, являя предупредительность, гася бравурность. А тут, конечно, вышло безобразие. Девчонки ведь ещё тогда, после выпускного, поняли, что мы дурные: вот ведь, приехали и напились. Но ни нас, ни девчонок ничему это не научило. Дурни напились снова. И вышла теперь другая гадость.
День-то стоял гладкий, светло-ещё-коммунистический, пили мы то ли водку, то ли креплёное вино, выглядывали из моего окна, курили внаружу, кричали, были едва ли не эйфорично-буйны. Я же был понуждаем волной. Хотя и видел, что волна даёт некий ненужный, неоправданный завихрень. Существовала какая-то неслитность в белом свете и в нашей глупой пьяности. Мы даже и не пели ничего, не говорили, только сумбурно выкрикивали что-то друг другу в лицо.
Потом поехали к девчонкам. Светлым днём. Мы и моя гитара. Пришли на остановку «Прокопьевская». Туда как раз подоспел жёлтый «икарус», импортно-коммунистический автобус, длинный, с чёрной гармошкой посередине. «Первый» маршрут. Тогда он гнул свою гармонь, поворачивая в узкую улицу Буклянова между проспектами Фрунзе и Строителей. У Южного магазина в автобус подсела компания взрослых (взрослее нас) ребят – возможно, они были «наши» же, из «ква́ртала», а возможно и нет. Но они умели драться. Я понял – когда уже началась драка – что они увидели, что мы пьяны и нарушаем покой трезвых граждан. Хотя, я помню, мы вели себя относительно тихо. Началось как-то и внезапно, и, в то же время, исподволь. Я сидел на кресле, возле гармошки, справа – нейтрально – то ли гражданин, то ли гражданка. Автобус не переполнен, но и далеко не пуст. Вдруг я увидел, что рослые, крепкие, стройные, единодушные парни бьют Юрика, Венчука и Шугу. Шуга закрывается от ударов моей гитарой. Бьют по гитаре. Ногами. Меня не трогали, возможно потому, что я был тих, неприметен и слился с трезвыми гражданами на креслах. С ужасом я видел, как ловко не то «афганцы», не то подражатели «афганцам» искусно молотят Юрика и Шугу. Шуга сгибается, Юрик закрывает лицо.
У меня только мелькнула мысль: это возмездие за нашу неуместность. Нашу развязность и выпендрёж. Нам указывают на наше место. И тут далеко не разборка «черёмушек» с «кварталом». А это такая как бы добровольная милиция. И им хорошо: с одной стороны, они размяли свои вандаммовы гнучие ноги, с другой – навели общественный порядок: вытолкали пьяных безобразников из автобуса. И нас правда вытолкали. Поскольку мы и действительно были пьяны, ловкие удары нам оказались нипочём, но было обидно. Сейчас на той остановке – мечеть, а тогда мечети не существовало, имелась только мамина работа «на курьих ножках»; называлась мамина тогдашняя работа «ВНИПИ АСУ легпром». И мы вывалились из автобуса: кого выпнули, кто сам выбежал. Тут Шуга совершил и вовсе растрёпанную штуку. Будучи вытолкан, удержавшись на ногах, он осмотрелся вокруг, увидел деревянную скамейку-диван, там же, на остановке, ухватил гитару за конец грифа и с молодецкого, раздражённого размаха обрушил инструмент о спинку лавки. Барабан смялся и частично отлетел. Гитара умерла. Не помню: возмущался ли я тогда? Вряд ли. Каждый из нас пребывал в унижении, расстройстве чувств и смущён ситуацией. Всем было дрянно. Поэтому Шугин жест, хоть и являл собой бессильную глупость, ни в ком не вызвал ни возмущения, ни даже обычного для нас Венчукового смеха.
Выкурили по сигарете. Горечь не ушла, но мы и немного протрезвели, и слегка успокоились. Сели на другой транспорт и продолжили путь к девчонкам. Уже без гитары, охлаждённые и угрюмые. Такими к ним и явились. Пьяные, расстроенные и невнятные. Если бы мы были только лишь расстроены и невнятны, девчонки бы развеселили и успокоили нас. Но мы были пьяны, и девчонки огорчились больше нашего – и это строго ощущалось. Как будто: да сколько же можно! опять они явились пьяные! Грустила Ирка Никитенко, грустила Юлька. Мы, набыченные, ходили из комнаты в комнату по квартире Юльки, девчонки помалкивали. Это не было так же страшно и уродливо, как тогда, когда Ира убежала от нашего сквернословия из зимнего леса, но я видел: девчонки разочарованы и недовольны нами.
Но потом как-то растеплилось. Бессловесное прощение, слово-за-слово смирение. Нашлась гитара – в то время же гитары оказывались везде куда ни сморкнись. Димка Васин гитару взял и вдруг показал как раз армейскую, афганскую: щипок-перебор (я только морщился от Диминой манеры настаивать на E7 вместо E, что уменьшало благозвучность, хотя и создавало претензию самобытности) (не могу вспомнить первого куплета, только второй и третий):
«Надоел мне полумрак казарм, я не знаю, что делать с ним
Мне б прижаться к твоим губам, заглянуть в глаза твои
А с деревьев листва летит, словно быстрый ночной десант
Этой ночью опять не спит и грустит о тебе солдат».
И припев (здесь устранялась первая струна, что делало посыл песни более трагическим и менее напевным; строгим, основательным):
«Напиши мне, что ночь темна,
и что устала ты слушать ДОЖДЬ
Напиши мне, что ты одна,
Напиши мне, что очень ждёшшш
Любишь и ждёшь».
Васин зачаровал. Звучало по-цоевски, но плюс к тому с русско-подростковой, армейской тоской. Я схватился передирать. Ну а Венчук, конечно, сразу придумал: «Этой ночью опять не спит и грустит о тебе космонавт». Всё возвратилось в обычный режим. Возобновились хи-хи ха-ха, громыхания Шигарёва, щебетание Ирки-Юльки. Афганский солдат примирил нас.
Мы долго оставались пьяными. Нам не нужно было «догоняться» и подобное.
Тут вышла странность. Расставаясь (мы же завтра ехали в колхоз) я испросил у Юли что-нибудь на память, и она дала мне красную, махровую резинку-волосодержательницу, компонующую конский женский хвост. Я увенчал ею своё запястье и в ночном троллейбусе любовался на приобретение. Шигарев осудил меня:
– Зачем тебе?
Я сморщил по-акульи губы:
– Не знаю. Нравится. Пусть будет.
Шуга скривился и отвернулся от меня, мол, что опять за глупость инфантильная?!
А я ехал. В институтский колхоз. И на моём запястье – некий красный женский причандал от девушки, которая мне совершенно безразлична. Красиво. Загадочно. То, что надо.
2.3. Колхоз
2.3.1. Отправление
На другой день мы втроём, с рюкзачками, в сопровождении Стеблова, Васина и Венчука явились в институт. Было серо, почти дождливо, промозгло. Народу кишело. Опять меня прострелило ощущение, что это какие-то другие люди – уже не школьники, но и не взрослые – какой-то странный, небывалый тип людей – чуждые, самоуверенные, чрезвычайно умные, горделивые, каждый с запасом взрыва в сердце и каждый почему-то знает, что делает.
Нас собрали сначала во второй аудитории – не той, что амфитеатром, а плоско-вздымающейся, на четвёртом этаже. Повстречали того парня, что на вступительных экзаменах прятал учебник-шпаргалку в штанах на заду. Шуге он почему-то полюбился с первого взгляда, и теперь они радостно разговорились. Кто в какой группе. Мы в восьмой, Тимоха в шестой, а этот парень – в 12-й. Досада. Эх. Вместе бы поехать. Со сцены прозвучали некие окончательные инструкции, какие группы в какой городок, утрите нос, нас ждёт важная картошка, и после вся толпа вывалила наружу. Подъезжали автобусы развозить студентов по малым городам и небольшим весям. Тында. Нас, 7-ю и 8-ю группы, везут в Тынду. А 6-ю (где Тимоха) – в Верхний Прокопьевск. Но как в этой галдящей, рассеянно глядящей по сторонам толпище определить, кто тут из 8-й группы?.. Нашёлся Юрик. Он начертал мелом на сером, матерчатом футляре моей гитары цифру «8» и поднял над толпой. [Тут автоматически следуют два недоумения: откуда гитара, и откуда мел? Шуга же разбил накануне мою гитару о скамейку, – откуда новая? Рожаю что ли я гитары эти? А Юрик? Он что – мел в кармане всю жизнь носит? – не могу понять. Но факт жёсток: нашлись и мел, и гитара.] Стали подходить. Неохотно, неуверенно, оглядываючись, потерянно. Чуть-чуть в сторонке стройная, в тёмно-малиновой курточке, лицо маленькое, круглое, гармоничное, взгляд внутрь, мягко-тёмная, «не такая как все». Маринка Постнова, конечно. Вот кого теперь любить надо. (А та, из 1-й аудитории, забыта, естественно, мгновенно. Ибо жизнь не свела. Тут лучше.) Другие. Главное – парень в теле, невысокий, тонкоорлиноносый, с белёсым взглядом, озирающийся неприкаянно чаще и больше всех, но при этом в почти белой, вытертой брезентовой штормовке с алой, звездообразной расчёркнутой надписью «АлисА» на груди и на спине. Вовчик Пермяков. Юрик спросил его:
– По «Алисе» фанатеешь?
– Да, – ответил Вовчик как-то странно. Нелепо осторожно, с оглядкой, но и с вызовом. Мне показалось странным сочетание этого алого алисова фанатства с налётом осторожности и неуверенности на всём Вовчике.
Подходили, подходили. Мялись. Наш выпендрёж с гитарой и цифрой «8» на гитаре с виду ни в ком не вызвал одухотворённости и здравого ажиотажа. Просто грудились вкруг нас и гитары.
Подъехал наш автобус. Мы с Шугой сели рядом слева. Тронулись. А Венчук, Васин и Юрик рванули бегом за нами. Махали нам. Нагнали на Октября, когда автобус притормозил перед пешеходным переходом. Все в автобусе поглядывали на нас с Шигарёвым. С какими-то странными полуулыбками, мол, ничего себе – какие друзья у этих, преданные. Но было что-то в этих полуулыбках и презрительное, как будто: вон, смотри, инфантилы едут, и компания дураков их провожает. Автобус дёрнул. Друзья остались назади, в городе, на Октября. И неудобство отлегло-улеглось-забылось искусственно.
Ехали молча. Переговаривались каждый только с соседом, тихо. Отдельно, одинок, ехал наш колхозный руководитель, третьекурсник. С виду – образцово-показательный Студент. В очках. Лицо и выражение лица практически неотличимо от эталонного советского студента Шурика из Гайдайских фильмов. Ехал тоже молча.
Автобус, в котором помещалась 6-я группа, вдруг изломался где-то под Укромском. Наш водитель остановился и отправился помогать тому водителю. Мы с Шигарёвым вышли курить. Сошлись с Вестницким. В его группе оказался как раз тот долговязый, белобрысый парень, что как-то прошлой зимой приходил в толпе «Никитенкинских друзей» к Никитенко.
– Как он? – спросил Шигарёв, делая свою ощутимую, смачную, жизненную (уже, кажется, фирменную его) затяжку во всю грудь.
– Да вроде нормальный, – пожал плечами наполеонски наблюдая за всем вокруг происходящим маленький Вестницкий.
Это немного разочаровывало. Хотелось по-прежнему видеть во всех инородных «Никитенкинских друзьях» если не врагов, то по крайней мере – «нехороших» людей, ибо мы лучше.
Автобус наладили. Тронулись дальше. Я скользил глазами. Девчонки. Несколько парней за нами (четверо) – как будто гопники с виду, сидят развалясь, взгляды насмешливые, глумливые: мы жизнь знаем; и видим всех насквозь. Расстроило и насторожило. Неприятно. Зачем гопники в институте?
Приехали в Тынду – посёлок городского типа (впрочем, может быть, городок сельского типа) на берегу довольно широкой речки Поломь. Деревянные домишки. Немного заблудились. Остановились на деревенской площади, водитель пошёл спрашивать. Пауза. Руководитель-студент встал с бравым вздохом, выпрыгнул наружу из двери залихватски с гимнастической опорой на поручни обеими руками, раскачавшись. В этом движении было: «ну вот, ребята, приехали; сейчас где-нибудь тут устроимся; но пока посидите немножечко, заминка; а так мы всё равно тут главные, – кто круче и лучше нас?» Водитель скоро вернулся. Студент запрыгнул обратно. Водитель уверенно хряпнул дымным рычагом. Ещё раз. Завернул. Немного назад. Привёз. К нашему бараку.
2.3.2. Барак. Знакомство
Мы всыпались в барак, наше теперь жильё. Большое пространство с кроватями слева для девчонок, такое же пространство – справа, для парней. Посередине – коридор с печкой, в тупике, очевидно, туалеты (впрочем, не помню; не помню, чтобы я мочился и испражнялся в то время – какое-то гипертрофированно «святое» время было для меня). Четвёрка гопников фыркнула и мгновенно пошла искать избушку под съём. Стало быть, у них были деньги. «Приблатованные ребята», – сказал о них Шигарёв. Я понял эту формулировку так, что это были даже не «гопники», а наоборот – «мажоры» (это слово я услышал и узнал гораздо позже), то есть такие люди, которым состоятельные не по-коммунистически (а может быть как раз наоборот – именно по-коммунистически) родители купили место в институте и теперь они тут что в 90-х стало называться «кидают пальцы».
Меня же в тот период жизни обуяла-скрутила-поглотила романтика. Я поныне с трудом понимаю данное слово. Вероятно, смысл его помешан главным образом с любовною болезнью. И это, конечно, так. Но в то время для меня романтика ассоциировалась скорее с бунтом и показательным (для самоутверждения) сумасшествием. Я сразу же ушёл к реке. Поломи. И пел-проговаривал почти вслух битлов, для анестезии чувств. Я вышел по тропинке к реке сквозь в рост меня тростник, с рыбацкой, сапожной грязью на самых подступах к воде. Постоял у воды, невидимый в тростнике. Обилие новых знакомых представлялось пугающим, почти враждебным. Тростник немного прятал, но я понимал, что это глупо, – так нельзя преодолевать ужас социума. Однако я выдыхал. Влезла в голову If I Fell – третья песня с альбома A Hard Day`s Night. Я пел-проговаривал:
If I fell in love with you
Would you promise to be true
And help me understand…
(Если я погружусь/упаду в любовь с тобой, обещаешь ли ты быть верной и поможешь мне понять…) Дальше переводить было лень. Поломь почти не текла, была как пруд. Рассолнечилось, стало вечерне, тут, в эскапистских, инфантильных тростниках. Может быть, я в тот унылый момент впервые более или менее серьёзно задумался о переводе песен «Битлз». Но меня хватило только на три эти строчки. И до сих пор лениво (я с трудом, только по наитию, понимаю, о чём пели битлы). Я ждал, когда мелодия соскочит в это монотонно-тягучее, слишком для меня высокое:
If I give my heart to you…
Тут аккорды идут на баррэ, выше и выше, через лад: си-минор – ре-бемоль-минор – ми-бемоль-минор. Я думал: если придётся петь эту песню перед однокурсниками, новыми друзьями, это будет тускло, я не вытяну. Так же, как не вытягиваю Yesterday. Подумал об этом и расслабился: сейчас я пою для себя, это просто моя песня, – песня, утверждающая красоту, а, стало быть, то, что поднимет меня над суетностью людских недомолвок, людского презрения, людского страха. Ушёл из тростнииков.
Перед входом в барак был Шуга. Сказал: пойдём прогуляемся. И мы пошли.
Пошли к фермам. В тихом золоте деревенского заката. Курили.
Шуга заговорил доверительно. Я вдруг с удивлением осознал: Шигарёв хочет (по крайней мере, закидывает удочку), чтобы мы стали друзьями… А ведь мы никогда не были друзьями. Моими друзьями были Вестницкий и Венчук. А Шигарёв так… Скорее, как и Юрик Стеблов, он больше надмевался надо мной, посмеивался над моим вот этим как раз глупым тяготением к «романтике» и подобным.
Шигарёв заговорил о сексе почему-то.
– Игорь, а ты знаешь, что во время секса у мужчины вырабатывается огромное количество энергии? – гремел он как всегда своим знойным, сигаретным басом, но бас при этом умеривал, – умеривал из-за заката, из-за колхоза и из-за того, что вдруг как будто предложил мне подружиться.
Я ничего толком не знал про секс. И Шуга огорошил меня этим своим сообщением про «энергию». Мы остановились у фермы.
– Давай постоим, – сказал Шуга.
И мы стояли какое-то время. В закате. Достали наши трубки, набили их табаком «Моряк» деда Сени. И стали курить. Я поразился: когда прикуриваешь трубку, пламя спички тягой всоса послушно устремляется вниз, как по волшебству! Оно, неестественное, ушедшее вниз, поедает серо-зелёные махрушки табака, и трубка оживает дымом. Я понимал: вся эта трубочная забава не делает нас взрослее и круче, да и «романтичнее» – тоже, но сигарет действительно в ту пору почти не было – мы нашли выход; и даже это наше курение трубок делало нас «практичными», находчивыми ребятами. Так мы потихоньку, поступательно продвигались к загадочному сексу с девушками. (Требующему столь загадочно столь много от мужчины энергии.)
Потом был вечер. Девчонки пригласили нас в их половину барака «знакомиться». Студент как будто бы командовал процессом. Он был ухмыльняльный, совсем чуть-чуть нас взрослее и вроде бы «свой». (И мы, конечно же, в нём нуждались. Именно в таком студенте и именно в такой мере.) Мы, в парневой половине, даже уже познакомились и повеселились с ним: сказали ему: «скажи что-нибудь по-латыни», и он ответил: «мускулюс леватор пенис». Шигарёв грохнул. И другие тоже грохнули. Я (и другие) переспросили: «Как-как?» – Шигарёв ответил, не преставая гоготать: «Мускулюс леватор пенис» – «Мышца, поднимающая член». «Что, есть такая?» – смеясь, поражались мы. «Конечно есть!» – восклицал Студент, зыркая на нас сквозь основательные Шуриковы очки, как будто проверяя сквозь свой иронично-загадочный смех – поведёмся мы, или нет. «Вообще-то нет такой мышцы», – сказал умный, широкий и какой-то сказочный Ванька Магнолев. «Есть! Есть!..» – не утихал грохотать Шуга, потрясая в юморном экстазе кулаком. И все дальше смеялись и переглядывались. Переглядывались, смеясь. Уравновешивали, угармонировали своё понимание юмора и иронии. И стало понятнее, «компанейски» и проще.
Мы сели в круг. Вечером. Зажгли свечи. Пришли и те парни, что сняли себе избушку.
Студент весело распорядился:
– Ну, давайте по-очереди. Каждый скажет чуть-чуть про себя. Меня зовут Саша. Перешёл на третий курс. Живу в третьей общаге. Вот.
Он был улыбчатый, живой, Студент этот…
– Как учится-то? – спросил кто-то из девчонок из круга.
– Да нормально, – прихмыкнул лаконично Студент. – Главное «физо» пройти.
– Что такое «физо»?
– Кафедра нормальной физиологии. Слышали, у технарей: «главное сдать «сопромат»»? А у нас – главное сдать «физо».
– Понятно, – ответил полувесело тот же голос Студенту (наверное, то была Настька Сигута).
– Ну давайте. Давай ты! – сказал студент кому-то одесную себя. – А потом по кругу.
Тот, одесную Студента, послушно сказал в свечном полумраке:
– Меня зовут Антон. Я живу в К… Учился в 20-й школе. Всё.
(Поразительно. Я не думал, что такое возможно! Вот так. Послушно. В свечах. Приятно. Душевно… Знакомство будущих одногруппников.)
– Отлично, – сказал организаторски Студент. – Теперь ты…
– Меня зовут Настя, я из Н… [центр соседней с нами области]. Живу сейчас в первой общаге, – (красавица, конечно; но в такую бы я нипочём не влюбился, не мой уровень. Слишком уж высока, стройно-плотна, гармонична лицом, – Мерилин Монро какая-то).
– Меня зовут Марина. Тоже из Н… . Мы с Настей в одной комнате живём. Познакомились неделю назад, а сейчас не-разлей-вода, – глядит на Настю весело, Настя – на неё. (Маленькая, тоже красивая, но красивая не подиумно, как Настя, а приземлённо, домашне, пирогово; но и затейливо, внятно.)