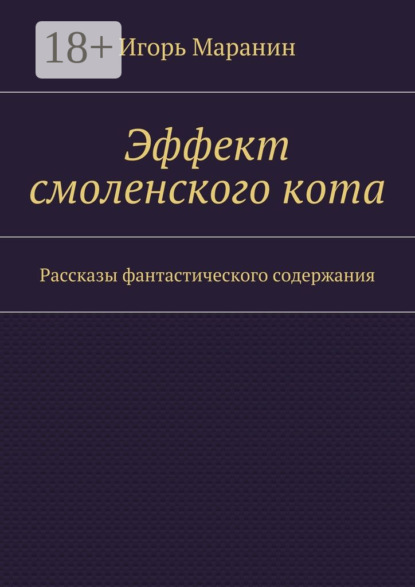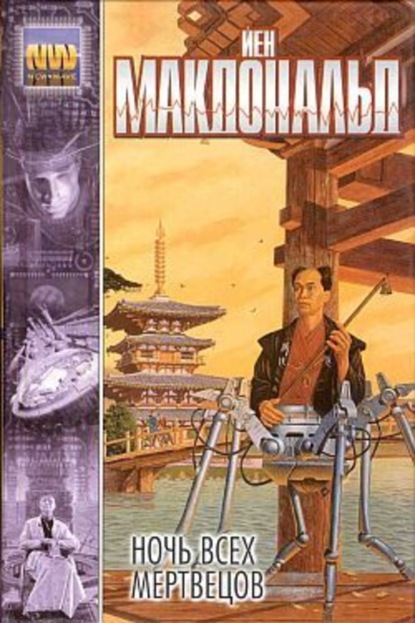- -
- 100%
- +
Ближе к концу и Молодой, и Чек тоже, как и Серж, переселились к нам. На съёмной квартире остался только Большевик (уж и не знаю, ходила ли к нему Настя Сигута). Серж так и просидел до конца на кровати у стенки, гладя котёнка, Саша же Молодой повесил на стену плакат «Мы из Обнинска» – и я так и видел в этой мощной фразе «Мы из Черёмушек» или «Мы из ква́ртала». Всё подобное как-то плохо сочеталось с представлением о предстоящем обучении, направленном на то, чтобы данным гопникам сделаться через шесть лет «людьми в белых халатах». Кульминацией этой хулиганской колхозной скуки стал эпизод, когда Саша Молодой как-то вечером уселся в коридоре у печки и в философском вычурном молчании начал надувать презерватив, периодически сдувая его с характерным вызывающим звуком и надувая вновь, демонстрируя, очевидно, презрение к нашим чистым дамам, которые не только местным, но и нам, «своим» «давать» не хотят.
В некий момент Серж-москвич заболел, и Маринка Постнова принесла ему кружку целебного снадобья, состоящего, как я понял, из молока, мёда, масла и соды. Состав этот Маринка влекла в тонкой своей ладони, неторопливо помешивая ложечкой и беззвучно, в своей манере, хихикая. Но и гордо, как та, что уже не игрушечный, а настоящий доктор, которая «знает, как». Серж, оторвав руки от котёнка, благожелательно принял целебное средство из рук Маринки и испил. Я завидовал ему. Впрочем, всё это было в единой общей волне, без особых частных предпочтений… Один барак, один котёнок, одна кружка с снадобьём, один надутый презерватив.
2.3.8. Льносушилка
Итак, льносушилка. Так я и просидел на ней весь колхоз, проработал. Мне было доверено среднее положение. (Как и всегда, – как тому, кто учится на «четвёрки».) Антон Юханов, сын хирурга, кидал уродливо-поломанное сено льняное на гусеницы льносушильного эскалатора, мы же с Шугой в двух сторон это, Антошкой набросанное, разравнивали. Ваня Магнолев в конце принимал, выполняя уж и не знаю какую иную сельскохозяйственную функцию. Нам, по крайней мере, с Шугой было привольно. Чаще всего мы просто созерцали, куря. Либо курили, созерцая. Иногда я задумывался над конструкцией, целью и целесообразностью машины, которую обслуживаю. Мысли мои сходились на том, что конструкция проста, жизнедеятельна и вполне производительна; цель хоть и невелика, но вполне значима; а вот целесообразность, учитывая Колину хитрость, малозначительность вообще Тынды в размерах Земли, а главное необъяснимую для простого меня запустелость продуктовых магазинов – высоко сомнительна. Тем не менее, я – тут. Продукт вселенной внутри некоего объекта вселенной.
Так и сидел на подоконнике льносушилки (там же были окна), наблюдая движение куч стеблей льна на резиновом эскалаторе мимо меня, подвергаемых шумному воздействию восходящих потоков сельскохозяйственного воздуха. Час за часом. Мартину Идену в прачечной во имя писательских подвигов и во имя Руфи, несомненно было много тяжелее. Окна в льносушилке скудные, сумрачные, продолговато-замызганные, но и вынужденные, колхозные, а стало быть отчасти родные.
В некий момент в моих руках оказался кусок газеты, а там – тест (в те времена – очаровательное новшество). Бросился в глаза пункт:
«Как бы вы предпочли заниматься сексом:
А. В Темноте.
Б. При свете дня.
В. При свечах?»
Я, глупый, отупевший от неразделённой любви, но гордый подросток воспротивился разумом: «А почему бы не при свете звёзд, костра, бенгальских огней, фейерверков, свете заката или зари?» В сей момент я чувствовал себя философом, презревшим мир, его праздную надменность и при том его бесконечную тупость, тупость, ограниченность. В то же время я ощущал себя подчинённым его законам: секс – это то, чем располагает мир, то, что он раздаёт избранным своим за некое подобострастное, на-четвереньках-ползающее нащупывание этих-самых пошлых мирских благ. Подобного рода осознание одновременно и возмущало, и восскорбляло, отуманивало меня, делало угрюмым и даже каким-то гнилым, – во всяком случае, нелюдимым. Мне было странно: ну хорошо, я два года тосковал по Дине чёрною тоскою, в то время как Юрик и Бармакан её любовью вполне-себе пользовались; теперь: я «думаю» (вот оно, слово-то!) о Маринке, а тут – р-р-раз – какой-то там байкер приматывает к нам в колхоз на байке своём и притопывает по асфальту крутым чёрным ботинком своим. А я, как дурак, читаю тут, на боку льносушилки тест про секс. И надменно иронизирую насчёт интимного освещения.
Потом, дня за два, а то и за день до нашего домой отъезда пришла и сама Маринка. К нам, на льносушилку. Пришла прямо ко мне. Села рядом на подоконник. В то время я не думал об этом, а сейчас вот думаю: когда Дина приходила ко мне – тогда, в биологическом классе, с этой её рукой, глушащей мои струны, или в сумрачной, оппозиционной дискотечной рекреации, или в недавнем совсем марте, в солнце и капающем одновременно с капелью «Камуфляже» – я окунался в волшебство жизни, её пряность и издевательство. А тут – пришла Маринка, пришла и села, рядом. Завела разговор. И я отвечал ей. И в этом почти не было волшебства, а была какая-то нуждающаяся в ошлифовке странность. Но я и эту странную вещь почитал любовью в душе своей. Мы говорили с Маринкой. Как будто бы о жизни, о простой и понятной жизни. Почему-то о Студенте Саше. Марина сказала мне вдруг, «без заморозки» (хотя, думаю, уже знала, что я и нежен, и возвышен), что Студент «г…о». Я смотрел на Маринку, молчал, давал высказаться. У Студента в 3-й общаге жена беременная, а он тут шашни конкретные крутит с кем-то из девчонок. Слово «г…о» из уст круглолицей, худой, загадочной, на глаза мягкой, продолговатой и красивой Маринки звучало неожиданно. Впрочем (я догадывался), – лишь для меня, романтического «вожделетеля» всякой мною придуманной загадочности. Поняв, что Маринка способна произносить подобное слово и отнюдь даже не гнушается этим, я смирился мгновенно, придав Маринкиному волшебству вместо золотых бронзовые оттенки, что практически не принижало её. Другое дело – я не понимал, за что бедолагу-Сашу так строго судят. По мне, Саша был не хуже, а, пожалуй, даже и лучше многих, – тех же, к примеру, Чека и Молодого, для которых развлечение с «тёлками» суть вопрос незначительный, приравниваемый к тому, чтобы, скажем, «дерябнуть стаканчик» или даже «в киношку сходить». Для максималистической же Маринки выходило, что принцип определения «г…а» в том, что раз уж ты «назвался груздем, то полезай в кузов», а таких, как Чек или Молодой «г…ом» нарекать не стоит, ибо они изначально «груздями себя не называли». Всё это казалось мне странным, но Маринке я ничего из сих соображений своих не озвучил. Потому что и сам толком не знал, в чём тут подвох…
О самой же Маринке (странная вещь!) у меня впервые составился тогда суд. Я не судил Венчука, Шахова, Дину, Вестницкого, Шигарёва или кого-то ещё из своих старых или новых друзей и знакомых, но то, что сказала тогда о Саше-Студенте Маринка, вдруг резануло меня. Подвигло к суду. Я думаю, так случилось оттого, что я воздвиг Маринку в богиню вместо Дины, а Маринка – глядь! – и вдруг повела себя недостойно богини, – слишком как-то деревянно, не философски, не вдумчиво. И при этом я не перестал её любить, она не опротивела мне. Из обнажённой богини она сделалась богиней как будто бы в багрянице. Оставив обнажёнными ноги и руки, кисти рук, с изящно, вычурно выстроенными пальцами.
Коля, начальник льносушилки, пока мы как будто работали, существовал всё время где-то рядом. Иногда подходил к кому-то из нас, бедолаг, покурить. Не видно было, что он так или иначе превозносился перед нами. Я, почему-то равняя Колю с Шуриком (нашим школьным баскетбольным тренером), вздумал называть его «дядя Коля», но он взбрыкнул и выговорил мне как-то специфически деревенско-откровенно, что, мол, он вряд ли по возрасту равен брату моего отца (ему, думаю, было лет 28). Я задумался. Чем определяется уважение и уважительное обращение на нашей маленькой и большой родине к людям в той или иной мере старше нас?
Вообще дядя Коля (продолжу из упрямства так его называть) был человеком простым, что называется «деревенским», в лучшем его «городском» смысле, то есть таким «деревенским», что и иной «городской» позавидует. Точнее так: дядя Коля был настолько в высшем смысле деревенский, что почти не отличался от городского (хотя-таки отличие это было и явно заметно). Шуга проникся к дяде Коле. Шуга вообще никогда не делил людей по поверхностям, – он смотрел «в корень» человека. Не казалось также, что и дядя Коля в некоторой мере старался изобразить перед нами «городского», – он, повторяю, был прост. Однажды, когда мы впятером собрались покурить на моём фланге льносушилки и заговорили вообще о различных местах нашего в данном месте Земли житья-бытья, дядя Коля рассказал «древний» с его точки зрения «анекдот» про города, выстроенные чуть севернее нас вдоль Волги: Кинешма, Решма и Наволоки. Рассказ дяди Коли был таков: идут по высокому берегу Волги против течения парень и девушка; идут, идут; и вот парень предлагает девушке понятно что. Девушка говорит: «Режь меня!» («Решма»), мол, «ни за что!». Идут дальше. Парень дальше настаивает. Девушка сомневается и выражает сомнение своё: «Кинешь меня!» («Кинешма»). Идут дальше. Парень снова за своё. И тут девушка восклицает: «На, волоки!» («Наволоки»). На этом месте рассказа все смеются. Шигарёв наиболее разливисто, вняв и оценив. Все, впрочем, вняли и оценили. Но Антошка пронизает смех осторожно сквозь зубы; Ваня кривит вправо рот и смеётся только глазами. Я же смеюсь со всеми, но не знаю, куда следует в данном случае деть и направить уголки губ и уголки глаз: дело почему-то не вполне простое! – иначе и Шигарёв, и Юханов, и Магнолев смеялись бы одинаково, – но их смех, я вижу, различен. Что-то здесь однозначно (несмотря на всю простоту) не вполне просто. И непростоту сию создаёт многое что: и деревенская эта былинность (преподносимая, как ни крути, а деревенским «дядей Колей», – перед нами-то, медицинскими абитуриентами!), и недостоверность (хотя и этимологически вроде бы внятную), а главное, опять же, – то, что девственники мы, дядь Коль, сколько б нам над этим вопросом ни глумиться и как его ни утаивать.
Спустя какое-то время, оттащив в сторону при нас изрядно мешков, дядя Коля задаёт нам праведный (едва ли не церковный) вопрос: а чем бы ему нас этак утешить-приветить за труды наши? – Мы этак прагматично: а баню бы нам! – Не вопрос! – деревенско молвит Коля. И мы на другой день идём. Впрочем, дядя Коля просит, чтоб мы взрыхлили за его этот дар пару его огородных грядок. Мы не обижаемся нисколечки и взрыхливаем. И баня нам предоставляется! У Коли преизрядный, как мы видим, по площади, огород, обширная баня, просторный сельский дом, молчаливая (в присутствии нас, по крайней мере) красавица(естественно)-жена, и мы видим: дядя Коля жизнью доволен, дядя Коля жизнь знает, дядя Коля хоть и не венец мира, но загривок его – однозначно!
И нам приятно в его хоромах. Потому что ему приятно! У Чичикова и Манилова по школьной литературной программе было что-то такое, но мы не думаем об этом. Нам просто приятно, что мы вымыты, пригреты и даже в покои великолепного невесть как восставшего из пепла советского кулака введены. Я задаю вопрос: что за рыба у них в Поломи, и как они тут её ловят? Дядя Коля отвечает с интонациями хозяина Поломи, но всё же слегка расплывчато. Угадывается, что он не столько рыбак, сколько покупатель пойманной в Поломи рыбы. Унюхав, я теряю в этом смысле к дяде Коле всяческий интерес.
После трапезы нас потчуют карточными фокусами. Один из фокусов я запомнил и даже нередко в последующей жизни демонстрировал. Это было так: фокусничающий (дядя Коля) протягивает фокусируемому (мне, или Шигарёву, или Магнолеву, или Юханову, я не помню, кому он действительно её протянул) колоду и предлагает вытянуть карту, взглянуть на неё внимательно и утаить. Далее великий тындинский престидижитатор трижды в чрезвычайно беглом темпе перекладывает в открытую одну за другой карты и называет упрятанную безошибочно. Мы молим о рассекречивании фокуса. Оказывается, просто: при первом просмотре колоды дядя Коля тупо считает чёрную масть; если результат счёта 18 – ясно, что карта извлечена красная, если же – 17, понятно – чёрная. При втором просмотре считается одна из чёрных (либо красных) мастей, скажем, – крести (трефы, конечно, – если читатель мой картёжник, то он, если я не сделаю сего уточнения, презрит меня, как если бы я в присутствии шахматиста назвал «слона» «офицером»). По предыдущему принципу вычисляется правильная (искомая) масть. Третий просмотр осуществляется более внимательно. Ибо темп по-прежнему бегл, а надо вычислить какая из девяти карт-таки отсутствует. Но если фокусник трезв – это не проблема. И – вуаля! У вас на руках король пик (не «виней», конечно!)
«Хм!» – сказал Шигарёв.
«М-м-м», – сказал я
Юханов ничего не сказал, – улыбнулся просто, подняв кусочек верхней губёнки.
Ваня же Магнолев, как ему свойственно, не только ничего не сказал, но даже и не изменился в лице, – лишь комично-иронично переводил взгляд с колоды на фокусника и обратно (впрочем, может быть ударил меня по плечу и сказал радостно: «Ну что, Кацо?! Понял, как фокус делается?!»). Ваня до сей поры для меня в некотором смысле загадка: он настолько же умён, насколько и прост; но при этом почему-то зудит до нестерпимости, чтобы компоненты этой конфигурации поменять местами: настолько же прост, насколько умён!
Что ж, так или иначе, с дядей Колей мы познали, что́ есть тындинское гостеприимство. Сделались омытыми по крайней мере.
2.3.9. Барак. Будни
Колхоз длился две недели. Я, конечно же, не сумею выстроить события (если всю эту бессмысленность возможно именовать «событиями») в строгой хронологии. Вечерами все мы неизменно оказывались в нашем бараке. Злые местные гопники (насытившись, возможно, добродушной Олей Лебедевой) больше не являлись.
Помню лишь мозаично в наших этих колхозных буднях два радикально, казалось бы, противоположно направленных момента: как мы вздружились с Шугой и как рассорились (впрочем, в некотором смысле и то, и то можно по опыту жизни назвать «вздружением»).
Описывая каждый эпизод, предварю его «оттенком».
Оттенок 1. Ит дазнт мэтэ 2
Прибыли вдруг на второй неделе к нам в барак второкурсники. Как, зачем и почему – сложно сказать. Поселились в дальних комнатах. Видимо, в нашем милом бараке были ещё некие «дальние комнаты» – возможно, меньшие по площади, расположенные ближе к туалетам. Туалетов (скорее всего, повторюсь) я в бараке не помню, не помню и этих «дальних комнат». Впрочем, некий кусок памяти толкает в бок, мол, а не в этих ли комнатах Оля Лебедева «спасала» нас от местных на манер истинного Спасителя?
Так во́т. Явились вдруг. Второкурсники. Их было не много. И только, кажется, парни. Стало вдруг в бараке нашем сумбурно, толчееобразно и глумливо. Мы смотрели на них: что с этими людьми сделал институт (в проекции: а вдруг и с нами сделает такое же?). До того перед нами был только Саша Студент с его гайдайскими очками (без осла, впрочем), успевший лишь напиться с гопниками-абитуриентами и стать «г…ом» в глазах моей новой любви. А тут – не ясно кто. Какие-то несуразные, мелкие ростом и лишь говорливо-выпендрёжные.
Вдруг кто-то из них взял гитару и спел депешевую It Doesn`t Matter 2, которую Вестницкий назвал «муммитрольской музыкой», но которую я любил. Я жадно вглядывался в аккорды, которые ставил второкурсник и, хотя видел, что он несуразен и недостоин, но слизывал, слизывал. Много баррэ. Да ещё и на дальних ладах. Ну что ж…
Эпизод 1. Э-э-эх
В некий вечер они пили. Там, вдали, у туалетов. Мы с Шигарёвым, развалясь, как обычно, у печки с нашими ещё не оскудевшими моряцкими трубками, наблюдали. Второкурсники, нам показалось, были шегутные, невнятные и ума в великом нашем институте почему-то не набравшиеся (может, именно поэтому их и сослали в колхоз к первокурсникам?). Кульминацией нашего с Шугой презрительного сомнения оказалось то, как они пили. Это уж нас, что называется, и вовсе расстроило. Наливают они свою водку или свой самогон, как положено в колхозе в кружку, встают (по очереди почему-то) мелкие, толстопузенькие, миллион раз вдыхают-выдыхают, кружки в руках их дрожат, словом – позор! Позор и недостойность. Второй курс!!! Что же это? Как же это?
Мы с Шигарёвым посмотрели друг на друга. И поняли без слов.
Встали. Где-то была некая мелкая заначка, и мы её принесли. Демонстративно. Важно было, чтобы второкурсники продолжали сидеть там, в глубине и лицезрели нас, «зелёных», тут, у печки. Мы с Шигарёвым специально сделали так, как будто у нас это обычно и ничего такого. Розлили. Сидя. Просто. Шмякнулись кружками. Ахнули (э-э-эхнули). Закурили. Трубки. Не глядя даже в сторону туалетов. Лишь, глядя друг на друга, понимающе подухмылёвывались краями губ. Экие мы! И учиться нам не надо. Считай уже третьекурсники, раз этих дрожачеруких сделали!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.