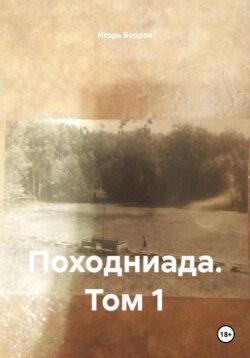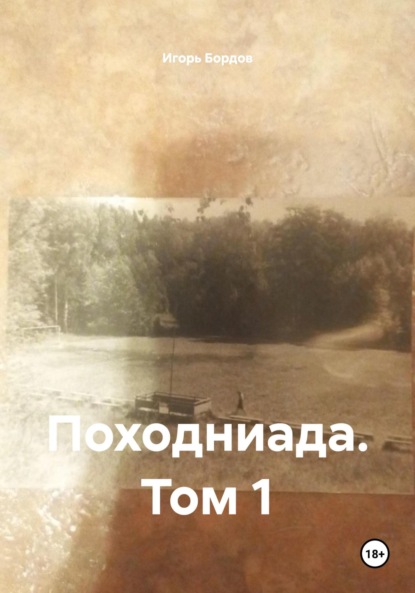Пролог
Хотелось бы многое помнить. Ну, может быть, не всё, но побольше чего-то хорошего. А то память – такая дрянная штука: мечтается ведь забыть кое-какие неприятности, а они сидят в голове подобно ржавым вековечным гвоздям и не сыскать на них гвоздодёра; и, наоборот, знаешь же, что было много весёлого, доброго, красивого, а нет – тихая вода, штиль. И с этим пока приходится смиряться. Пока. До наступления Христова «воссоздания», о чём ещё пророк Исайя предвещал: «плохое больше не вспомнится и не будет тяготить сердце»; ну а память о хорошем, возможно, обновится.
А так, с чего-то вздумалось мне написать мемуарную книгу о всех-то походах, маленьких и больших, куда я за свою 50-летнюю жизнь наслонялся. Тема приятная. В походах ведь часто иной раз переосмысление жизни случается. Это интересно. А ещё же можно всю жизнь провести в одной и той же железобетонной коробке с кроватью, столом, стулом и санузлом, пять раз в неделю ходя в другую бетонную коробку со столом и стулом, но без кровати, и, коли так, – что памяти-то перепадёт?.. Но и то бы хорошо. А ведь глядишь: некоторые, и даже многие, в телефоне всю жизнь прожить умудряются. То ли дело: отправиться в поход! Разлепить глаза на белый свет, поразмять ручки-ножки, да подумать думу у костерочка. О чём, к примеру, подумать?.. О дружбе, о любви, вообще о людях, о земле, о жизни. Успокоиться. Отанализировать и отсинтезировать то, что в бетонных коробках да в телефоне на́жил. Полезно.
Вот и сел я. На стул. За стол. Открыл в телефоне листок бумаги и написал там голым-пальцем-по-кнопкам список. Выяснилось, за 50 лет я побывал в 41-м походе. Впрочем, думается, 5 или 8 совсем уж мелких просто забылись. Не беда. 41 – и так число немалое.
Родили меня в 1973-м. В России, нет, в СССР. В К…, главном городе области. Тут не очень далеко река Волга течёт. Она здесь и от своих болотных истоков уже утекла далеко, а до Каспийского до морю ещё ей течь и течь. Родили меня в роддоме, в двухэтажной краснокирпичной домушке, а ныне тут, спустя 50 лет, наркодиспансер располагается. Такая вот, почему-то, вышла между этими ЛПУ конкуренция; странно; ведь и то, и то каким-то боком к демографии относится. За откровенного пьянчугу ведь замуж не многие пойдут, стало быть, пьянчугу надо вылечить, чтобы больше детей нарожалось, и демографический график в СССР/России вниз не угнулся. Из роддома меня отвезли в пятиэтажную бетонную коробку. Там, в трёхкомнатной квартире на втором этаже, я прожил четверть века. А мои родители и до сих пор там обретаются в холодный сезон. Пятиэтажка эта у риэлтеров и связанного с ними люда зовётся «хрущёвкой». Хотя в 1973-м СССР-ом руководил уже не первый год Брежнев. В 1980-м меня отдали в среднюю школу № 12, что от моего дома в трёх минутах ходьбы. В 1982-м в наш класс зашёл кто-то из школьной администрации и объявил, что Брежнев умер. Я и мои одноклассники на это мелкомысленно взмолчали. Ассоциативно меня отнесло к сцене, где Брежнев что-то невнятное мурломычал с трибуны в телевизоре, а мама сказала каким-то неопределённым тоном: «Совсем сдал…»
Несмотря на нашу с одноклассниками мелкомысленность, в объявлении том нами чувствовалось что-то важно-тревожно-трагичное. Как будто случился некий конец эпохи, и теперь очень сильно неясно, что будет. А какой-такой эпохи? Советский социализм на излёте? – до перестройки, кстати, всего-то 3 года оставалось. Но это про политику. А если вернуться к походам (о чём, собственно, речь)… От папы, когда-то уже в 2000-х, я услышал, что в те 60–70–80-е была «эпоха романтизма» с символикой наподобие «вершины» Высоцкого, незамысловатой, нестройной гитары Визбора, палаток, костров, с мужественной целеустремлённостью в глазах, чтобы куда-то первопроходить и что-то покорять. Поезда, рюкзаки, «Милая моя», «Еду за туманом» и так далее.
Когда закончилась та «эпоха»? Трудно сказать… В 90-х, на фоне всех тогдашних политических катаклизмов, уже, кажется, всё это начинало становиться атавизмом. Во всяком случае, в эру интернета уже мало кого можно было зазвать в пеший или водный поход с длинным маршрутом и несколькими стоянками. Конечно, в узких кругах всё это сохранялось, но чтобы массово-сознательно, настырно, воодушевлённо, как в те годы…. – нет.
Примерно так у меня и вышло. В конце 80-х активисты (о которых речь ниже, надеюсь) в меня заложили любовь к походам, в 90-х мне посчастливилось побывать в шести-семи длинных туристических вылазках, а дальше это были лишь ленивые пикниково-отдыхательные забавы, хотя в начале 2000-х я ещё брыкался, стараясь привить новым друзьям ту же любовь к странствиям, что была привита мне.
А теперь немножко подробнее и по порядку. Строчки в том моём списке пусть станут наименованиями глав. Нет, не глав, историй…
История 1. Речка-вонючка. Май, 1985
Колонна. Фетис. Рекреация. Лошарик. Кипятков. Куриная слепота. Палатка
Это, собственно, был не поход, а как бы его имитация для школьников. Как-то в мае, под занавес учебного года, учителя решили вывести детей в лес, устроить игры, конкурсы: разбивание палаток, разведение костра, мячики. Все четыре 5-х класса («а», «б», «в» и «г») выстроили в змею-колонну у школы и повели в лес. До леса тут на юг всего два квартала. Потом, за двумя большущими горизонтальными металлическими трубами, ограничивающими всю южную окраину города, – густые сосновые посадки, дальше – прогалина, и после, в юго-восточном направлении, в лес приблизительно на километр врезается канава, в народе именуемая «речкой-вонючкой». Вот, вдоль неё наша колонна и пошла.
Странная эта канава. Вода в ней тёмная, запах от неё, не то чтобы смрадный, но какой-то нездоровый, тяжёлый. Окаймлена она дремучими ивовыми кустами и зловещими травами. А лес по обоим бокам – преимущественно сосновый. Хоть «речка» эта и «вонючка», но народ наш к-ский любит вдоль неё прогуливаться, зимой на лыжах, а летом так, ногами, по коряжистым тропинкам. Канава начинается перед лесом как-то вдруг прямо из-под земли, течение её прямое, и заканчивается она вдруг, слепо, спустя километр.
Я шёл рядом с Лёхой Смуровым по прозвищу «Фетис». В то время, видимо, был популярен хоккеист Фетисов, а Лёха ходил в какую-то непростую секцию футбольно-хоккейную, и прозвищем своим, кажется, даже гордился. Фетис – альбинос. Головёнка у него круглая, глаза красненькие, подвылупленные, волосики мягкие, беленькие, редкие, лежачие. Характер был у него скорее добрый, громкость голоса обычно ниже среднего, и он то и дело этим своим тихим голосом чего-то подшучивал.
– Отгадай, – говорит мне, – Игорь, загадку: приток Дивны из одиннадцати букв.
(Дивна – это наша река городская. Она впадает в постепенно в У…, а У… – в Волгу.)
Я говорю:
– Не знаю.
А Фетис:
– Ка-на-ли-за-ци-я.
И смеётся. И все вокруг смеются. И правда, смешно. Для пятиклассника даже глубоко, с заныриванием.
Когда «вонючка» заканчивается, в лесу вдруг появляются высокие, дощатые серые заборы каких-то то ли дач, то ли огородов. Наша колонна эти заборы миновала. Там, дальше, был не строго геометрический лес и довольно просторная поляна, усеянная едкими жёлто-блестючими лютиками. Здесь нас и расположили, каждый класс – на его отрезке опушки. И на опушке началось завсегдашнее бешенство. И я, как обычно, был в стороне. Рассеянно-трепетно наблюдал. С 1-го по 8-й класс так всегда было: мои одноклассники бесились, а я наблюдал, в страхе как бы не задели. Вероятно, это оттого, что в детский сад ходил я крайне редко, – видимо, был склонен к простудам, и меня предпочитали оставлять с бабушкой; бабушка приносила мне на тарелочке нарезанные яблочки, надевала на ножки тёплые носочки, а я сидел и читал Фенимора Купера. Дружил я с Вовкой Шаховым. Мы ходили в один детский сад, а вот в школы нас отвели почему-то разные. Придя в 1-й класс, я был шокирован, когда на первой перемене оказался в гуще орущих, выпученноглазых, на огромной скорости носящихся по непредсказуемым траекторям, сшибающихся, падающих, хохочущих и во всём этом абсолютно неистощимых ровесников. Меня отнесло к батарее отопления и, кажется, я там простоял все 8 классов. Меня сразу же прозвали «Лошарик», видимо, по сходству с героем соплеточильного советского мультика – унылой цирковой лошадкой, состоящей из разноцветных шариков; звали это нечто как раз Лошарик (думаю, понятие «лошара», производное от «лох», то есть наивный, легко поддающийся обману человек, ещё не было в ходу). Но эта кличка долго не продержалась. Позднее меня называли «Трясунчиком» из-за того, что у меня мелко дрожали руки, когда я волновался (дрожат, впрочем, и до сей поры). А волновался в школе я часто.
В своём классе в то время я ни с кем не дружил. Впрочем, нет. Был один. Женя Кипятков. Потомственный «водила». Скромно-серьёзно-конопатый, невысокий, обстоятельный, не из интеллигентов, в отличие от Шахова. Простой. Однажды я побывал у него в гостях, – он жил в частном секторе, в доме, последнем в ряду, у самого леса, у труб. И ещё мы однажды были на футбольном матче «Т…» – «Металлург». «Т…» (к-й клуб) проиграл, кажется, 1:2. (Опыт. Много вместе пивокуренных мужчин, стоящих, смотрящих, монолитных, иногда чьим-то ртом что-то смешное выкрикивающих про кого-то из футболистов. Да, там, в к-ской команде, под вторым номером был некий Юрий, видимо, этакая фирменная «тёмная лошадка», нападающий, выдающий себя за защитника; всё время матча он делал по правому флангу внезапные соло-рывки, и кто-то из толпы вдогонку кричал вычурно-визгляво, со знанием, по-хозяйски: «Ю-юзик! Давай! Ю-ю-юзи-ик!»)
Но, в целом, на этом дружба наша с Женей исчерпала себя. Мне хватало Шахова; Женя же Кипятков был для меня каким-то слишком поверхностным и душевно-неказистым, несмотря на его простую доброту. Ещё, наша классная руководительница Ольга Сергеевна Тимашова загнала меня вместе с ним в группу ЮИД (юные инспектора движения). Надо же! В долговязом тощем мальчике-тихоне, прижимающемся к батарее в школьной рекреации во время перемены, думающем при этом только о том, чтобы не быть этими бешеными хулиганами случайно убиту в их разболтанно-ревуще-безмозглом, всесносящем карусельном порыве, кто-то усмотрел потенциального ГАИшника. Чудно́.
Так вот, когда класс расположился на опушке, началось у моих однокашников их обычное «переменное» носящееся, дерущееся и вопящее помрачение разума. Как будто перемена просто была вынесена из стен рекреации под голубые небеса. Да, кто-то устанавливал палатку, кто-то играл в мяч под солнцем на поляне, девочки что-то кашеварили. Я же, как всегда, был не у дел, всеми огульно пренебрегаемый, отстранённый, в полупрострации. Кто-то из одноклассников почему-то заговорил со мной о лютиках, мол, если долго смотреть в солнечный день на «куриную слепоту», то ослепнешь. У меня были сомнения, но благоразумие приказывало поверить. И я стал настороженно смотреть на траву; не давал, по крайней мере, взгляду застыть, скользил им. Кто-то менее робкий высказал свое сомнение вслух. И завязался обычный детский спор, без аргументов:
– Не ослепнешь!
– Ослепнешь!
– Откуда ты знаешь?!
– Знаю, и всё!
В таком режиме переходило к матюкам. Где-то за спинами раздавался зычный одёргивающий голос учительницы, и спор закономерно сворачивался. Лютики ведь не были чем-то важным.
Залезть в палатку дали не всем. Мне было немного завидно: хотелось самому уметь её собирать. Казалось, всё это растягивание верёвок и втыкание колышков – чрезвычайно сложная и ответственная вещь. Я всегда был нерасторопен на всякое творческое рукоделие. Поэтому и тут стоял в стороне.
Весь этот пикник продолжался, кажется, не более часа. Когда колонна миновала на обратном пути исток «вонючки», учителя её расформировали, и мы разбрелись по домам веером.
Таков был мой первый скучный опыт приобщения к походной жизни.
История 2. Вужиха. Июнь, 1986
Рудневы. Прокат. Искусство упаковывания рюкзака. Бармаков. «Москвич» – «Жигули». Первый лагерь. Хворост. Бережнёвы. «Очко». Весёлое ныряние в Вужиху. Глубокий сон Мишки Руднева. Шумерин. Грустный футбол. «Парфюмерные» эпилоги (Кипятков, Бережнёв, Шумерин).
В моём классе (до 9-го) учился сын одного выдающегося человека, известного в К… барда. Мишка Руднев. Он был небольшого ростика; хоть и худенький, а складный. Носик слегка курносенький, сам – смазливый. Шутил довольно часто, но как-то зло шутил, сатирически, с горьким смехом, издевательским. Обычно же хмурной и неприметный. В какой-то момент, однако, проявился в классе, обозначив недюжинные музыкальные способности. Помню, в начале 6-го класса, когда нам предоставили учебную комнату с пианино, Мишка воскликнул: «О! фортепляс!»; уселся проворно за инструмент, нисколько не скромничая, и сбацал популярную в то время итальянскую песенку «Felicità». Наша толстая отличница Таня Шамрина тут же начала подпевать в русском – пожалуй, кустарном – переводе. Весь класс уважительно хмыкнул.
В конце же того учебного года в школу пришёл папа Мишки, тоже Михаил и тоже Руднев. Большой, энергичный, значимый, солидный, с морской бородой, брызжущий в мир проницительным, жёстко-весёлым взглядом. Детей он, как видно, не боялся, что также внушало уважение. Он либо самопригласился, либо был приглашён кем-то из учителей к нам на классный час. Намерением Руднева-старшего было собрать желающих детей и даже желающих родителей в однодневный поход с ночёвкой на речку Вужиху. Некоторые заинтересовались (человек восемь). Про себя не помню: то ли я сам заинтересовался, то ли кто-то толкнул меня локтем, мол, «пойдём, классно».
Руднев-старший продиктовал нам список необходимых вещей, и велел прийти к нему домой с собранным рюкзаком накануне похода дабы получить дальнейшие инструкции и советы.
Дома я в тот же день объявил, что иду в поход с ночёвкой. И предоставил родителям Рудневский список продуктов, одежды и снаряжения. Родители почесали затылки. Металлическая кружка у нас, конечно, имелась, рюкзачок какой-никакой – тоже, а вот по поводу спального мешка и надувного матраса мгновенно обозначилась проблема. В то время, однако, в городах Советского Союза существовала масса пунктов проката. Один такой пункт был совсем недалеко от нашего дома, в углу одной из длинных пятиэтажек, входящих в «пентагон», не совсем правильный пятиугольник с большим двором посередине. Лесенка, белый кирпич и вертикальная надпись на уровне второго-первого этажей: «ПРОКАТ». Мы с папой посетили это заведение, и нам за небольшую сумму предоставили спальник и матрас (изрядно, впрочем, потёртые, «из остатков») – на двое суток. В «Прокате» также была масса всевозможного снаряжения, разбегались глаза. Всем этим заведовал, как-то неуместно, угловато помещаясь за прилавком, «неформальный», джинсовый, бородатый, худощавый мужчина с рассеянным взглядом. Я недоверчиво взглянул на предоставленные нам вещи: на спальнике не застёгивалась молния, а матрас был подозрительно бабулькино-мелкоцветочечно-пёстрым. Впрочем, выбирать не приходилось.
Мы пришли домой. Папа стал показывать мне, как упаковывать рюкзак. Я понял: дело хитрое. Папа распластал его «спиной» на полу и, стоя на коленях, стал пластообразно, последовательно помещать в него предметы. Спальник, одежду, кухонные принадлежности, сваренную мамой картошку и прочее.
Мои родители родом из деревень (жертвы деревне-городского дрейфа индустриальной эпохи?): мама из-под Пионерска, папа из-под Раздолья всё той же К-ской области. Познакомились в техникуме, переехав в К…, и поженились. Сначала родился мой брат в 1969-м. Его нарекли Вадимом к страшному огорчению моего деда, маминого папы. Дед хотел, чтобы его внук непременно носил имя Игорь. Потом дедушка умер. Спустя год или два родился я, и меня, понятно, назвали Игорем.
Так во́т. Сугубо по-деревенски, мой папа – герой. Плюс токарь, рукастый парень. Но вот странная вещь: «деревенские» ребята почему-то не «фанатеют» от природы (в смысле хождения в природу, покорения природы), им подавай мотоциклы, «выжать сотенку» и прочее. И, напротив, «городские» ребята навздирают на себя многокилограммовые рюкзаки, и-и-и-и да-авай взбираться на Эльбрус какой-нибудь.
Вот и вышло то, что вышло. Пришёл я к Рудневым с тем рюкзаком. Руднев-старший взошёл в комнату, в которой я сидел благоговейно в ожидании обещанных «дальнейших инструкций» – комната уже была завалена всяким барахлом и уплотнёнными рюкзаками тех, кто приходил до меня – нахмурился. Пощупал мой рюкзак. Сказал резко:
– М-м-ммм. Да в этот твой рюкзак можно в два раза больше вещей впихнуть!
И интенсивно и искусно в минуту раздраконил всё папино старание. Поставил рюкзак вертикально, и на фокусничий манер упихнул мои вещи настолько компактно, что я подумал: «Неужели мой папа так не рукаст?» И это запомнилось навеки. Навроде опыта-осознания: одни люди делают что-то лучше других. Казалось бы, ерунда: есть рыбаки, строители, походники; а есть газовщики, агрономы, космонавты, – почему проблема, если одни в своей области управляются искуснее прочих? Но я был юн, странно юн. Одноклассники вечно подавляли меня своим брутальным превосходством, и я спроецировал эту разность и на мир взрослых.
Каждое шевеление Руднева-старшего было для меня чем-то мегазначимым. Его взгляд (или невзгляд), его слово (неслово), его движение-жест (недвижение-нежест).
Он выдержал мой юно-оценочный микроэкзамен. Руднев, отец моего одноклассника, был мужествен, хваток, умел, полубогоподобен. А также весел, сквозлив, резок и широк. Сейчас я думаю: Рудневская же альмаматерь – КЭИ; он-таки, хоть и интеллигент, а не гуманитарий. Я же – худой, молчаливый, стоящий в углу потомок токаря, читающего Горького, и экономистки, читающей Некрасова. Что со мной делать? Как со мной общаться? Ну, как минимум, просто дать понять, что рюкзак следует более компактно утрамбовывать.
Я получил урок и ушёл домой.
Поход был назначен на следующий вечер.
Я снова пришёл к Рудневым; мне был вручён мой рюкзак, и я отправился на остановку транспорта с некоторыми одноклассниками.
Лёха Бармаков. Уверенный в себе, невысокий, крепкий паренёк. Он ходил в борцовскую секцию. Никогда не шутил, был значим, неприступен, тоже как Руднев-младший смазлив, круглолиц, – мальчик-картинка. Видимо, в семействе Рудневых его хорошо знали. Это я вывел из следующей ситуации. Мы вошли в троллейбус с рюкзаками, сбросили их на задней площадке и рассортировались вдоль окон. Тут отвернувшегося к окну Бармакова Руднев-старший вдруг ухватил за бедро сзади и резко взревел крупной, злой собакой. Поразительно, но Лёха-борец не только не упал-в-обморок-схватился-за-сердце, но и даже почти не дрогнул. «Мы привыкшие», – иронично молвил он в мою сторону. Мне, как и от многого другого, связанного с этим моим первым походом, сделалось фундаментально-задумчиво: вот, Бармаков, мой одноклассник, мой ровесник, – а такой взрослый, с большими значимыми дядями на «ты»; я же такой ущербный, ка́к вот тут «вписаться в компанию»?
«Тройка»-троллейбус неспешно крутил свою пыльно-асфальтовую восьмёрку по К…, пробираясь к ж/д-вокзалу, тому самому, что Руднев-старший воспел в одной из своих лучших песен. Бармаков с Рудневым-папой затеяли игру «жигули-москвич». Это когда едешь в советском троллейбусе и считаешь мимо едущие легковушечки. Поскольку в Советском Союзе было, в основном, только 4 машины: «москвич», «жигули», «волга» и «запорожец», играть было легко. Один игрок – за «москвич», другой – за «жигули». Руднев выбрал «москвич». Это был проигрышный вариант, – как если бы в имбецильной игре «Крестики-нолики» нолик по прямой, а не по диагонали поставить, – ибо «жигулёнков» в природе почему-то всегда существовало больше. Когда «тройка» выруливала по кругу к ж/д-вокзалу, Руднев, проигрывающий к тому времени примерно на 20 очков, начал жульничать. «Во, видишь, синий «москвич», 46!» – указывая на синий «москвичонок» стационарно притулившийся одесную вокзала. Через 5 секунд: «О! «москвич» лазурного цвета! 47!». Бармаков брезгливо загнул угол рта: «Вы ж его уже считали!». Руднев жалобу проигнорировал: «Да не, брось! Вон, смотри ещё: «москвич» цвета морской волны! 48!». Бармаков осклабился: «Всё равно проиграли!»
Всем было весело.
ПП 0.2 (так я буду впредь обозначать в сей Походниаде «провалы памяти, приблизительный интервал в сутко/часах»).
Добирались поездом. Как? – не помню. Потом – маленькая, хливкая станция. Какое-то время брели по тропинке назад. Слева – высокий сосновый лес, справа – железнодорожная насыпь. Тропинка – медленно, полого вниз. Ребятишки-одноклассники валили гурьбой, чего-то галдя, облепив взрослых. Я, как всегда уныло-невзрачный отщепенец, плетусь на запятках караванчика. Шли как будто долго, без передышки. Затем замаячила неширокая река, тропа сразу же юркнула влево. Недолго. И вдруг как-то сразу все поскидывали на землю рюкзаки, сгрудились. Стало быть, пришли. Вот тут и лагерь будет наш на сутки.
Детей почти сразу отослали в лес за дровами-хворостом. Как-то долго я бродил, волочась недалеко от других, складывал в охапку сухие веточки, приносил и сбрасывал набранное в общую груду в лагере. Было не жарко. И скорее пасмурно. Наша полянка-пятачок у самой почти речки. Лес не редкий, но и не густой, кусты.
Как-то незаметно для меня вздыбились палатки. Нам, детям, поставили большую, просторную, уквадратили её пол по самый притык надувными матрасами, настелили сверху покрывало, уложили спальники: спите, мол, – там детишек восемь могло разместиться, – собственно, как раз столько нас и было.
Я наблюдал за взрослыми. Жена Руднева – жутко красивая (мне тогда показалось) женщина, стройная, ладная, иногда сдержанно смеющаяся, но чаще полунадменно молчащая, одинаково спокойно взирающая как на нас, детей, так и на взрослых. Её спутница, возможно – тоже из родительниц, но скорее – именно её, Рудневой, подруга, сторонняя. Сам Руднев, пара его друзей, а из родителей моих одноклассников – Бережнёв, папа Лёни Бережнёва.
С этим Лёней я приятельствовал в младших классах. Дружба наша не клеилась. Так-то мы жили в соседних домах, на физкультуре в строю по росту стояли рядом, учились оба на «четвёрки», частенько возвращались домой вместе. Но он был мне не то чтобы неприятен, а как бы отторгаем нутром. Нос у Лёни с внушительной горбинкой, губы крупные, глаза малоподвижные. Сложения он был могучего, грудь держал колесом, – казалось, вечно на высоте вдоха, и был серьёзен и степенен, – как бы отвергал детство, и видом своим, и повадками. Шутить у него не получалось. А голос какой-то приглушенно-гнусавый, не ладящийся к его крупной фигуре. Я знал, что у Лёни необыкновенно суровая бабушка. Однажды он мне поведал, что она не гнушается иногда бить его ремнём. Ближе к старшим классам, по секрету, Лёня мне рассказал, как видел ночью своих родителей, занимающихся любовью. Не помню точно своей реакции на данное откровение: то, что родители детей на такое способны, скорее всего, уже не было для меня сюрпризом, а вот то, что Лёня не погнушался со мной, не настолько уж близким ему другом, такой интимностью поделиться, в моих глазах его, кажется, слегка уронило.
Помню ещё одно приключение с этим Лёней (то был класс четвёртый-пятый): блуждали мы зачем-то однажды в школьном дворе в осенне-мглистое время, – кажется, что-то там с пионерским металлоломом возились. И провалился Лёня одной ногой в лужу глубоко и вымочил напрочь подкладку у сапога. А сапоги были особенные: жёлтые, необычные, подкладка эта целиком наружу выворачивалась. Так вот, Лёня этот сапог как раз вывернул, допрыгал на одной ноге до полутораметрового металлического заборчика, что школьный двор огораживал, и развесил сапог на этом заборчике. Сушиться. «Меня дома убьют», – мучился Лёня, с тоской, напряжённо вглядываясь в электрические окна своей пятиэтажки, как будто оттуда всё уже увидели и всё знают. Я чувствовал: Лёне нелегко. Но помочь ничем не мог. Молча стоял рядом. То, что сапог в имеющейся осенней мгле высохнуть не смог бы и до утра, было очевидно. Но Лёня долго ещё страдал, периодически угрюмо повторяя: «Как же мне домой-то идти?» В конце концов напялил-таки мокрый сапог, и мы медленно, траурно отправились по своим квартирам.
Я видал Лёнину маму. Лёня был в неё. Такая же крупная, прямая, с почти атрофированной мимикой, внушительная, бесстрастно-монотонная. Она работала врачом-психиатром. Однажды, на 4-м курсе института, я частным образом обратился к ней за консультацией. За два дня до того я за полночь закончил свой третий роман. Концовка книги была страшной, и я слишком ушёл душой в своего героя. На следующий день с однокурсниками изрядно злоупотребил разнообразными напитками. А ночью со мной сделался психоз: в голове, как гигантские черви зашевелились неудержимые, непрошенные, внезапно выпрыгивающие из-под брюха некоего глобального контроля, визжащие, абсурдные мысли. Я пришёл в ужас. Выпил имеющуюся дома таблетку реланиума. Не помогло. Позвонил в «скорую». Дама на телефоне посоветовала выпить ещё одну реланиумину. Уснул. На другой день позвонил Бережнёвой и попросил проконсультировать. Пригласила к себе домой. Усадила на стул за маленький столик, напротив себя. Сама же осталась в тени, в серо-синих очках, справа от окна, брызжущего мне в лицо жаркими закатными лучами. Неохотно собрала мой дырявый анамнез. Рассказал про книгу. Про алкогольный эксцесс умолчал. Бережнёва округлила всё это: мол, глупости, ничего серьёзного, ступай домой, отдохни и впредь так не перенапрягайся. Безэмоционально, сухо, плоско, едва ли не с презрением. Такова была Лёнина мама.
Папа же Бережнёв был комично, выпукло, почти гротескно иной. Невысокий, плюгавенький, неуместный, стеснительно-неброский. Зачем он вообще пошёл в этот поход? Мне думалось: наверное, затем же, что и я… Посмотреть, какова бывает ещё эта жизнь. Кроме школы (работы) и четырёх стен в бетонной коробке. Одновременно страшно и интересно.
И вот, все эти взрослые ходили вкруг костра и о чём-то непонятном для меня перешучивались, балагурили. Руднев и его друзья, мне показалось, витиевато подтрунивали над дамами, а дамы с брезгливым достоинством подтрунивание это гасили либо отталкивали. И было странное впечатление: все они как будто ничего не делали, этак шутливо, неритмично, разнотонально и разногромково общаясь, и в то же время каким-то чудом – незаметно для меня, что ли, на манер иллюзионистов – постоянно пребывали в бурной деятельности: заготовляли дрова и готовили обед. Их взрослый мир не передавал моему разуму почти ничего осязаемого. Ощущались лишь настроение и энергия. Каждый взрослый источал одновременно веселость и грусть. Причём, весельем как будто больше бравировали, а грусть искусно прятали. Им было одновременно и нетерпеливо, и привольно, и запретно, и самим тоже ещё почему-то загадочно.
От мужчин (Руднева и его друзей) исходила некая богатырско-бородатая энергия мужественно-интеллигентской лихости. От женщин же шёл дух эдакой сдерживающей ехидной власти. Всё это было внове для меня. Мой папа день изо дня являл задумчиво-молчаливую мудрость, мама – телефонную болтливость, и существовали они как бы слегка параллельно.
На природу, как мне казалось, никто вовсе не обращал внимания. Я видел неширокую речку, противоположный луговой плоский берег, заканчивающийся под обрывом с теми же соснами наверху, но во всё это не вглядывался, – оно существовало где-то сбоку, не било в лицо.
ПП 0.1.
Обед не помню. Как, впрочем, и ужин. В преддверии сумерек случилась игра в «очко». Незатейливая такая игра. Мальчики по очереди набивают (чеканят) мяч на ноге, потом на колене, потом на руке, и, наконец, – на голове. По десять «набиваний». Мяч не должен коснуться земли. Набил на ноге 4 – дальше жди своей очереди, тебе остаётся ещё 6 на ноге, и – перейдёшь на «колено». Кто первый всё это прошёл, тот герой, – кто последний, тот зажимает мяч между бёдер и идёт на всеобщую потеху прямо по тропинке столько шагов, сколько он «не добил». Если совсем не умеешь набивать – так и ковылять тебе от этой ивы до той берёзы враскоряку с мегаяичком, которое тебе нормально идти не даёт. Смешно. Очень. Что тут сказать?..
Я плохо набивал. На каникулах в деревне тренировался по целым дням, но мой максимум набивания на ноге был 11, – кроваво-потовый максимум.
И вот в эту сволочную игру зачем-то ввязался папа-Бережнёв. Видимо, ему было всё равно: встать в один ряд с несмысленными мальчишками, уравняться с ними. «Ну давай», – мыслят грозно-ехидно мальчишки, – «глянем на тебя». В смысле, каков ты? – свой-не свой? Либо дашь поиздеваться над собой, уронишь себя перед нами, либо вовеки-веков героем нашим станешь. Впрочем, и так видно: нести тебе «яйцо» до самой железной дороги, спорнём?!
Так и вышло. Бережнёву объяснили правила игры. С ним играли Бармаков, Шумерин и кто-то ещё, не помню. Всех «сделал» Бармаков. Шумерин его «на голове» быстро догнал, а папа Бережнёв так «в начале колена» и застрял.
– И что теперь мне делать? – спросил Бережнёв.
– Вставляете мяч между ног, – бойко-неторопливо-надмевательски отчеканил Бармаков, – и идёте двадцать восемь шагов вон в том направлении. Если мяч уроните, всё снова – возвращаетесь к исходной позиции.
Бережнёв-старший выглядел смешно. Жалко как-то. Если бы он шутил с нами, был бы с нами единым целым, то это не выглядело бы жалко. Выходило: мальчик Лёха Бармаков, набравшийся глупо-серьёзной напыщенности в своей борцовской секции, этак надменно издевается над взрослым человеком, отцом семейства, советским инженером (или кто он там был?) Глупая история. Зрелище это производило во мне какую-то странную, извращённую работу: если бы происходящее являлось сказочным гротеском, изящной иронией, спектаклем на банальное ха-ха, я бы понял и принял. Но всё было как бы всамделишное, и мне ничего не оставалось, как презирать их обоих: и Бармакова за незрелый снобизм, и Бережнёва за абсолютно неоправданно принятое на грудь унижение. Что тяжелее всего, – мне кажется, Лёня (Бережнёв-сын) стоял чуть-чуть в сторонке и наблюдал за происходящим с какой-то восковой полуусмешкой и полуприщуренными глазами, стойко и недвижимо.
Бережнёв-папа ещё, как на зло, раза четыре ронял «яйцо» и заново принимался за этот свой унизительный раскоряченный путь. Все как будто даже устали от происходящего. Я вскользь наблюдал за лицами Бармакова, Руднева-младшего, Шумерина и прочих своих одноклассников. Жалость там, в оттенках, где-то глубоко, возможно, и присутствовала, но преобладала отчётливая, значимая, молчаливо-садистская полуусмешечка.
Ситуацию разрядил явившийся неожиданно, как снег на голову, Руднев-старший.