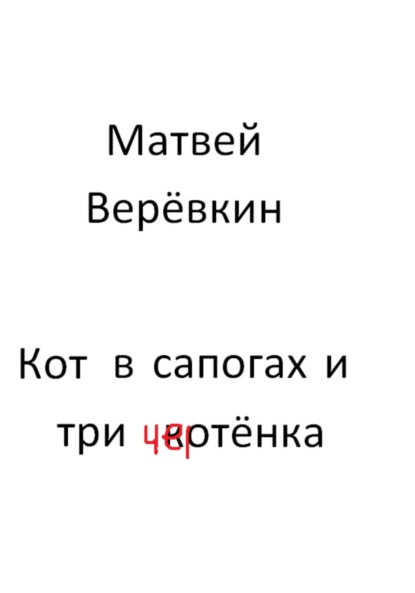- -
- 100%
- +
– Не мните ли вы, Зинаида Евграфовна, обвенчаться со своим Вороватовым? Уж больно долгонько длятся ваши художества.
Барышня замялась и густо покраснела, даже побагровела в тон рубинового перстенька. Ее пальцы ухватили какую-то случайную тесемку, скомкали, обронили, будто дело происходило не в маменькином будуаре, а на неприбранной улице, где сподручно мусорить. Она дернула плечами, намереваясь убежать, но полная и плавная Аглая Тихоновна умудрилась каким-то образом оббежать столик с кушеткой и встать перед дверью, загораживая дочери отступление.
– Что такое? Отчего вы не в себе? – Теперь она не шутила, в глазах пожар, рука бессмысленно и безостановочно кладет кресты. – Неужто я угадала?
Зинаида Евграфовна поняла, что придется отвечать. Сперва искала ложь поудобнее, но, пока выбирала, ей открылось, что мать на мякине не проведешь. Тогда она решила залить пожар чем положено – ледяной водой. Выдать правду за шутку, навести тень на плетень.
– Угадали? Ха-ха-ха!.. Да как вам, маменька, эдакое придумалось? Ха-ха-ха!..
– Извольте отвечать без ужимок!
– Да как же без ужимок, коли смех разбирает?! Ха-ха-ха!.. Нисколечко, уверяю вас! Ха-ха-ха!.. – Но смеялась она неискренне, даже жалко.
– Насмехаться изволите? – Нет, пожар в глазах Аглаи Тихоновны и не думал утихать. – Я ваша мать. Кто, как не я, желает вам добра? Если есть что-то между вами, признайтесь и давайте обсудим, как быть.
От ее искренней заботы, прямоты и готовности вспомоществовать дочернее сердце забилось сильнее, выгнав из глаз истерические слезы. Зинаида Евграфовна яростно замотала головой:
– Нет, маменька. Не-е-ет.
– Это значит, что я права. – Плечи Аглаи Тихоновны безвольно опустились. – А жених-то о ваших страданиях извещен? Помышляет свататься?
Дочка задержала дыхание: она и в мыслях не держала, чтобы матушка намеревалась брать в зятья захудалого учителишку. Об эту пору уже отступить или отшутиться не получится. Между тем ее ответ разобьет материнское сердце, превзойдет самые худшие ожидания.
– Говорю же вам, нет, маменька. Вы ошибаетесь, жестоко ошибаетесь на мой счет. Аникей уж обвенчан. Он давно расстался с супругой. Возможно, ее и в живых уж нет, а Вороватов – вдовец.
– Что? Обвенчан? – Рука Аглаи Тихоновны пошарила за спиной, отыскивая кушетку, не нашла оной и опустилась прямо на пол. – Вы погубить себя решили?
Разрушительное известие вызвало переполох, сравнимый с небольшой военной кампанией. В ход пошли и нюхательные соли, и угрозы вызвать на дуэль, и самые страшные слова, которые не приведи Господь ни одной дочери услышать от родителей. Несчастному учителю в тот же день отказали от дома, он в спешке собрал немудреные пожитки и, оставив на хранение ключнице целый склад законченных и только подмалеванных холстов, съехал на постоялый двор, чтобы с ближайшей оказией вернуться в Петербург.
А наутро, никого не предупредив, отбыла и Зиночка Донцова. Евграф Карпыч, разумеется, организовал погоню, догнал беглецов на ближайшей почтовой станции, отнял дочь и проклял ненавистного вероломного похитителя девичьих сердец. На том и расстались. Барышня долго лежала в постели, не принимая пищи и ни с кем не разговаривая, потом захворала всерьез, был призван доктор – молодой и симпатичный. Вылечившись, дочь не вспоминала о скандале и потребовала везти ее на воды, где и установился окончательный мир между нею и родителями. Когда же Донцовы вернулись в свое имение, Кортневы уже объявили о помолвке сына с другой, о чем, кстати сказать, Зиночка ни капельки не тужила.
Несколько лет пролетело в тихих деревенских хлопотах. Безнадежно взрослеющая барышня все дурнела, живописью более не увлекалась и только изредка поднималась на чердак полюбоваться пылившимися там холстами Вороватова. Почти на каждом полотне красовалась она сама – то с горящими глазами, то, напротив, нежная, томная. И на всех выходила прекрасной. Не вычурно красивой – честный портретист с мастерством передавал черты вместе с изъянами, – а прелестной своей живостью, рвущимися с подрамника страстями. Она увлекала, очаровывала, манила – никто бы не остался равнодушен к такой распахнутой душе, к такой жажде любви и счастья! Зинаида лицезрела свои портреты и не верила глазам: в такую влюбиться сможет каждый, даже не сможет, а обязан.
Аглая Тихоновна тоже наведывалась на чердак и рассматривала оставленные полотна, но у нее в голове бродили совсем иные думки: «Зачем бесстыдники выдумали эту любовь. Жила бы Зиночка себе, горя не знала, мы бы замуж ее выдали и уже, поди, внуков нянчили. А ныне что? Разбитое сердце да срамные сплетни меж соседей».
Так прошлепали-проковыляли еще то ли три, то ли пять, то ли все восемь лет. В округе уже стали забывать о злополучном учителе рисования, а кое-кто из новоприбывших и вовсе не слыхал о нем. И вдруг однажды, в майский полдень, полный густым разнотравьем и сварливым пчелиным зудом, в ворота поместья неторопливо вкатилась обычная почтовая упряжка двойкой. Она остановилась перед крыльцом.
– Эй, барыня, у меня к тебе посылочка, – весело прокричал прямо в открытое по теплому времени окно молодой ямщик с васильковыми глазами.
Высунувшаяся ключница недовольно шикнула на него, но все же кликнула Аглаю Тихоновну.
– Барыня, не изволь гневаться, – с поклоном, но без толики почтения в голосе произнес ямщичок. – Мне велено посылку доставить без оговорок, и оплачено вперед. Так что извиняй.
С этими словами он спрыгнул наземь, скорехонько достал из возка набитую тряпьем корзину, бережно поставил на крыльцо, вскочил обратно на передок и послал коней с места рысью, заметно торопясь и тревожа кнутом коренного.
– Сие что за гостинец? – удивилась Аглая Тихоновна.
Услужливая ключница уже спешила к корзинке, где, завернутый в лоскутное одеяльце, сосал пальчик кукольного подобия младенец. В круглых глазках-бусинках отражалось безоблачное небо, пухлые розовые щечки под нежнейшим пушком – будто заморский плод, носик-курносик чуть слышно посапывал, реденькие белесые волосики прилипли к мокрому лобику.
– Батюшки-светы! – заголосили обе разом.
На крик сбежалась вся челядь. Выглянула потревоженная в своих покоях Зинаида Евграфовна. Дитя вынули из корзины, он был мокрющий, но любопытный и неплаксивый. На вид ребенку уже исполнилось полгодика, по крайней мере, он пытался сидеть и неуклюже переворачивался. Откуда-то появились пеленки, косынки, чепчики. Кто-то побежал в деревню и привел кормящую бабу. Мальчик выглядел вполне здоровым, а когда расстался со своими неприглядными одежками и был помыт, накормлен и завернут в чистое, то стал и вовсе красавцем.
Помимо младенца в корзине обнаружилась любопытная вещица – завернутая в рогожу аквамариновая фигурка. Очертания ее вызвали много споров: то ли ангел завернулся в крылья и задумался, то ли застыла в неподобающем танце языческая нимфа, то ли это просто чей-то старинный фамильный герб, из чего, в свою очередь, следовала принадлежность дитяти к дворянству. При желании в прозрачных изгибах углядывались и зайчик, и гордый лев наподобие египетских сфинксов, и просто законченный кусочек орнамента или родовая тамга – половецкая печать. Любопытная вещица, несомненно, на что-то намекала, оттого ее помыли теплой водой, старательно обтерли мягкой тряпицей, завернули и спрятали.
Более в корзине не сыскалось ничего стоящего, если не считать письмеца, торопливо и криво сложенного, помятого, кое-где даже подмоченного. На верхней стороне имя адресата, выведенное бисерными буковками самого искусного толка: «Зинаиде Евграфовне Донцовой».
Зиночка, завидев почерк, вспыхнула, затрепетала и стремительно убежала к себе наверх. Эпистола оказалась преинтересной.
«Небесныя моя госпожа! Повелительница дум и чаяний во все времена!
Жизнь моя никчемная подходит к концу. Сколько я страдал, сколько пережил в разлуке с твоим отрадным приютом, не перечислить и не пересказать, тем более что времени у меня осталось немного. Знай, никого и никогда не любил твой раб той искренней, настоящей, высокой любовию, о которой только и можно слагать сонеты, которой одной только и стоит посвящать свою кисть, кроме тебя. А иначе все пустое.
Я растерзан, смят, разбит. Мне жизнь не в радость, и – о счастье! – конец мой близок. Не ропщу, не плачу, не молю. Ты была моей судьбой, ты ею и останешься. Скоро окажусь в лучшем из миров и благочинно буду поджидать тебя в юдоли несказанно более отрадной, нежели земная. Я верю, что нас ждет истинное наслаждение в окружении ангелов господних, что мы будем лобызать уста друг друга и пить нектар с амброзией. А ныне я ухожу, а тебя умоляю остаться и исполнить мою последнюю волю.
Надобно поведать тебе, душа моя Зинаида, как складывалась несчастная жизнь бедного художника после убийственной разлуки со светочем милосердия и средоточием вдохновения. Я долго скитался, искал утешения, спустил почти все, что накопил за годы беспечной и сладостной жизни в поместье твоего батюшки – дай Бог ему здоровья и долгие лета. В этих скитаниях лишь облик твой, прекрасная моя Зиночка, поддерживал упадший дух и заставлял биться усталое сердце.
После я решил, что уныние – это грех и мне следует добиться успеха на поприще высокого искусства, а потом, прославленным и богатым, все же попросить твоей руки, не крадучись, как тать, а гордо и с полным достоинства арьергардом. То есть разыскать свою законную супругу и устроить развод, коли она еще жива. С теми намерениями я и двинулся в сторону Петербурга.
Однако мечтам не тщилось сбыться. Денежные мои дела совершенно расстроились, посему пришлось наняться в театр писать полотна для пиес. Работа эта пришлась по душе, артисты были добры ко мне, веселы. Мы много путешествовали по губерниям с гастролями. Лишь одно отравляло душу – разлука с моей милой Зиночкой, усладой и лилеей разбитого сердца.
Я мечтал накопить денег, чтобы наконец-то добраться до Петербурга и исполнить свое намерение, но эти мечтания отодвигались жестокою рукой судьбы. Тогда я начал настойчиво расспрашивать актеров – их круг очень широк и любопытен, – не помогут ли они отыскать следы моей венчанной супруги или, что не в пример лучше, доказательств ее безвременной кончины. В подобных розысках и расспросах минуло несколько лет. За это время я сдружился с одной милой актрисой, которая казалась мне верным товарищем, но оказалась вероломной и бессердечной змеей. Я уже был болен, серьезно болен. Надежды на излечение не мнилось. Тогда, не буду лукавить, я сошелся с этой Анастази, и у нас родился сын.
Ты спросишь, какова связь между недугом и адюльтером? Каюсь, грешен. Хотелось напоследок полакомиться земными сластями, прежде чем предстать перед Господом нашим и томиться в ожидании моей верной, моей безупречной Зинаиды Евграфовны.
Итак, я сошелся с Анастази, у нас родился сын. Я был безмерно счастлив лицезреть малыша, я был горд оставить после себя на грешной земле хоть какое-то напоминание о том, что такой-сякой Аникейка Вороватов бродил по этим лугам, смотрел на эти облака, нюхал эти цветы. Я был минутно счастлив. Но Анастази – нет. Эта коварная изменница оставила меня через два месяца после рождения нашего ангела и умчалась с заезжим французом, обещавшим ей место в столичной оперетке. Она бросила меня – умирающего! – с младенцем! Что может быть вероломнее этого поступка?!
Милая моя Зиночка! Сухотка догрызает мои остатние дни. Скоро уж прилягу и не встану. Ты не тужи обо мне, я не стою твоей печали. Но во имя человечности и в память о нашей неземной и поистине волшебной любви позаботься о моем сыне, о моей кровиночке. Каюсь, я корыстен. Я хочу, чтобы моя частичка, то, что мне безмерно дорого, оставалось с тобой и напоминало обо мне. Моего сына зовут Флоренцием. Я нарек его таким диковинным именем, потому что все время думал об этом граде искусств, о средоточии всего прекрасного на земле, о месте, где каждый художник – гений. Верю, что Флоренций прославит свое необычное имя. Верю, что он увидит далекие тосканские земли и напишет чудесный этюд из жизни Флоренция во Флоренции. А фамилия у него не моя, ведь мы с Анастази не обвенчаны. Более того, эта прохиндейка посулами убедила приходского дьяка записать в церковной книге моего сына Листратовым. Так что перед тобой, коли ты, любимая, читаешь это письмо, Флоренций Листратов.
В память от непутевой матери ему достался лишь фамильный секрет, заключенный в аквамариновом амулете. Сбереги уж и его тоже. Коварная сия обольстительница рассказывала, что вещь наделена волшебной силой, оберегает володетеля и одаряет его безошибочными подсказками. В то мне не верится, но, коли ты смотришь сей миг на моего сына, значит, некое вспомоществование фатуму в сием действительно наличествует.
Я знаю, мой милосердный ангел, ты не лишишь невинное создание крова и пропитания, сумеешь убедить Аглаю Тихоновну и Евграфа Карпыча. Ты вырастишь из него достойного человека, много лучше его несчастного отца. С сим прощаюсь. Передай мой поклон батюшке с матушкой и будь счастлива, любезная и незабвенная, единственная моя Зинаида Евграфовна».
* * *Сколь причудливо плетутся судьбы под покровом лесов-старожилов! Бывает, что человечку на роду написано нищебродить, а он выбивается в наипервейшие богатеи, но случается, что родится дитя с серебряной ложкой во рту, а жизненная стезя выпадает суровой и заканчивается нежданно под обрывом, разбойничьим кистенем или плахой. Так и Зинаида Евграфовна – помещичья дочка с небедным приданым – не ждала и не гадала, что останется куковать свой век в старых девах, а единственным утешением ей станет подкидыш Флоренций – напоминание о несбывшемся счастье и вероломном ограблении сердца.
Сперва она никак не хотела исполнять предсмертную волю аманта Аникеюшки. Что письма, что пустые клятвы, коли на словах – мольбы о любви, а на деле, извольте видеть, – актерка Анастасия Листратова? Но выбрасывать дитя на улицу не велел христианский долг, так что Донцовы постановили отвезти младенчика в монастырский приют и оставить на попечении добрых матушек. Однако страда в тот год выдалась жаркой, барин не сыскал досуга ехать в уезд, а толковые крестьянские руки все наперечет. Потом непогоды хлябями расквасили дороги – ни проехать, ни пройти. Так и досидел Флорушка в поместье Донцовых до поздней осени, а тут и метели подоспели на порог. Подкидыш подрос, начал понемножку топать своими толстенькими спелыми ножками, смеяться, лукаво заглядывать в лица и теребить тесемки нарядных чепцов. Славный вылупился малыш!
Мамки да няньки раз за разом откладывали час расставания: то занедужит дитя, то на ярмарку ехать пора, то праздник церковный, а, известно, такие дела затевать в праздник – великий грех. А ведь обговорили уже все с настоятельницей в письмах и пожертвование определили немаленькое…
Более всех привязалась к дитяти Аглая Тихоновна. Женское сердце легко тает от лепета и касаний крошечных ладошек. Не насытившись вдоволь материнством, барыня давно мечтала о внуках, любила подолгу вести нехитрые беседы с крестьянской детворой, лечила всех, угощала сластями и даже привозила из города диковинные игрушки, раздавала на Рождество и Пасху. Теперь же, когда в доме поселился самый настоящий свой карапуз, у помещицы загорелись глаза и прыти прибавилось – будто лет двадцать скинула со скрипучей телеги. Глядя, как маменька нянчится с Флорушкой, исподволь прикипела к нему и ревнивая Зиночка. Все-таки женщины – существа непредсказуемые и живут древними чувствами, а не просвещенным разумом. Так или иначе, никуда не повезли нового жильца, а оставили в барском доме.
Деревенька Полынная досталась в приданое Аглае Тихоновне. Только никакой полыни здесь не росло – тянулись сплошняком леса. Хлеба и лен растили на других малых угодьях, открытых и ровных, а Полынная тем полюбилась в свое время молодоженам, что стояла на отшибе, окруженная соснами и березами, на берегу своевольной реки с лихими изгибами и шумными стремнинами.
Евграф Карпыч не больно жаловал родительский дом в соседнем Ковырякине – деревенский, бревенчато-самотканный, по-крестьянски срубленный. Ему всегда хотелось иметь особняк по новой моде – помпезный, с гулкими галереями и широкой террасой. Такая мечта завелась еще со времен службы, ее навеяли иноземные красоты. Поэтому сразу после венчания Евграф Карпыч предложил молодой супруге семействовать на необжитом месте, на что та с радостью согласилась.
Строительство шло быстро, выписанный из Варшавы толковый зодчий выслушал пожелания заказчиков и преподнес точь-в-точь такой проект, какой им виделся в мечтах. Весь бельэтаж предназначался для бальной залы, из просторного вестибюля открывались библиотека и приемная с кабинетом. Эта часть стояла нежилой, тускло поблескивала ненатертыми паркетами и морщилась пыльными чехлами. Довольные новосельцы уставили каминные полки статуэтками, высокие окна занавесили портьерами, полюбовались на эту красоту – и пошли жить в правый флигелек, где все выглядело иначе: никакой помпезности и излишеств. Мягкие пасмурные тона в ансамбль темным дубовым панелям, простые без золотого шитья занавеси и покрывала, смещенный вбок проход, устланный пушистым ковром, и небольшая уютная столовая для семейных трапез.
Высокий второй этаж смотрел на речку. Вид из него открывался поистине чарующий: лесные чащи в обрамлении речного тумана, загадочные тени, шорохи и предостережения во всполохах заката. По верхнему ярусу вдоль всего флигеля тянулась узкая терраса, огражденная могучими балясинами, так что хозяева могли совершать променад, не выходя из дома, а при соединении флигеля с главным зданием узкое русло выливалось в огромный парадный балкон, заставленный по летнему времени садовой мебелью, парасолями и цветочными горшками. Самый настоящий шарм, такого не сыскать ни у кого из соседей. Аглая Тихоновна гордилась своим чудесным балконом и частенько приглашала гостей специально на «простенькое чаепитие», чтобы им похвастать.
Но это попервой, а с годами Донцовы привыкли и к балкону, и к дому, и к шуму реки под самыми окнами, еще через десяток лет украсили парадный вход изваяниями вместо первоначальных колонн, потом выстроили островерхую башенку с крутой винтовой лестницей и узенькими окнами-бойницами. Предназначение сей конструкции мало кто понимал, но выглядело авантажно. В левом флигельке жили прислуга, учителя, нередкие гости.
Когда молодой барин только объявил, что намерен здесь обосноваться, деревенька Полынная насчитывала не больше тридцати дворов. Но через четверть века она разрослась, потеснила лес, прорубила торную дорогу и справно пыхтела парой сотен печных труб. Донцов проявил себя хозяином рачительным и проворным. А еще большей мастерицей вести дела, чтобы воз катил в гору, не задыхаясь и не останавливаясь, была Аглая Тихоновна – помощница, советчица и умелый счетовод. Именно ей пришло в голову удариться не в зерно, а в лен. То есть хлеб и овес тоже сеяли, но только для своих нужд. Лен же для прибытка. Барыня велела выстроить мастерскую, усадила туда девок с веретенами и ткацкими станками, начала складывать стопками куски тканей. После стала принимать заказы на пошив. Своих людей недоставало, пришлось нанимать, за вольными потянулись их семьи, завязалась торговля, пристроилась еще одна улица, вскоре потребовалась новая мельня. Так и прирастало Полынное.
В конце концов она отвезла дюжину рукодельниц в уезд, определила там в артель. Оно и девкам в радость, и кошельку отрада. Со временем лен бесповоротно вытеснил пшеницу и овес, прибыль с него втрое превышала зерновую, и все потому, что сами мяли и ткали, сами же и шили. И еще некрасивая барыня Донцова запретила торговать пушниной, вместо того приказала строчить шубы и шапки – так выходило вчетверо выгоднее. Сукно же она заказывала из самой Генуи, ждала по полгода и больше, но зато уж такого не водилось ни у кого в округе.
Молодость супружеской четы прошла в хлопотах и частой экономии, зрелость – в приятных подсчетах, бойких торгах и ожидании Зиночкиных успехов. Днесь хотелось только покойной старости. Поэтому Флоренций попал в своей удачливой корзинке весьма к месту и в самое подходящее время.
Зинаида Евграфовна сначала нехотя, скрывая от себя и от ближних, а затем все больше и больше, открыто, яростно, вызывающе прикипала сердцем к маленькому человечку, каждодневно напоминавшему о самом великом счастье и самой большой трагедии ее жизни. Она так и не смогла пережевать и проглотить страсть к Вороватову, так что об эту пору перенесла ее на Флоренция – хорошо или плохо, но так уж, видно, суждено.
Мальчик же рос пригожим, а его характер сложился похожим на ландшафт средней полосы – внешне спокойный, миролюбивый, а копни поглубже – и овраги сыщутся, и стремнины, и заповедные пущи.
Флоренцию недолго пришлось играть с крестьянской детворой: Аглая Тихоновна настояла нанять гувернера. Донцовы к тому времени нешутейно зажирели, единственная дочь осталась старой девой, так что они не видели нужды докупать земель. К побрякушкам у барыни и прежде не лежала душа: какой с них прок, если все равно Зиночка не пошла под венец? Хоть обвешайся с ног до головы яхонтами, а счастливей оттого не стать. Путешествовать по свету, в лютые восточные земли или через океан, как тогда повелось у богатых выскочек, они с Евграфом Карпычем уже не имели сил, брать городской дом – пустое, кто там станет жить? Поэтому старики, почитая себя бабушкой и дедушкой, покупали ребенку самые чудесные книжки, выписывали учителей, баловали тем его и себя, представляя, что это не безродный подкидыш, а настоящий внучонок.
Когда маленький Флорка начал тянуться к рисованию, Зизи с замиранием сердца вытащила собственные старые альбомы, кисти и принялась учить волшебству. В ее сердце ожили самые счастливые минуты, рука пела, мальчик смотрел на нее влюбленными глазами – точь-в-точь как у незабвенного Аникея. Через пару лет она говорила про своего воспитанника не иначе как «будущий гениальный художник» или «живописец, что прославит Россию». Самая любимая фраза звучала так: «Флоренций назван в честь родины наизнаменитейших мастеров, посему ему на роду написано стать легендой». Ни больше ни меньше! Старая дева нашла-таки цель своей не сильно удавшейся жизни – взрастить гения – и предавалась этому занятию с усердием и даже самоотверженностью.
Воспитанника тоже всерьез влекло изобразительное искусство, свойственное юности воображение дразнило надеждами. Когда ему исполнилось двенадцать, Аглая Тихоновна наняла настоящего учителя рисования, на этот раз крепкого семьянина, поселившегося в левом флигеле с толстухой женой и тремя горластыми шалунами. Через два года она решила, что успехи Флорушки значительно опережают скромные познания самого учителя, и последнего заменили на старичка, некогда преподававшего аж в Академии художеств, но ныне по старости вышедшего в отставку. Старик был и в самом деле сведущим в живописи и рисунке, но больно дряхлым и чаще попросту дремал, нежели занимался своим учеником.
Старательному Флоренцию между тем это пошло лишь на пользу: он не забивал голову устаревшими догмами и много писал с натуры – живо, дерзко, объемно, делал зарисовки домашних животных, хлопотливых девок, беззубых ребятишек, домовитых крестьян в богатых узорах народных традиций. Юный художник хотел увековечить паводок, дерущихся собак, пот, тающий на лошадиной спине, весеннее пение птиц. Он жил под тихое бренчание своей музы и потчевал талант яствами, состряпанными вдали от сухих академических кухонь.
Старичка сменил другой профессор. Аглая Тихоновна уже не делала разницы, молод он или стар, пригож или отвратен, холост или женат. Новый наставник признал несомненное дарование ученика и настоятельно рекомендовал отправить его в италийские земли, о чем грезил и сам юноша. Раскочегаренная телега донцовских хозяйственных успехов уже взобралась на самую гору. Деньги лились неоскудевающей рекой. Аглая Тихоновна любила Флоренция пуще единственной дочери, пуще мужа, брата и племянников. Она желала видеть его с того света прославленным, не иначе. Евграф Карпыч заразился от супруги и от Зиночки тщеславием – дескать, Флоренций воспоет в холстах Полынное, воспитавший его род и того, кто за это все заплатил звонкой монетой. Поэтому и он не противился подобному невообразимому транжирству и даже понукал, чтобы не запинались, претворяли в жизнь великие чаяния.
Зинаида Евграфовна, не излечившаяся до конца ни от злополучной любви к Вороватову, ни от страсти к изобразительному искусству, также горячо поддерживала этот прожект. Так, осьмнадцати лет от роду мещанин Флоренций Листратов был снаряжен в дальний путь, снабжен огромными сундуками с одежей, дорожными припасами, узелком со снадобьями от всех возможных хворей, которые заботливо уложила старая ключница, книгами, альбомами, остро отточенными грифелями, большим запасом рисовального угля и страшно дорогими красками. Попрощавшись с родными местами и любимыми людьми, юноша отправился покорять тосканские земли, пообещав писать подробно и обо всем при каждом удобном случае, но никак не реже двух раз в день.