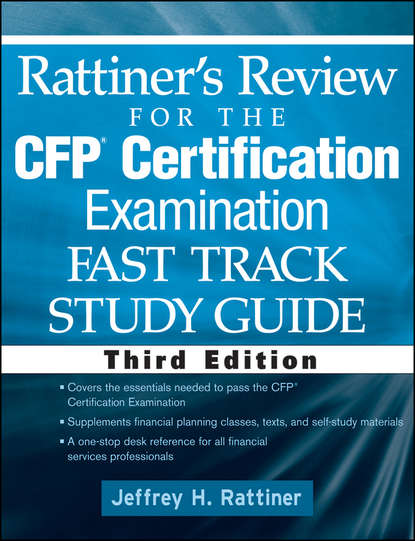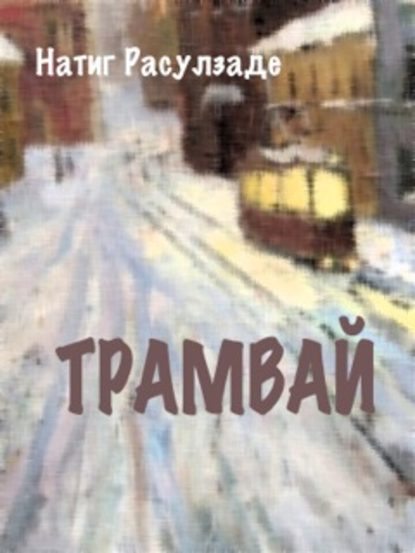- -
- 100%
- +
Флоренций не удивился, что доктор превосходнейшим образом осведомлен о нем самом и его приключениях. В сельских краях новостей немного, каждую из них холят и лелеют, как дорогую вещь. Он ответил:
– Непременно передам… Происшествие оное, знаете ли, больно нерядовое, боюсь, мне не суждено отныне спокойно почивать.
– Желаете успокоительную микстуру-с? Извольте.
– Пожалуй. Если не сочтете за труд.
– Однако сначала займемся ожогами-с. Ожог – это опасно. По большей мере заражением, но и без того… Однако не беспокойтесь, у меня все приготовлено-с, а комнаты моем-с, как перед свадьбой. – Добровольский усмехнулся. – Вы, гляжу, не понимаете? Видите ли, сударь, у меня есть своя собственная теория. Она гласит, что все болезни проистекают-с от грязи. Где грязь – там можно подхватить чужую заразу. Поэтому я настаиваю, чтобы в моей приемной всегда царствовала чистота. Видите-с эту комнату? Таких три. Каждого пациента я принимаю отдельно. Если не нахожу его недуг прилипчивым, отпускаю, в противном случае держу взаперти до того, как домочадцы примут меры-с.
– Как вы сказали? Прилипчивой? – Флоренций удивленно смотрел по сторонам.
– Да-с. Приращение больных, да будет вам известно, произрастает от их сношения со здоровыми. Это означает, что хвори имеют свойство-с прилипать.
– Мне доводилось слышать о подобном.
– Похвально-с… А многие пренебрегают просвещением-с, а потом отправляются на погост. Наши ведь зипуны как? Мылом брезгуют, кипятить ленятся, едят из одной миски. А зараза – она как мыша. Сидит себе в закутке и гадит. Как часто вы находите мышиные какашки?
– Прошу простить, – стушевался Флоренций, – однако я оных вовсе и не ищу.
– Это я для сравнения-с. Ясное дело, что не ищете. Так зараза требушится по дому наподобие мышиных какашек, только в мильон раз сильнее. Она прилипает к посуде-с, одеже, постелям. Зипуны того не понимают, оттого и мрут сотнями.
– Не посмею спорить.
– А заразы встречаются самые разные и по большей мере смертные. Та же моровая язва, оспа или лепра. Что толку пускать кровь, ежели-с прежде тем ланцетом вскрывать гной?
Наделенный богатым воображением художник живо представил, что до него на этой самой кушетке сидел гниющий и смрадный, трогал за спинку, вытирал краешком зловонный рот. Он поежился и дернулся встать. Доктор догадался:
– Что? Напугал я вас? Прошу-с простить, не со зла. В меру сил стараюсь предостерегать тварей Божьих. Всех без различий. Оттого-с и вам перепало, Флоренций Аникеич. – Он беззлобно рассмеялся и закончил: – Блюдение чистоты есть наипервейший путь к неуязвимости-с.
– Я запомню, доктор, благодарю вас за науку, – растерянно пробормотал Листратов.
Добровольский протянул микстуру, подождал, пока стаканчик опустеет, затем азартно потер руки и подступил к кушетке.
– Ну-с, как тут у вас с нарывами? Докучают-с? – Он бесцеремонно задрал на Флоренции рубаху и принялся разглядывать бока, грудь, спину.
– А… а откуда вы знаете про нарывы? – Его пациент не переставал удивляться.
– Так они всегда-с сопровождают ожоги. Знаете отчего? Да оттого, что мажут всякой дрянью. Вот признайтесь, вас давеча мазали сметаной?
– Д-да, мазали.
– А простоквашей? Медом? Салом?
– Всем мазали. – Листратов рассмеялся.
– А всего-то надо было дать высохнуть в чистоте. Э-э-эх!
Лекарь принялся обрабатывать раны, его руки доставляли Флоренцию неимоверные мучения, однако, как только они оставляли ожог в покое, сразу же наступала благодать. Савва Моисеич кружился вокруг, орудовал плавно, но прикосновения выходили сильными, от него пахло карболкой и дегтярным мылом, этот запах успокаивал. Чтобы отвлечься от боли, посетитель сосредоточился на деталях безликой комнаты и своего мучителя. Он приметил три симметричные дырочки по краю покрывала, желтое пятнышко в углу, плохо забеленные подтеки над окном, щель в половице у порога. На локте докторского сюртука проелась плешь, ворот уже перелицовывали, и этот тоже успел истрепаться. Всему виной частые постирушки, наверное, тот специально держал для службы ношеное платье.
Голова Саввы Моисеича тоже часто оказывалась перед глазами. Флоренций жадно смотрел. Намерение выпросить аудиенцию для рисунка никуда не делось, пожалуй, даже окрепло. Под глазами Добровольского уже наметилась рябь подступающих морщин, но сами те еще не вычертились. Ниже левого уха скромно пристроилась аккуратная коричневая родинка, подбородок едва заметно разделялся чистой, без щетины ямочкой. При очередном повороте Савва Моисеич вытянул кисти сильнее обычного, и узел галстука отполз в сторону. Под ним имелось что-то любопытное – шрамчик. Тоненькая белая ниточка зигзагом. Она притаилась как раз под затейливым узлом, будто специально спрятанная. Место это на человеческом теле опасное, недалеко до яремной вены – важнейшего жизнетока. Однако шрам лежал в стороне от нее. Чуть-чуть, но знатоку человеческой анатомии, кто провел часы, зарисовывая разные части тела, сразу заметно. Наверное, Добровольский в юности перед кем-то гусарствовал, теперь же стеснялся демонстрировать.
– Полегчало, доктор, благодарю покорно, – лепетал Листратов.
– А я знаю-с. Я смазал ваши повреждения измельченным стеблем ревеня с медом. Это залечит и обережет. Дома делайте-с так же или накладывайте тертую морковь. Но надо носить просторную чистую рубаху, дважды в день менять и никакой сметаны, боже упаси!
В середине процедуры заглянул монашек, доложил, что некая Дашенька вымыла две комнаты и коридор. Добровольский велел заплатить ей и подарить курицу.
– Наставляю помаленьку-с, – шепнул он, заканчивая мороку с левой, наиболее пострадавшей рукой Флоренция.
– Доктор, вы с подобным рвением и просвещенными воззрениями могли бы сделать карьеру в большом городе, даже в столице. – Пациент не желал оставаться безучастным и не видел причин скрывать своего восхищения. – Отчего же вы здесь, в оной глуши?
– Отчего? Ба, да вам не рассказывали-с?! Я ведь сослан, знаете ли. Однако мое жизнелюбие позволяет надеяться, что такое положение продлится не так уж долгонько.
– Ох, простите.
– Да что вы, это не секрет, и стыдиться мне нечего. Раз виноват, должен понести-с наказание. А за что сослан – за неблюдение чистоты-с. Вот так-с. Принимал дитя у одной барыни да допустил заражение. Она умерла в лихорадке вместе с младенцем. С тех пор старательствую-с. Так что в следующий раз будьте аккуратнее, когда вознамеритесь хвалить эскулапов.
Листратов сильно огорчился, что вынудил Добровольского откровенничать. Такой редкий человек и такая бездарная сцена! Ведь хотел, напротив, польстить, а все вывернулось наизнанку. Он попробовал исправиться:
– Простите, не знал. Но уверен, оная ошибка была роковой.
– Отнюдь. Самая рядовая ошибка-с, сиречь непрокипяченные щипцы и прочее. Она из господ, изнежена сверх меры, чувствительна-с. Я же тем инструментом пользовал баб. А власти постановили-с, что неумеха, когда все дело в чистоте. Вот-с. И спорить уж не резон, все одно барыни не вернуть, а инструмент-то мой, более ничей, так что вина так или иначе на мне. Я виноват и не собираюсь увиливать.
– Но как же оно… Ведь бабы-то живы остались?
– Вы разве не осведомлены, что каждое тело – отдельный мир, равно-с как и каждая душа? Господь наш не создал двух одинаковых, за что и следует его благодарить. Иначе жить было бы неинтересно. Что одному исцеление-с – другому смерть.
– Господь не создал одинаковых тел – да. Инструмент – да. Но вы-то при чем? – Листратову очень хотелось поддержать такого мудрого и открытого доктора.
– А при том, что выкрест. Разве не знаете, сударь, что во всех наших бедах виноваты евреи? Даже крещеные.
Флоренций стушевался. Обсуждать подобные темы с малознакомым человеком, да еще и непосредственно про него же – это уже за пределом приличий. Савва Моисеич будто догадался:
– Я шокировал вас своим беспритворством? Оскорбил? Прошу простить.
– Господи, да нет же, конечно! Разве можно оскорбить прямодушием? Просто я прожил последние семь лет во Флоренции, там все заняты Наполеоном, перекраиванием монархий, новыми империями, новой историей. Я как-то не задумывался.
– Понимаю-с, – протянул Савва Моисеич, вытирая руки. – Понимаю и, сказать по чести, завидую. А чистосердечие мое обусловлено тем, что скрывать-то мне нечего-с… Вот и все. Я закончил. Будьте добры пожаловать ко мне на грядущей неделе-с. Но ежели будет худо, то приезжайте-с хоть сюда, хоть туда в любой день.
– Благодарю, доктор. Я чувствую себя совершенно здоровым. Вы кудесник.
– Да, кстати, как насчет нервического расстройства? Вы, помнится, микстуру просили?
– Пожалуй, пока воздержусь. Я не привык. Тут все оно вместе: и раны, и боль, и картина жуткая перед глазами. Даст Бог, само наладится.
– Снова и снова понимаю вас, Флоренций Аникеич. Может, и пройдет. Событие, конечно, из ряда вон.
В мягком голосе Саввы Моисеича слышалась прохладца, по крайней мере, он не почерствел ужасом и не стал звонче ледяным осуждением. Неужто жесткосердный?.. Нет, оному не можно тут поселиться – в докторе, избавителе от телесных мук. Это просто показалось, и вдобавок усталость от непроходящей боли мутила сознание. Флоренций решил заслужить помилование.
– Вы простите, что я постоянно об оном говорю. Если вам неинтересно, то, пожалуйте, хоть про урожай, хоть про изящные искусства. Про последнее мне особенно приятно. Я ведь не всегда напуганный нытик.
Ему на секунду показалось, что в темных навыкате глазах доктора мелькнула настороженность. Он поправил узел на галстуке, с нарочитой рассеянностью проверил, что шрам надежно укрыт. Флоренций заметил этот жест, но не придал значения. Видимо, доктору не по себе от подобной отметины, не желает выставлять ее напоказ. Савва Моисеич же сменил снисходительное выражение, с которым вещал про ожоги и нарывы, на доброжелательное, светское.
– Отчего же неприятно? Вполне себе-с. Вам известно ли про такое вероисповедание, как поклонение Будде? Это не идол, и не божок, а человек, достигший просветления.
– Конечно. Ему поклоняются в Поднебесной, еще в Индии и дальше.
– Верно. Так вот, последователи Будды считают, что покончить с земным существованием отнюдь не грешно-с. Это просто очередная ступень великого пути, по которому идет душа. И конца у него нет, только замкнутый круг. Мы, христиане-с, – он выделил интонацией последнее слово, – исповедуем иное-с. Для нас самоубиение – грех. Но ведь нельзя всех мерить одною мерой-с. Фантазии у человеков бывают всякими, порой малообъяснимыми и даже совершенно необъяснимыми-с, с нашей точки зрения. Кстати, последователи Будды предпочитают огненное погребение, оттого пришло мне это на ум.
– Очень интересно. Однако господин Обуховский перед кончиной осенил себя православным крестом, – возразил Флоренций.
– Правда? Но я ведь делаю-с не более нежели предположение.
Листратов очередной раз восхитился этим человеком: какой необычный, индивидуальный ход мыслей выстраивался в его красивой голове! Образованность тоже впечатляла, широта взглядов, приятие иного уклада, иной философии и метафизики.
– А вы были ли знакомы с господином Обуховским? – спросил он просто ради того, чтобы не прощаться с Саввой Моисеичем. Процедуры уже все завершились, приближалось время откланяться.
– Хм… Имел честь. Да-с, не буду скрывать, имел честь принимать в соседнем кабинете. Вот так-с. Что, не ожидали?
– Отчего же? Я уже получил доказательства вашей беспримерной искренности, так что не полагал, будто вы намерены скрытничать. А что он наведывался к доктору – в оном тоже нет ничего удивительного. Все-таки даже нездоровому человеку Господь наш дарует просветы и направляет, куда следует.
– М-да… Вот он и направил ко мне. Однако, увы, я ничем не смог помочь.
– Осмелюсь предположить, что душевные недуги лежат подале от вашей рутинной практики, нежели ожоги. Потому и не смогли. На мой непросвещенный взгляд, лучше бы ему обратиться к духовнику, батюшке.
– Многая хвори-с приключаются от нервов и хандры. – Добровольский развел длинными руками. – В любом случае мне, как доктору, тем не менее неприятен этот факт, чтобы вы знали-с. На этом давайте прощаться, дражайший мой Флоренций Аникеич. И да, про искусства я тоже с удовольствием с вами побеседую, но в следующий раз. А на сегодня все.
Флоренций поблагодарил, расплатился с гаком и вышел. Теперь шагать получалось бодрее. В приемной ожидал следующий посетитель – яркий блондин лощеной наружности в голубом камзоле едва из портняжной и с бутоньеркой в петлице. Последняя отменно бросалась в глаза, так как состояла из густо-оранжевых цветов капустницы, аккурат таких, как у давешней девицы. На светлом атласе они смотрели огоньками. Сразу вспомнилось трагическое утро, костер на рыбьей спине, обреченная рука в крестном знамении. Скандально-желтый на голубом, как пламя на реке – один в один. Флоренций попробовал отвлечься от неприятных воспоминаний, вежливо поклонился незнакомому господину, тот поспешно вскочил, ответил на поклон и заверещал, призывая монашка. Голос его оказался визглив, жесты торопливы. Вообще-то и капустница в бутоньерке смотрелась безвкусицей, слишком выпуклая, к тому же не принята в обществе. Листратов прошел на крыльцо, отложив подальше случайную встречу.
Усевшись, вернее, улегшись в дрожки, он сразу задремал. Боль отступила, мазь приятно холодила раны, отяжелевшая бессонными ночами голова удобно пристроилась в складках расстеленной попоны. На небо вышли прогуляться тучки, убавили зной. Мирно, нежарко, блаженно. Выехав из Трубежа, сострадательный Ерофей остановился, снял с упряжи бубенчики, чтобы не тревожили болезного. Флоренций на его заботу легонько улыбнулся и проворковал неразборчивую благодарность. Они медленно ехали мимо дорожной канавы, березняка и сосен, низко над лесом летали ласточки, далекая кукушка обещала кому-то много лет. Монастырка крутила бедрами, как заправская плясунья, ее юбки шелестели пеной то у одного берега, то у другого, лоскуты частых островов мелькали нарукавными платочками, широкий крепкий стан переливался волнами.
Они добрались до Полынного поздним вечером, Зинаида Евграфовна уже легла. Флоренций призвал Степаниду оснастить его ожоги мазью, что вручил на прощание замечательный Савва Моисеич. Заодно не удержался – пожурил за сметанку с простоквашей и ромашку с медом, после чего вознамерился уснуть. Однако у ключницы имелись собственные виды: она принялась его рьяно потчевать куриным бульоном, пирожками со щавелем, варениками с вишней, прошлогодними мочеными яблоками, киселем, свежими бочковыми огурчиками, чаем с леденцами, к которым он в детстве проявлял охоту, но в последние годы вовсе отвык. Завидного аппетита так и не наличествовало, художник поклевал отовсюду помаленьку. Обработанные ожоги вели себя примерно, не тревожили. Мысли бродили вокруг лекаря. Признаться по чести, возвращаясь из тосканских земель, он думал застать дома только стоеросовых домостроевцев. В родной сермяжной глуши кланялись патриархальной старинушке, чтили и слушались попов, сторонились книжников. Оттого казалось, что на Руси и вовсе нет трезвых, развитых умов. Встреча с Добровольским, его открытый, честный взгляд на мир, его просвещенные суждения заставили Листратова переменить сей ракурс.

Страдать, но не замыкаться, терпеть, но не жаловаться – для этого нужен крепчайший внутренний каркас. Жаль, что не успелось спросить, где доктор получил свое образование. Наверняка за границей. И еще: отчего тот не женат? На руке отсутствовало обручальное кольцо, и повадки, смелость какая-от неодомашненная – не для стойла, а для пастбища. Да, доктор не рядовая пташка! Таких единицы, но каждая как жемчужное зернышко. Побольше бы насадить в эту землю, глядишь, и народится умненькая поросль.
Неумолимо тянуло в сон. Уже уплывая, в прозрачной ласковой дымке подступающего сновидения он поймал хитрый вопросец: точно ли Обуховский обращался к доктору по причине одного лишь душевного расстройства? Не водилось ли у него другого недуга? Жаль, что не спросил… Интересно.
Глава 4
В любой день и час окруженная заботой Зинаида Евграфовна Донцова, даже достигнув почтенного шестого десятка, так и не научилась нести бремя взрослой жизни. Мудрая маменька Аглая Тихоновна не нагружала ее повинностями ввиду неприспобленности нравственной конституции, по-простому – бестолковости. Послушный воле своей многоумной жены Евграф Карпыч тоже оберегал единственную дочь ото всех некрасивостей. Кабы дал им Бог сыночка, все могло пойти иначе, с барышни же прок невелик: едино только слушать чепуховые рассуждения да утирать слезки.
Отчаявшись заполучить наследника, супруги Донцовы отгородились от обманувшей их чаяния Зиночки, повернулись лицом друг к другу и зажили приватным мирком. Пока Флоренций забавлял своим малолетством, они посвящали много времени, забот и капиталов ему. В иное время скучали, нянчили старые кости. Сидеть возле собственной печи им представлялось интереснее, нежели прохлаждаться на виду у общества. Евграф Карпыч с Аглаей Тихоновной твердо положили, что на их век заработанного достанет с лихвой, потому не скупясь тратились на причуды, благотворительствовали, покупали породистых скакунов и серебряную посуду, ковры и безделушки, билеты в лотерею и голландские тюльпаны. Из развлечений они постановили поддерживать в коневодческой затее племянника Семена Севериныча Елизарова, ну заодно и привечали, баловали его детей – Антона и Александру.
Аглая Тихоновна выписала из далекой деревеньки родню – двух девушек на выданье. Она планировала сделать их близкими своей Зизи и тем самым смягчить той неизбежное в грядущем одиночество. Людмила и Тамила приходились внучками ее покойному дядьке, с той ветвью Донцовы общались нечасто, но тем лучше.
Так вышло, что Зиночка не унаследовала маменькиной хозяйственной ретивости и не удосужилась обзавестить кем-то вроде папеньки, чтобы помогал. Она привыкла отсиживаться, зачитываться сладкими романами, стаптывать ноги в дальних прогулках и не думать о насущностях. С годами непригодность к быту паче усугублялась, подначивалась родительскими щедротами и к пятидесяти превратилась в настоящий недуг. Когда один за другим ушли Евграф Карпыч и Аглая Тихоновна, поместье уже не купалось в прибылях, после же стало совсем нехорошо.
Зинаида Евграфовна имела глупость сразу же, буквально назавтра после отпевания, разругаться с приходским батюшкой Иеремией. Увлеченная книгами и живописью, она не больно доверяла церквам и часто пропускала службы. К попам ее душа не лежала смолоду, когда у нее не приняли подношения в храм – самолично состряпанной иконы святого Варфоломея. Тогдашняя обида засела занозой, не выковырялась. К Господу у нее накопилось много вопросов, но решать их требовалось без козлобородых посредников. По глупости она не умела скрыть своих воззрений, что, разумеется, не красило помещичье сословие – опору российского престола. Поп затаил то ли обиду, то ли злобу. Пока старая барыня грозно поглядывала на него, он держал рот закрытым, а когда той не стало, сразу затявкал.
Следом за Иеремией отвалился и бурмистр Евдоким. Этот просто зазнался. Аглая Тихоновна возвысила его до советников, уважала, доверяла, вот у того и распушился хвост. Барышню же он не привык принимать всерьез, а она все не утруждалась найти подходец.
Первой и самой глупой ошибкой Зинаиды Евграфовны стала уплата по всем выписанным батюшкой векселям. Маменька всегда отдавала с урожая, с прибытка, но никогда весной перед севом. Кредиторы, великие хитрецы, знали это правило и сунулись со своими бумаженциями скорее на разведку, просто так. Их несколько смущала хозяйственная неодаренность новой барыни. Ну она и не оплошала – подтвердила их худшие опасения. Евдоким за это попенял, как уличному сорванцу, она в ответ вспылила, слово за слово, понесся паводок с горы.
Потом Зинаида Евграфовна отягчилась добренькими, но глупенькими Людмилой и Тамилой, отослала их сиротствовать обратно в дальнюю деревеньку. Бытовать в усадьбе стало некому, пустые комнаты шли вереницей, как гуси на водопой. Даже замечательный балкон пришел в запустение: после кончины маменьки с папенькой Донцова не любила на нем чаевничать, Степанида велела девкам поливать цветы в вазонах, но ими никто не любовался.
Аглая Тихоновна к Великому посту имела привычку белить стены, перемывать окна, буфеты и мелочь в них. Однако в прошлом году Евграф Карпыч уже ослабел. Чтобы не тревожить его остатние дни, суету отложили. В этом же году Зинаида Евграфовна запамятовала, что маменька велела блюсти дом к празднику, и он стоял хмурый, посеревший, сам собой сгорбившийся.
А после Пасхи прибежали рукодельницы. Они давно выкупились и сидели в прежней мастерской из одного уважения к старой барыне. Ну, и из доверия ее коммерческим талантам. Надо заметить, что Аглая Тихоновна не больно жаловала крепостных. По ее наблюдению, они работали хуже, ленивее. С наемными дела шли не в пример веселее. Так в Полынном осели пришлые, а своих насчитывалось едва сорок домов. Тех хватало, чтобы прокормиться. По кончине старой барыни рукодельницы разбежались, а Зинаида Евграфовна не умела их остановить или набрать новых. Ей показалось удачным сбыть лишнюю мороку: чтобы не ждать по полгода сукно, не рядиться за меха, не ссориться, если кто из заказчиков останется недоволен. Как раз и денежный ларчик поистощился, поскольку из него уплачено до сроку по векселям. Она не стала лупить цену и за станки, взяла для приличия, сколько дали. Не успели они ударить по рукам, как прибежал Евдоким, затряс бородой, завопил как оглашенный:
– Ты чего это материн труд да в выгребную яму? Не ты сгоношила, не тебе и разбазаривать.
Зинаида Евграфовна прочитала ему ледяным тоном отповедь, чтобы не лез не в свои дела.
– Так ведь это кормушка! Твоя кормушка, барыня! – Бурмистр досадливо махнул рукой, отвернулся и вышел вон, приговаривая: – Дай дуракам власти, развалят Русь на части.
Донцова притворилась, что недослышала, и рьяно взялась доводить сделку до конца. Правда, накануне расчета в Полынное прилетел взмыленный Семен Севериныч, залопотал бессвязное:
– Это что ж, Зинаида? Разве так дела делаются? Вы чем же жить собираетесь, сестрица неразумная?
Она его тоже не послушала, всегда знала, что у Семена Севериныча только стати лошадиные на уме, в другом он не смыслит. К тому же сильно охоч водить дружбу с суконными рылами, они-де в коневодстве знатоки.
Вырученных с мастерской денег ни на что не хватило: пришел срок платить в казну, а еще износились ворота на конюшне, невесть с чего случился падеж коров, старый охотничий пес загрыз поповского петуха – главного среди прочих – и покусал приезжего горожанина. Во избежание бучи она предпочла щедро отдариться.
После Зинаида Евграфовна решила, что раз у нее не наличествовало более мастерской, то и во льне нужды нет. Лучше сеять пшеницу и овес, как все. К вящей досаде, много одолеть не удалось, потому что три самых крепких мужика пришли с поклоном да с рублем, просили отпустить. Слова их звучали резонно. Донцова позволила им выкупиться. Пусть. Маменька тоже говорила, что если душа крестьянская не лежит к барину, то лучше его вовсе отпустить на четыре стороны, хоть бы и бесплатно. Проку с такого не выгорит, а хлопот не оберешься. Зиночка эти слова крепко запомнила. Вернее, только их из всех маменькиных наветов и помнила. Полынное поредело, Ковырякино вообще обезлюдело, превратилось в пустошь. Без рабочих рук не вспахать и не обиходить поля, не сжать. Нанимать работников нет денег, а не нанимать – так и не будет.
Когда Флоренций, усталый, голодный, обожженный и напуганный приключившейся жутью, переступил родной порог, дела в имении еще шли, не совсем застопорились. Привычная к походу, долго и отменно служившая телега не умела быстро останавливаться. Но все уже ворочалось не так, не как при Аглае Тихоновне: вяло, без ретивости, со скрипом и чертыханием. Сначала Листратов подумал, что тому виной скоропостижная кончина хозяев – одного за другим за одну суровую зиму, но потом показалось, что дело не только в оном, дело гораздо серьезнее, и он ничем не мог помочь своей старенькой растерянной Зизи.
Изначальный план – податься к осени в столицу, искать там признания – скукожился и болтался на ветке умирающим квелым листком. Но и в хозяйственных хлопотах от Флоренция едва ли предвиделась польза. Он ваятель, а не домоправитель и не купчина. В любом деле нужен навык, и чтобы душа лежала. В нынешнем же положении прок от него один – не позволять тухнуть почтенной Зинаиде Евграфовне.
После вчерашнего визита к доктору Савве Моисеичу отменно воспряли и тело, и дух. Больной плотно позавтракал кашей с ягодами, отказался от расстегаев, вместо них попросил киселя. Его опекунша, наслушавшись просвещенных речей про вред тяжелой и сытной пищи, тоже старалась не налегать на мучное. После полагалось почаевничать и побеседовать. На этот раз Зинаида Евграфовна решила накрыть стол во дворе. Лето задалось сухим, безобидным, голосистые пичуги бойко порхали, щебетали, сыпали трелями из каждого куста, садовые ароматы кружили голову. Если не в это сказочное время сидеть на лужайке в обнимку с самоваром, то когда же? Степанида застелила круглый стол свежайшей льняной скатертью, притащила пузатые кружки, и началось каждодневное представление из варенья и баранок, печений и засахаренных фруктов.