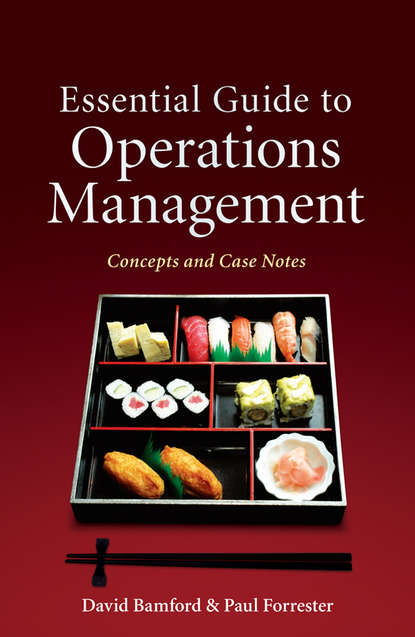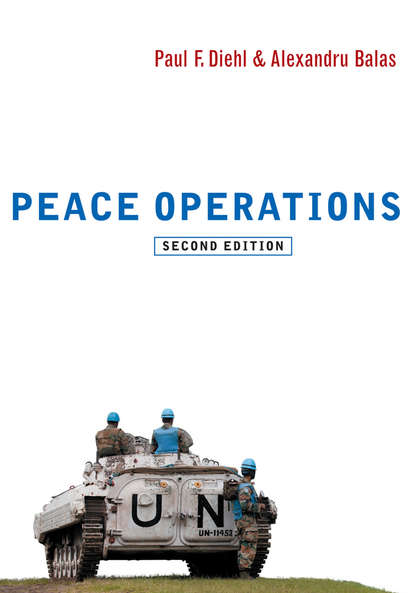- -
- 100%
- +
– Мы от барыни, – начала я, и он принялся меня осматривать, будто несла я полную чушь.
– От Домны Палны мы от Митрошиной! – вышла вперед Глашка.
– Чаво изволит барыня? – мужичок щурился на солнце, но я видела, что глаза его были голубыми, как небо, а на солнце и вовсе казались прозрачными, бесцветными на фоне очень уж загорелого лица.
– Она три мешка черной шерсти заказывала. Битой, – уточнила Глаша. – Вот, пришли забрать.
– На себе ли, чо ли понесете? – мужичок глянул за наши спины, будто надеялся увидеть за воротами телегу.
– Свихнулся, старый? – бесцеремонно ответила Глаша. Куда нам с барыней, – она мотнула головой на меня. – Чичас заберем, а там коляску поймаем.
Мужичок странно обвел нас недоверчивым взглядом и пошел к дому. От крыльца он неожиданно громко закричал в сторону открытых настежь дверей в дом:
– Матвей Демидыч, это к вам, видать. Выйди, а то, не ровен час, огрею чем эту бабу. А мне в кандалы нельзя: у меня деток малых полон двор.
– Огрей сначала, потом хвастай, мол, управился, – не сдавалась Глаша. Мой веселый настрой вроде даже начал подниматься, несмотря на ситуацию. Она была больше смешной, чем опасной.
Из дома показалась сначала бородатая черная голова. Потом вышел мужчина лет пятидесяти. Зыркнул на нас, и я заметила, как Глаша задрала подбородок.
«Неужто и тут она собралась искать себе суженого?» – подумала я. И не ошиблась. Словно лебедушка, девица подплыла к крыльцу и совершенно чужим голоском вывела:
– Матвей Демидыч, ну что у вас за работники, коли девушек обижают? Мы вот за шерстью от Домны Палны. Забрать, значица, шерсть. Только черную, без единого белого али серого пятнышка требуется, – она теребила бусы и водила бедрами так, будто по дороге у нее лопнула резинка на трусах, и сейчас она хотела незаметно их скинуть.
Я прыснула от смеха и отвернулась. Мой смешок не остался незамеченным, и мужик вдруг будто очнулся от Глашкиного нелепого жеманства.
– Иван, принеси мешки, что позавчера били. На их черные ленты. Это для Митрошиной, – крикнул он в сторону, а потом, зыркнув на нас, вроде как хотел что-то добавить, но не стал.
Тот же мужичок, у которого с Глашей началась и не закончилась перебранка, вынес мешки из добротного, хорошо сколоченного сарая, где ровно и четко работала машина, звуками походящая на паровую.
– И хто тебя за язык-та тянул, дура? – Глаша недовольно сопела, неся пару мешков на плечах. Я несла один, держась обеими руками за те самые черные завязки. Глаша несла пару и пыхтела не хуже той машины в сарае.
– Глань, ну прости, смешно было, правда. И чего ты так виляла там? Неужто и он тебе сойдет за мужа? Старый вроде для тебя, – я чувствовала вину, но смешно было сильнее, чем стыдно.
– Блаженная ты, Надька, правильно барыня говорит. Как есть блаженная. Ни ума, ни хитрости. Так, глядишь, он бы пожалел нас, да коляску свою отправил. А может, и сам бы нас отвез. Ехали бы чичас, как барыни, а в нашем околотке девки бы обзавидовались вовсе.
– А потом бы тебя его жена за космы оттаскала, – успела я вставить между ее причитаниями.
– Нету у его жены. Помёрла. Прошлым летом. Трое детишек у их малолетних осталось. Знаешь, сколько к ему баб сватается? Даже молодки не против на такое-то хозяйство. Глядишь, выкупил бы меня, зажили бы, – мечтательно замурчала Глаша, будто уже представляя себе, как нежится на белых простынях да чай на веранде попивает.
– Так во-от, чего ты так вырядилась. Я-то думала для молодых парней, а ты старика заприметила, – говорить на ходу было тяжело, но я не промолчала, потому что в начале нашего похода Глаша ничего не рассказала о видах своих на Матвея Дерюгина.
– Заглохни и иди себе, барыня деланная, – не зло, но стараясь поддеть, ответила Глаша, а через несколько секунд добавила: – Не старый Матвей Демидыч. Ему до тридцати ишшо жить и жить. Только после смерти жены своей вон как поплохел. Все не оправится.
– А ты, значит, решила, что сердце его сможешь растопить? – тихо сказала я.
– Чаво ты тама под нос урчишь, как кошка? – поинтересовалась Глаша.
– Ничаво, иди. Скоро уже дома будем, – заметив поворот к нашему околотку, ответила я.
Не обедая, мы переоделись и бросились на реку. Половиков, набухших в воде, оказалось очень много. Деревянные штуковины, единожды виденные в моем детстве в бабкином сарае, оказались средствами для стирки таких вот половиков и грубых полотен. Похожие на скалку валки с тупыми зубцами вместо плоской поверхности приходилось катать, предварительно намылив.
Я радовалась, что можно было ополоснуться, но Глаша следила за мной, предупредительно поставив меня у плотика со стороны, выше по течению. Видимо, сообразила, что если снова юркну под плот, сможет меня поймать.
Я поливалась водой между делом, а потом, несмотря на косые взгляды Глаши, начала мылить свою мокрую рубашку, шею и руки.
– Запылилась? – поинтересовалась она.
– Вспотела с этой шерстью. Слушай, а мы ее не проверили. Вдруг там и правда не черная? Домна нас самих тогда дочерна побьет, – предположила я.
– Не такой Матвей. Никогда никого не обманывал, а барыня и так найдет, до чего доковыряться, – успокоила меня Глаша.
Половики мы вывесили на заборе почти вечером. Солнце еще грело, но комары, почуявшие начало прохлады, уже вылетели на охоту.
Я переоделась, повесила выстиранное платье на веревку за домом. И заметила Нюрку, споро чистящую на чурочке у кухни рыбу.
– Здорово, Ань. Хороший улов, гляжу. А у тебя быстро получается, – начала я, шагая к ней.
– Это у вас работы нету, а мне еще вон сколь надо перечистить. Барыня солить велела, – она указала на большой таз, полный щук. Некоторые еще боролись за свою рыбью жизнь.
– Хочешь, помогу? – предложила я. Не зная, сколько мне здесь еще придется пробыть, я понимала, что с одной Глашей в единомышленниках мне придется тяжело.
– А ты умеешь? – недоверчиво хмыкнув, спросила Нюра.
– Конечно. Чего тут уметь-то, – я осмотрела рыбу. В моем детстве таких огромных щук ловили редко. А если и ловили, то шли они чаще на фарш, потому что были старыми и сухими. Бабушка любила пироги со щукой, луком и сливочным маслом. И я любила.
– Ну, коли умеешь, неси чего вместо табурета, да присаживайся. А я нож принесу, – Нюра почесала нос тыльной стороной ладони, и я поняла, что она не знает, как со мной себя вести. Я всегда касалась лица, когда мне было неудобно или нужно было занять чем-то паузу.
Мы чистили рыбу до темна, сначала молча, а потом я рассказала, что не все помню после удара о камень в реке. Поделилась, что ходили с Гланей за шерстью. И добавила, что удивилась, когда хозяйка уехала так рано.
И Нюра начала открываться.
Глава 11
Заполошные крики поутру заставили вскочить с постели. Мне казалось, что я только-только заснула. Голос Фирса перебивался тихими приказами Осипа Германовича. Пока я одевалась, передумала все, что можно. Странным здесь были не крики, а то, что ругалась не Домна!
Я выбежала в гостиную, кое-как натянув платье. Рубахи были слишком изношенными, чтобы сигать в них по дому среди мужчин. И мне предстала такая картина: Осип Германович шел, тяжело опираясь на трость, а за ним четверо мужиков, среди которых был Фирс. Я отступила, чтобы они, минуя гостиную, прошли к комнатам хозяев.
Когда Осип Германович отошел, я оторопела. Мужики на покрывале несли Домну. Я мигом открыла дверь, пробежала в темную комнату и принялась разбирать постель хозяйки. В спальню прошмыгнула Глаша с чадящей, видимо, наскоро зажженной керосиновой лампой. В рубашке и накинутой на плечи шали, со взъерошенными волосами она была похожа на умалишенную. Не красили ее выпученные то ли от страха, то ли от непонимания глаза и приоткрытый рот.
– А чево это с ей? – оттолкнув меня в угол, чтобы хозяйку могли пронести, прошептала Глаша.
– Думала, ты знаешь. Проснулась от криков, – ответила я растерянно.
– Пропускайте лекаря, – все так же спокойно заявил хозяин.
Мужики вышли, и в комнату вошел тонкий, как жердь мужчина лет шестидесяти. Несмотря на то, что вид он имел заспанный, одет был как на воскресный променад. Присмотревшись, поняла, что китель военный, а значит, лекарь сей прибыл из военной части.
– Выехать велела в ночь. Расстроена была сильно. Но приказала гнать. По дороге сразу и случилось, – Осип рассказывал, казалось, спокойно, но в голосе его слышался страх. – Ругалась, голосила, а потом как будто сдулась. Лицо скривилось, осела на диване как квашня. Домчали впервые за шесть часов!
– Апоплекси-ческий удар, не иначе, – лекарь стоял спиной к нам, забившимся в угол возле окна. Но я видела, что он осмотрел лицо нашей хозяйки. Потом поднял руку, и та плетью свалилась на кровать.
– И долго это… лечить? – голос хозяина все еще был собран, но дыхание сбивалось. Видимо, тяжело ему дался этот путь. Но, к его чести, мужчина не впал в истерику, не угрожал, не мешал врачу.
– Это… – доктор отошел от постели Домны и обратился к Осипу: – Это может пройти само, и тогда Домна Пална останется в кровати до конца своих дней. Или же, – он стал говорить еще тише, – она не переживет сия удара.
В комнате вдруг стало тихо. Слышно было, как в гостиной тикают большие напольные ходики.
– Кто всего ближе к барыне? – лекарь обернулся и, увидев нас, стал переводить взгляд то на одну, то на другую.
– Надежда. Она была с ней все время, – ответил Осип Германович, и я, наконец, оторвала взгляд от поплывшего лица хозяйки и уставилась на хозяина.
– Да, я, – ответила, но в голове было только одно: «домчали за шесть часов». В наше время не нужно быть неврологом, чтобы знать о «золотом часе», о скорой терапии и медикаментах. А тут о них ничего и не слышали еще.
– Присмотрите за Домной Палной. Мы с Осипом Германычем чаю выпьем, – спокойно и с улыбкой сказал доктор и вывел барина.
– Нюрка чайник уже сготовила. Я с тобой остануся, Надя. Гляди, как ее перекочевряжило, – Глаша так и стояла на одном месте с выпученными глазами.
– Барыня, – обратилась я к хозяйке, расстегивая пуговицы на блузке, – Домна, посмотри на меня! – почти приказала я.
– Ты чего? Потише! Она ить тебе припомнит это! – Глаша неслышно подошла сзади.
Я взяла руку хозяйки и, подняв палец, чтобы Глаша помолчала, отсчитала пульс.
– Ничего она уже не припомнит, подруга, – я села рядом с Домной на кровати. – Непонятно, как она вообще доехала эти шесть часов.
– Неужто кончается?
– Кончается, – я посмотрела в полуоткрытые глаза Домны, подняла веко. Ничего хорошего я не увидела и там.
– Надо за попом послать, – прошептала Глаша.
– А что ты им скажешь? Что точно знаешь, что она умирает? – я пожалела, что проговорила свои мысли при девушке вслух.
– Ну… не хорошо отходить без попа, Надьк. Хоть она и была нехорошей да злющей, а не хорошо! – в голосе моей товарки появились те самые завывающие нотки.
– Ладно, сиди тут. Я сама что-нибудь им скажу, – я встала и пошла к двери. Когда оглянулась, Глаша стояла за моей спиной.
– Ни за что тут не останусь. Страшная она, как сама смерть!
– Ладно, за дверью постой, тут, в коридоре, – я оставила Глашу и тихо пошла в гостиную.
– И чего она так отреагировала, Осип Германыч? Давно уже эти слухи ходят, и многих приглашали уже в коллегию. И со многими обсуждали, как поступать с крепостными, – голос лекаря был спокоен и даже несколько ленив. – Все идет к одному…
– Говорил, Николай Ильич, говорил, готовил. Знал, как она отреагирует. И от этого всегда заводил разговор. А тут это приглашение на собрание, черти его дери, – Осип шипел сквозь зубы.
– Так много вы теряете? – уточнил о чем-то лекарь.
– У Домны девять деревень. Это с виду мы скромно живем. А она и особых припасов не делала. Земли покупала да сыну на учебу не жалела. Я-то готов давно ко всему. И уж говорил ей, что так или иначе отмена-то не больно по нам ударит. Ну кто из их сможет выкупить земли-то? Сколько еще лет им придется на нас работать? Тогда и нас не станет уже, а значит, и переживать не с чего.
– В случае все вам останется? – зачем-то поинтересовался любопытный докторишка.
– Не станем пока об этом говорить, Николай Ильич. Поди, все еще как-то образуется, – неуверенно предположив хороший исход, решил поменять тему барин.
– Только Бог ведает, Осип Германыч, только Бог, – кряхтя, но довольно резво, мужчина встал и направился к выходу.
– Я провожу вас. Благодарю, что прибыли быстро, друг мой! – заскрипело кресло барина.
– Не провожайте. Фирс меня отвезет, – дверь хлопнула, и я вышла в гостиную.
– Барин, прости, что нос свой сую, но барыня мне велела, еще будучи в крепости и здоровье, коли сильно занеможет, попа звать, – выпалила я.
– Попа? – барин замер и вытаращился на меня, а потом захохотал. Но лицо его моментально, как у младенца, поменялось: кончики губ опустились, глаза застлали слезы.
– Попа. Так и велела! – уточнила я.
– Думаешь, не подождет это до завтра? – он спросил меня так серьезно, что мне стало страшно. Он смотрел на меня сейчас как на человека, который взял на себя ответственность, сняв с него.
– Нет, барин. Не доживет она до утра. Зовите попа, – я повторила просьбу уже другим тоном, более уверенным. И он крикнул Нюрку.
Когда наша кухарка вернулась с батюшкой, не спал уже весь дом. Народ собирался во дворе, но словно не хотел быть увиденным. Толпились на задах, ближе к мастерской, где жили Фирс и Глаша. Там же рядом была конюшня, и сейчас то там, то тут вспыхивали огни керосинок.
Я постояла возле Домны, отерла ее рот, из которого текла слюна, и, когда во дворе услышала коляску, наклонилась и прошептала в ухо своей недолгой мучительнице:
– Домна, видит Бог, коли могла бы, помогла. Но нет такой возможности. Прости меня, ради Бога. А попа… не знаю, может ты и правда не любишь церковь, но если слышишь, то тебе полегче будет, коли рядом кто-то будет. И за руку тебя подержит. Прости.
Домны не стало к утру. Барин позвал меня и поблагодарил за то, что я посоветовала ночью. Он не спал вторые сутки. Я велела привезти лекаря, чтобы тот дал ему капель для сна. Еще один покойник – хозяин мне был не нужен. Крепостное право отменят только к весне, а нам еще надо пережить зиму. Но теперь у меня есть время все обдумать и решить, как жить дальше.
Глава 12
Осень потянулась проливными дождями, криком улетающих птиц, запахом сушащихся в печах грибов и ягод, утренними молочными туманами, не сходящими порой до обеда.
Первый снег приободрил всех. Город будто выспался, умылся и покрыл нарядную пуховую косынку, чтобы выйти в люди. Дым из труб теперь курился почти постоянно. Запах, знакомый мне с самого детства, вытеснил остатки переживаний. Или же я смирилась, сжилась, свыклась и, как говорила Глаша о женщинах, которые с трудом, но привыкают к новому дому, к мужу, «окортомилась».
– Ежели барин нас сразу из дому не попёр, то, поди, и дальше оставит. А то мне и пойти некуда, Надьк, – Глаша теперь жила со мной в доме хозяина и вечерами, когда вся видимая и невидимая работа заканчивалась, трещала без умолку, будто сорока.
– Мне тоже некуда, Глаш, так что ты не одна. А коли выгонят, то и пойдем с тобой по миру, – особо не вникая в ее рассуждения, я читала свежую газету хозяина. Вернее, не совсем свежую: пресса из столицы сюда доходила недели через две.
– Ты ведь щас весь дом ведешь. Я и не знала, что ты столькому у барыни, Ца-арствие ей Небесное-е, научилася.
– Спать пора, Глань. Давай завтра порассуждаем. Я сегодня полдня комнаты мыла, а вторые полдня починкой занималась. Перед глазами сейчас только нитки да щелки в полу, – я отложила газету и принялась переодеваться.
Носила я теперь простые платья или рубахи с юбками. Наряды, что остались из прошлой жизни, Нади надевала только в город.
Мне хотелось, чтобы время замерло, не торопилось. Ведь с новым законом придется мне, как ёжику: узелок на палочку и семенить в туман со своими мыслями. А здесь тепло, сытно и даже уютно.
Думая, что время еще есть, я засыпала с ладошкой под щекой. Такой привычки я не имела, а значит, у тела моего нового была и своя память.
Ранним утром я вставала досветла, потому что высыпалась, уснув до десяти вечера. Присматривала за голландской печкой, растопленной Фирсом, чтобы барин, проснувшись, пил чай возле нее в тепле. Я стала замечать, что встает он со своего кресла все тяжелее. Мне искренне было жаль человека, который плохого мне ничего не сделал за все время. А даже наоборот: не погнал из дома, не выяснял, чем я занимаюсь и стоит ли меня тут вообще держать.
Осип Германович будто жил прошлой жизнью, только громкоголосой помехи не стало. И теперь чай пить за газетой или очередной книгой стало гораздо приятнее.
Но нет-нет, а глянет на стул Домны, будто забывшись, хочет чего-то сказать, а ее не оказывается там. И тогда плечи его опускаются. Любил ли он ее? Думаю, да. Столько лет жить с человеком, даже не с самым хорошим характером, вырастить сына, вести дела. Даже вот пить чай ежедневно!
– Етить ее, спину мою. Будто Домна не померла, а уселась сверху, – прошептал он надсадно, вставая после завтрака.
– Осип Германович, а может и такое быть. Коли на себе все нести, то и спина заболит. Может, тревожит чего-то? – задумавшись, брякнула я и, опомнившись, прикрыла рот ладошкой.
С самоваром в руках, будто статуя, замерла Глаша. Мне показалось, что я телом почувствовала, как она представляет нас, живущих на улице.
– Надежда, это все не дело. Это болтовня одна и цыганщина. Говорят, хорошие костоправы на ноги ставят даже не ходящих. Да вот где их разыскать, тех костоправов? – он, как и я, ответил автоматом, а потом резко посмотрел на меня, будто перед ним только что заговорил самовар.
– Давайте намажу спину прогревающей мазью. У Домны Палны ее много осталось. Я знаю, как мазать и какими движениями. Она меня и учила. Говорила, что ей какой-то дохтур из Троицка показал, – я ковала, пока горячо. Мне барин нужен был сейчас как воздух. От его здоровья зависела моя жизнь и покой.
– Не смеши, Надюшка, ой не смеши! – захохотал он, и на его смех в двери постучали. Кто-то открыл. Долго шептались в прихожей, а потом вошел Фирс.
– Рано ты, Фирс. Опосля обеда поедем. Спина болит… мочи нет. А Надежда вот предлагает втереть какие-то специальные мази барыни покойной, – Осип не успокаивался, хохотал и держался за живот.
– Да я не за энтим, барин. Там, – Фирс мотнул головой в сторону передних ворот для пущего понятия, где именно, – к вам пришли, барин.
–И кто так рано? Неужто без договоренности нонче до обеда не ждут, а ежели я еще не одет? – барин, в отличие от его покойной жены, часто перенимал речь своих дворовых. Или же он так и жил всегда: с людом по-людски, а с важными персонами по чинам?
– Лекарь там. Ну, тот, что Домну Палну… – Фирс не мог подобрать слова, потому что «лечил» сюда мало подходило. Я бы сказала, «прикончил».
– Зови, зови, чего доброго человека на холоде держать? – поторопил его барин и с долей ненависти посмотрел на свое кресло.
Пока я снова накрыла чай, сбегала за пирогами до кухни да обернулась, за столом в гостиной велась беседа. Я не особо интересовалась сплетнями, которые тут были основной темой, но прислушивалась. Только так я могла получить какую-никакую информацию.
– Значит, Николай Ильич, вы ко мне с простым визитом? Ра-ад, рад, что не по делу. Давно вас не видел, – барин присел на стул Домны. Стул был повыше. И его спине, прижавшей, видимо, уже сильно, на нем было поудобнее.
– Не совсем-с, хотя… да. Пришел справиться о вашем здравии, Осип Германович.
– Да все нормально, только вот спина чегой-то побаливает, но… – тут барин снова начал смеяться, и я поняла, что сейчас он расскажет доктору о моем предложении.
Так и случилось. И они несколько минут смеялись. Но лекарь потом даже не вспомнил о жалобе и не соизволил выяснить, откуда растут ноги у этой боли.
– Так вы говорите, что и дело у вас имеется? – напомнил внимательный во всем Осип.
– Да… – лекарь мялся, будто собирался просить денег в долг, но все никак не мог на это решиться.
– Говорите, говорите. Не раз вы меня выручили, так и я, может, коли не помогу, так насоветую чего, – барину стало интересно, и я заметила, как во взгляде его что-то блеснуло.
– Хорошо, так и быть. Я понимаю, что вам сейчас не до… не до… В общем, моя сестра Степанида Ильинична, как вы знаете, вдовствующая дама, но при доме, при сыновьях и дочерях. Но женщина еще не пожилая и…
– Помощь, коли нужна какая, не стесняйся, Николай, говори, как есть. Коли в моих силах, помогу, – решил помочь ему барин. А я вдруг поняла, что вот так вот баб расписывают только в двух случаях: либо хотят чужую жену похвалить, либо ее, значит, эту бабу в жены кому-то набивают.
– Хочу предложить вам ее в супруги, – на выдохе выпалил лекарь и замер, вперив колючий карий взгляд в барина.
– В супруги? – барин даже не напрягся, потому что, судя по всему, и не понял.
– Как есть в супруги. Негоже вам, дорогой Осип Германович, одному. Молоды вы еще, сильны и… одному-то ой как несладко в нашем возрасте, – торопился описать все причины лекарь.
– Это мне, что ли, супругу? – почти по слогам спросил Осип.
– Вам. Коне-ечно, не сейчас, а летом или даже осенью, чтобы траур соблюсти, – умасливал лекарь, заметив, что барин глядит на него вовсе не зло, а даже расположен к обсуждению сей темы.
– Никола-ай Ильи-ч, ми-илый! – затянул барин, будто хотел покрыть все факты собеседника очень жирным козырем в виде препятствий, но начал хохотать. От души, громко, как хохотал давеча надо мной.
– Н-ничего смешного, Осип, ни-че-го! – Николай Ильич даже привстал в кресле, будто хотел показать, что оскорблен.
Но хозяин мой не заметил бы сейчас не только этого движения его. Если бы в избу вошли с гитарами цыгане с медведем, то и их бы проигнорировал.
Убежал гость, так и не дождавшись путного ответа. Барин смеялся, повторяя одно: – Эт я, што ль, жаних? Я? Осип Германыч? Я? Жаних?
Когда он успокоился, то посмотрел на свое кресло, а потом понял, что сидит на стуле Домны, и плечи его поникли.
К вечеру барин не мог сесть. Спину пересекло. Фирс бегал вокруг, отправил за лекарем, но тот не явился. Сказали, что выехал из части по делам.
Я, ничтоже сумняшеся, сходила в комнату преставившейся хозяйки, забрала пахнущую камфорой и эвкалиптом мазь и заставила Фирса проводить меня в комнату к хозяину. Тот лежал в странной позе и боялся пошевелить.
– Нервы это все, барин, – начала я, понимая, что сейчас он меня выгнать не сможет. – Мять спину пока нельзя, но вот намазать разогревающей мазью намажу. Фирс вам рубаху подымет, одеялом вас накроет. А я намажу. А утром вы на завтрак не вставайте, в постель еду принесем. И на двор не вставайте, Фирса оставьте тут с вами на ночь, да вот хоть на диване, – указала рукой на диванчик с деревянной спинкой, густо сдобренный подушками с кисточками.
– Эт чего ты, Надежда, приказы раздаешь? Окортомилась без барыни? – прошептал барин. Видимо, даже говорить громко боялся. Знала я, что это такое. Тут не то, чтоб повернуться – пукнуть, пардон, страшно.
– Не окортомилась, барин. Нам без вас жизни не станет, сами знаете. Так о ком я должна заботиться, как не о вас. Вы ж умный человек, должны понимать. А коли мы не станем, мигом вас заженют. Глазом моргнуть не успеете, как на шею сядут и ноги свесят. Не посмотрят, что спина и без того натружена!
– Ой, не смеши меня снова, Надежда! И так дышать боюсь, – Осип Германыч с трудом сдержался. – Скоро сами по себе станете, – прошептал он, поддавшись Фирсу.
– Станем. Только вот коли захотим. Выбор, сам понимаешь, барин, небогатый. А теперь пусть Фирс принесет подушки все из спальни барыни и подложит под спину, – я решила не приказывать сама, а давать советы.
Через пяток дней барин был как новенький. Даже присел два раза. А говорил, что не приседал уж лет десять, не меньше.
Тогда он меня и перестал звать Надькой. Теперь называл Надеждой. И говорил это так, будто не имя совсем произносил:
– Надежда, теперь вся надежда со спиной только на тебя!
Глава 13
Барин все лавры своего лечения быстро отдал мази, которую я использовала. Я не переубеждала, потому что природу своих знаний мне пришлось бы высасывать из пальца. А Надежда, судя по рассказам Глаши, родилась и выросла тут, в городе Верхнеуральске Оренбургской губернии. И сызмальства жила при барыне. Сосать из пальца какую-то историю своих знаний пришлось бы так тщательно, что стало бы возможным накачать губы безо всякого силикона, или чем их накачивают до размера вареников?
Когда через месяц барин снова начал держаться за спину, я предложила повторить «втирания». На что он ответил однозначным отказом и для убедительности открыл мне тайну: