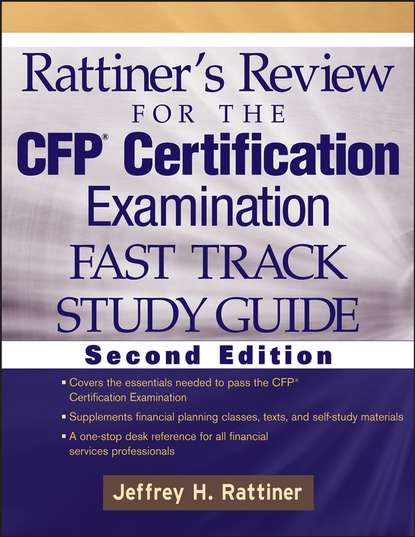Вдова на выданье

- -
- 100%
- +
– Клавдия Сергеевна, да сбережет ее вечный покой сила великая, Леониду мою не жаловала, – проговорила Домна, упрямо смотря в темноту коридора, и мне ничего яснее не стало. – Вам ли, барыня, не знать: хоть и родная кровь, а с глаз прочь, и сердцу спокойней.
Зря я отдала ей поднос, не знаю, как ее дочь, но Домна сама выглядит не очень здоровой психически.
– Кто кому родная кровь?
– Леонида моя, барыня, Ларисе Сергеевне, да Матвею Сергеевичу покойному, да Клавдии Сергеевне покойной, родня! – всерьез возмутилась Домна. – Хоть и покойного младшего брата покойного Сергея Акакича дочь, а родня!
Многовато я насчитала покойников. Домна, выходит, вдова родного дяди Ларисы, я не единственная здесь золушка, у Ларисы эксплуатация ближайшей родни поставлена на поток.
Мы дошли до двери, и я осторожно потянула за ручку, приложила палец к губам, сперва заглянула в комнату. Дети спали на той самой узкой кровати, Парашка что-то шила, носом уткнувшись в ткань. Я кивнула Домне – заноси поднос, опять приложила палец к губам, теперь уже для обернувшейся к нам Парашки.
– Ужин принесла, – прошептала я. – Иди, Домна, будь спокойна. Спасибо, что помогла.
– Хранит вас сила великая, барыня, – на прощание сказала мне Домна и ушла.
Парашка, не отрываясь, смотрела на поднос и озадаченно чесала голову, чересчур остервенело, как по мне, не станут ли следом за ней чесаться и мои дети?
«Барыня, барыня, – рассеянно подумала я, двигая поднос подальше от края стола. Если я завтра не прикажу переселить нас наверх, нужно будет здесь разобраться. – Барыня. Ларису никто при мне барыней не называл, это что-то да значит?»
– Где мои бумаги? – спросила я. Парашка уселась на единственный стул, мне места уже не было, и я устроилась на сундуке, отметив, что сидеть в теле Липочки мне намного мягче. Предположим, что на самом деле я лежу на ортопедическом матрасе в самой крутой клинике города, но все же. – Не смотри на меня как баран на новые ворота. Бумаги все мои дай.
Я выдернула из-под зада плоскую, не слишком чистую подушку и положила ее подальше в изголовье, если таковое было у сундука. Жестче сидеть мне не стало, мысль, что сундук и есть моя постель, удручала, но не смертельно, переживу.
Парашка воткнула иголку себе в воротник, бросила шитье на стол, сложила на груди руки и чего-то ждала.
Когда я открыла рот, чтобы в третий раз повторить свой приказ, Парашка с досадой надула губы.
– Встань, барыня, так я дам…
Логично, что бумаги как раз подо мной. Какие еще в этом сундуке хранятся сокровища?
Глава 4
Я встала, Парашка засуетилась, закатала рукава, будто я ей фуру разгружать приказала. Она священнодействовала, снимая с сундука постель, я ждала.
Здесь темно, душно, по стенам ползет плесень, при этом постель не влажная и есть какая-никакая, но вентиляция. Недостаточно условий для хранения муки или зерна, значит, прежде здесь держали что-то вроде солений или, может быть, овощи.
– Ты эту комнату выбрала? – поинтересовалась я у оттопыренного старухиного зада – она по пояс нырнула в сундук.
– А то? – глухо подтвердила Парашка. – Ты, барыня, запамятовала? В кухне вода леденела, как мы приехали. На вот, держи, – она выпрямилась, сунула мне крепкую пачку бумаг, основательно перевязанную толстой бечевкой. – Как вверенный все отдал, так никто с тех пор и не трогал. Чего тебе на ночь глядя понадобилось?
– Кто отдал? – переспросила я, проигнорировав ее любопытство.
– Вверенный. Забыла? – развела руками Парашка и наклонила вбок голову. – А и то, после похорон ты не в себе была.
Поверенный, догадалась я и тут же нащупала сургучную печать. Отлично, просто великолепно, хотя бы исполнители закона тут добросовестны. Я покрутила пачку в руках: ни разорвать бечевку, ни развязать ее я не могла, и Парашка, понятливо кивнув, вытащила на свет здоровенный такой тесак. Я сначала вздрогнула, потом с трудом скрыла довольный волчий оскал. Потрясающее оружие – если ко мне кто сунется, даже не успеет пожалеть.
Я, ловко подсунув лезвие, одним движением разрезала бечевку, высыпала бумаги на стол. Темно-бежевые, плотные, все как одна с печатями, только несколько листочков тоньше и бледнее. Света раздражающе мало, я нетерпеливым жестом велела Парашке поднести лампу ближе – интересно, все поклонники старины когда-нибудь думали, как мучительно жить в вечном полумраке? – и вытащила самый эффектный лист, с самой крупной печатью.
И тут же закусила губу, отложила лист, взяла следующий: помимо герба, на нем в правом верхнем углу красовалась темная сургучная печать.
Или не в правом и не верхнем. Или… я перевернула лист, герб и так, и так выглядел внушительно, но…
Сердце мое так грохнуло по ребрам, что стало больно. Если это медикаментозная кома, я стерплю подобные издевательства собственного подсознания. Если нет, если это что-то вроде посмертия, то это не просто насмешка, это дьявольский квест на выживание. И ни единой подсказки, как быть.
Я брала листы один за другим, всматривалась и отчаивалась все сильнее. Я ни слова не понимала из того, что было на них написано.
Мне ведь все это кажется, все это сон. Во сне свободно говоришь на плохо знакомом языке – и неважно, что сонный английский ничего общего с реальным не имеет, – и без запинки разбираешь иероглифы. А мне уже убрали препараты, я прихожу в себя, еще немного, я открою глаза и увижу белые стены, капельницу и дружелюбную улыбку доктора.
Простой рецепт понять, сон или нет – зажмуриться и открыть глаза, но я медлила, сидела, смотрела на нечитаемые знаки, слушала нарастающий гул в ушах и медлила. Это всего лишь сон, но вместе с ним я потеряю то бесценное, что сопит сейчас в двух шагах, только руку протяни.
Я прижала ладонь к губам, чтобы не заорать от осязаемой, физической боли, и прежде чем закрыть глаза, успела увидеть ошалевшую старуху. А потом я зажмурилась до искр и ослепительных вспышек, и из-за них же я не разглядела, кто же меня ударил. Я услышала неразборчивый, нетрезвый и очень чем-то недовольный мужской низкий голос, почувствовала еще один сильный удар в живот и следом острую боль и, вскрикнув, открыла глаза, убежденная, что меня ослепит после мрака самый обычный электрический свет самой обычной больничной палаты.
Но никакой палаты не было. Я сидела, по-прежнему зажав рот рукой, упершись локтем в стол, рядом маячила Парашка, и перед моими глазами лежал паспорт на имя Мазуровой Олимпиады Львовны, урожденной Куприяновой.
Без фотографии, со смазанными печатями, но, несомненно, настоящий. Под безумным от испуга взглядом старухи я вела пальцем по строчкам: глаза – голубые, волосы – русые, возраст – двадцать три года, вдова купца третьей гильдии Мазурова Матвея, сына Сергеева, и двое детей ее: Евгений, сын Матвеев, и Наталия, дочь Матвеева, фамилией Мазуровы, четырех лет.
Значит, не сон, подумала я, прислушиваясь к отголоскам острой боли в животе, привычной почти каждой девушке или женщине раз в четыре недели. Это не сон, это новая жизнь…
Я прижала рукой паспорт, словно он мог куда-то исчезнуть, и оглянулась на спящих детей. Моих спящих детей. Евгения и Наталию, четырех лет, фамилией Мазуровы.
Новая жизнь – и лучший подарок, кто бы его мне ни сделал. Господи, господи, у меня двое детей.
Я вытащила еще один документ, опасаясь, что разобрала я текст чисто случайно и все остальное не пойму, но нет, я читала словно на родном русском, не спотыкаясь ни на едином слове, хотя почерк иногда оставлял желать лучшего. Свидетельство о смерти помещика Льва Куприянова. Свидетельство о смерти помещицы Марии Куприяновой, разница с мужем – всего два дня. Родители Олимпиады скончались в возрасте пятидесяти и сорока семи лет, слишком рано, и, скорее всего, причиной смерти было что-то заразное или несчастный случай.
Закладная банка, судя по вензелям с коронами, государственного, с жирной печатью «погашено». Свидетельство о смерти купца третьей гильдии Матвея Мазурова, сына Сергеева. «Выпись из метрической книги» моих малышей. Завещание…
Только сейчас я сообразила, что Парашка сидит, не шевелясь, и громко, как кузнечные меха, дышит. Дышала ли я сама?
Находясь в здравом уме и памяти, но, судя по скачущему, невнятному почерку, уже при смерти, мой муж завещал все свое состояние, как то установлено высочайшим указом, сыну своему Евгению, с указной долей одной четырнадцатой недвижимого имущества и одной осьмой движимого сестре его Наталии. Указная часть одной седьмой недвижимого имущества и одной четвертой движимого назначалась супруге, Мазуровой Олимпиаде, дочери Львовой, то есть мне, как мне была вверена и опека над прочим имуществом по достижению Евгением совершеннолетия.
Я утерла выступивший на лбу пот – здесь нестерпимо жарко. Какого черта мой муж на смертном одре написал завещание, если все осталось, как установлено «высочайшим указом», то есть все по закону?
«Единородным сестрам моим Ларисе и Клавдии надлежит призреть жену мою Олимпиаду и детей ее по юности лет ее и малому опыту, до той поры, пока жене моей Олимпиаде двадцать семь лет не минует, или не выйдет она замуж по сроку траура. Ежели выйдет жена моя Олимпиада замуж после означенного срока траура, но до того, как сын мой Евгений достигнет совершеннолетия, указной части одной седьмой недвижимого имущества жену мою Олимпиаду лишить в пользу дочери моей Наталии, а одну четвертную движимого имущества сократить до одной шестнадцатой, в день, когда она сочетается новым браком. Прочую указную движимую долю ее передать сестрам моим Ларисе и Клавдии за призрение детей до достижения ими возраста зрелого, и жене моей Олимпиаде в случае нового брака детей не передавать. За сим последняя воля моя исполнена будет. Матвей Мазуров». Печати, подписи свидетелей и поверенного.
Какого черта? Я скрипнула зубами, и был бы мой покойный супруг жив, я бы еще раз его похоронила. Какого черта он в своем завещании указал, что мои дети не могут быть со мной, собиралась бы я замуж или же нет? Какое наследство, если не считать таковым остатки былой торговой роскоши в виде бывшего склада, нынешнего дома, который даже отапливать нечем?
Я взяла один из обычных листочков и сразу нахмурилась. Это был список, безусловно, ценных вещей – колье аметистовое, фермуар, кольца с сапфирами и рубинами, браслет с рубинами, диадема с аметистами и бриллиантами, нить жемчужная, еще жемчужная нить, кажется, я знаю, где одна из этих проклятых нитей.
– Параша, где это все? – спросила я, показывая старухе лист, хотя вряд ли она умела читать. Парашка от меня отодвинулась, поджав губы.
– И-и, матушка… – протянула она, почесывая нос. – Нешто не помнишь?
Дура. Я помотала головой.
– Сама все благодетельнице отдала за кров, за стол. Ну как забыла?
– Зачем я это сделала, если мой муж велел ей за мной присматривать без всяких условий?
Сколько мне, интересно, сейчас лет? В курсе ли Лариса условий завещания моего мужа? Скорее да, ей наверняка поверенный все озвучил. Я сидела, корча озадаченные рожи, и, судя по выражению лица Парашки, она о моих умственных способностях мнения тоже была невысокого.
– И-и, барыня… – заблеяла она. – Как пришла, в ножки упала, сама отдала все! А что не понять, что отдала, руки-то жжет, уж на что я баба, а жисти такой при крепости не видала!
– Какой – такой? – Я теряла терпение, хотя и отдавала себе отчет, как для старухи странно звучат мои слова.
– Так знамо ли, барыня, бабу муж лупит, на то ей, бабе, муж и дан, чтобы уму учить, – зачастила Парашка, почему-то злобно скалясь. – А то купчина, рожа его немытая, барышню, помещичью дочку, в кровь, как бабу, лупит – да где то видано? Я вот, – она повернулась ко мне боком, приподняв волосы, показала что-то на голове, но, конечно, я в темноте ничего не рассмотрела. – Али и это забыла? По первому-то разу я кочережку – хвать! Раз ему барышню просватали, то не повод ее как купчину патлатую за космы драть, барышню батюшка с матушкой не для того р о стили! А он кочережку вырвал и мне вона, по голове, а мне что, баба она и есть баба, я вся битая, барыня, лишь бы тебя не трогал…
Парашка ощерилась, глаза горели дикой злостью, ненавидела она моего мужа люто, а все потому, что он меня бил. И защищала она меня, как могла, даже ценой собственной жизни. Я протянула руку и погладила ее по сморщенным, мозолистым пальцам.
– Ох, барыня… – вздохнула Парашка, слегка улыбнувшись. – Знамо, как барин покойный тебя за купца-то просватал, как я убивалась, как на коленях его молила кровинушку нашу не губить, да куда там… Купчина твой денег отвалил, чтобы имение из заклада выкупить, ему-то дворянская дочь поди – счастье.
Какое имение, где оно, и если у моего мужа были деньги, куда они делись? Кто мне покупал все эти драгоценности и почему я все-таки их отдала, если исключить очевидное «сдуру»?
– Вот он тебя в кровь лупит, я за тобой, серденьком, хожу, он лупит, я хожу… а ввечеру пьяный завалится да подарки приносит, мол, прости, единственная моя да законно венчанная… А корону, матушка, никогда не забуду, как принес. Ты в крови, только скинула, дохтырь возле постели вертится, а купчина тут как тут – прости да лихом не поминай. Дохтырь аж варевом своим с перепугу облился, глаза – во, а ты лежишь полуживая, кровью течешь, а корону к груди прижала да ревешь… Да неужто не помнишь?
Намного больше меня занимало, как у старухи кликушество сочеталось с дикой ненавистью к моему бывшему мужу. Мелькнула мысль – отчего он скончался, если девица мне не врала и Парашка действительно разбойничала по лесам, опыта она могла набраться какого угодно.
– Я… – Я вспомнила про удар по голове. Кто-то сделал мне и зло, и благо одновременно. – Смутно помню, – и коснулась раны, старуха понятливо закивала:
– А то, барыня, тебе с побоев не впервой, – махнула она рукой. – Я по первости напугалась, как детей тебе принесла, а ты – что, кто, не мои. Отошла потом, и детей признала, и рвать тебя перестало, а то почитай седьмицу есть не могла, молоко пропало. Купчины тогда с месяц дома не было, я думала, в бега подался, небось, думал, убил тебя, людоед. Я, – она помолчала, отвернулась, словно признавалась мне в чем-то, – тогда в приорию пошла, благочестивой сестре монетку дала, чтобы она письмо батюшке твоему написала. Страшно мне стало, барыня. А ну дети сиротами станут. А вона как…
Она утерла сбежавшую из уголка глаз слезу, посмотрела на меня прозрачными старческими глазами.
– Так и не дошло письмо к барину. Я нарочного ждала, монетку дала, просила в руки передать, лично. А он вернулся, сказал, оспа свирепствует, повсюду солдаты, не проехать, не проскочить, да и боязно. А уж после и бумаги пришли, осталась ты сиротинушка-а… пожалеть некому, заступиться некому-у…
– А ну цыц, – негромко сказала я. – Вытьем не поможешь.
Драгоценности, которыми мой покойный муж, чтобы его черти шомполами драли куда им вздумается, оплачивал мою в самом прямом смысле кровь, все еще здесь, в этом доме. Олимпиада, похоронив мужа и, скорее всего, обезумев от страха, заплатила ими своей мучительнице, уже тогда потиравшей руки и представлявшей, какую сладкую жизнь она устроит запуганной, затравленной и безответной вдове своего брата.
Я живу в нищете, в голоде, без окна, в какой-то кладовке с двумя детьми. Куда бы Лариса ни спрятала драгоценности, она будет носом землю рыть, но вернет мне все до последнего перстня.
– Поешь, – сказала я изумленной моим предложением Парашке. – Поешь, все равно дети спят, не стану я их будить.
Я встала, потянулась, начала расстегивать мелкие пуговки на лифе. Они держались плохо, одной вовсе не было, а еще одна отлетела, и кто бы стал искать куда в такой темноте.
– Благословит тебя Всемогущая и ниспошлет тебе силу великую, – тихо проговорила Парашка, трясущейся рукой потянувшись к горшочку, и я поняла, что несчастная старуха не ела уже черт знает сколько времени.
Я отвернулась, чтобы ее не смущать.
Давно ли я овдовела? Судя по моей одежде, с год минимум, или дела моего мужа паршиво пошли еще до того, как он приказал долго жить. Нижняя рубаха заштопана, кальсоны – или панталоны, не знаю, как верно назвать, – из тонкой ткани, похожей на батист, когда-то стоили целое состояние, но теперь их можно только выкинуть…
– Парашка?..
– Ась, матушка?
– А где… – я кашлянула, потому что до такой степени я вряд ли могла лишиться памяти. Но Парашка поняла меня с полуслова:
– А за кроватью глянь, барыня! Я давеча мыла, так поставила.
Что же, ночной горшок – не признак немощи, а напоминание о том, что я когда-то была богатой. Избитой, вряд ли счастливой и любимой, но богатой. И, раскорячившись на горшке, я вытянула ноги: есть ли следы побоев, старые, зажившие? Ноют ли раны, вздрагивает ли Липочка, если рядом с ней махнуть рукой?
Почему мой ребенок вздрагивает?
Я уже открыла рот, но промолчала. Я узнаю все не сегодня, так завтра, и, возможно, мне не понравится все, что мне станет известно. Оправляя свою поношенную одежонку, я перечисляла: комната, драгоценности, поверенный, документы, наследство. Все, что может изменить и непременно изменит мою жизнь.
И жизнь моих детей. Я посмотрела на узенькую кровать, на единственную комкастую подушку, на две самые бесценные головки. Малыши спали, Наталенька приоткрыла розовый крошечный ротик, длинные ресницы подрагивали во сне.
Мне было страшно ложиться рядом с ними. Тряслось все, словно дети были фарфоровыми. Я их мать и в то же время не мать, для меня новое и непривычное все, и бесконечно долго я буду учиться всему, что давно знала мягкотелая, забитая Липочка.
Если бы Парашка не подкралась, чтобы забрать горшок, я бы так и проторчала истуканом. Осторожно, будто опасаясь сломать кровать, я устроилась рядом с детьми, и сердце защемило от невыносимой, болезненной нежности. Я боялась дышать, улечься так, чтобы не свисать с проклятой кровати, застыла камнем, чтобы не потревожить детский сон.
– Барыня, ну чего оконечности-то свесила? – проворчала мне на ухо вернувшаяся Парашка. – Дай-ка укрою. Дай, сказала!
Она выдернула из-под меня хиленькую тряпочку, совершенно не переживая, что дети проснутся, а потом подпихнула меня к центру кровати и принялась подтыкать то, что она считала одеялом. Я грызла губы, чтобы не рявкнуть на нее, но Парашке и этого показалось мало. Пока я несуразно поджимала руки и ноги, Парашка дернула подушку, сунула ее мне под голову…
Я скрежетала зубами, но дети не проснулись. Ладно, старуха определенно знает, что делает.
Парашка зашаркала к сундуку, долго возилась – ах да, я заставила ее раскидать всю ее постель, – потом потушила лампу и легла. Я наконец отважилась обнять детей.
Мне казалось, я не усну, да и кто бы сомкнул глаза после всего пережитого, вот так и начинается депрессия иногда, но ко мне повернулась дочь, уткнулась в шею носиком, и я поплыла. Женечка тоже покрутился, нащупал во сне мой палец, вцепился в него и обнял сестренку. Глаза мои понемногу привыкали к темноте, а она здесь не абсолютна, где-то есть предательские щели или вентиляция, точно есть, если это бывший склад.
Затем я увидела вспышки света. Стоять отчего-то было тяжело, и я села. Платье на мне было темно-зеленое, бархатное, грудь аппетитно приподнята, а внушительный живот подсказывал, почему мне пришлось сесть.
Вспышки были свечами. Все-таки при наличии денег можно освещать помещение, на сорок ватт с натяжкой потянет. Зеленые обои с серебристым рисунком, шикарная кровать с пышной периной, утянутая в веретено манерная горничная, серебристо-серая шуба, которую горничная благоговейно встряхивала. Потом картинка сменилась, и та же самая комната завертелась перед глазами.
Я провела рукой под носом и увидела, что пальцы в крови. Подняла голову, посмотрела, как высокий молодой мужчина, с окладистой, но аккуратной бородой, в добротном сюртуке, ломает веер и швыряет в меня обломки. Откуда-то слышался детский плач.
Потом я поняла, что меня тащат за волосы. Было безумно больно, но я молчала, и за мной, наступая мне на подол, переваливаясь, бежала Парашка с младенцем на руках и что-то умоляюще кричала, но я не слышала.
Я открыла глаза, какое-то время осознавала, где сон, где явь. Улыбнулась, сглатывая слезы, осторожно разжала ладошку Женечки и освободила свою косу.
Меня продали самому настоящему садисту, как вещь. Моя золовка мало чем отличается от покойного братца. Мои родители… тоже покойные, догадывались ли они, какую цену я платила за их имение? Или клочок земли, который ко дню своей смерти они все равно успели заложить триста раз, им был важнее собственной дочери?
Своей ли смертью умер мой муж? «Ходят слухи, что ты брата извела, вошь ничтожная, так и я могу вспомнить кое-что!» – что из этого правда, что – попытка беспомощного шантажа?
Глава 5
Я тряслась на крестьянской подводе, и мокрыми шкурами пропахло все: одежда, волосы, кожа. Передо мной была широкая спина зажиточного мужика – скорняка, который тащил вонючее богатство к себе в мастерскую.
Опустить глазки в пол и прикинуться повинившейся оказалось несложно. Я не смотрела Ларисе в лицо, но слышала, как она противно сербает чай, но скорее – пустую воду, и грызет пряники, на которые плюнули даже мыши. Я попискивала виновато, выспрашивая, как добраться до дома купца Обрыдлова, и вымаливала хотя бы пару монет, чтобы не пешком идти через весь город.
Монет мне не дали. Адрес сказали – сквозь зубы, как великую милость. Парашка, топтавшаяся под дверью, сунула мне в руку два затертых до невозможности медяка, и она же отыскала среди подвод ту, которая довезла бы меня как можно ближе к месту.
Я не ошиблась – мы действительно жили на складах, не мы одни, как я заметила, пока таскалась за Парашкой по всем амбарам, – но семьи, жен и детей, никто из купцов здесь не селил. Бизнес есть бизнес, кто раньше встал, тот больше всех товару продал, и дородные, пузатые мужики смотрели на меня с жалостью. Один поманил к себе Парашку и указал на подводу, так я, озябшая от промозглого сильного ветра, успевшая подвернуть ногу, оказалась на смердящей подводе.
Купец Обрыдлов, человек явно не бедный, имея возможность выбрать себе любого из тысячи мальчиков, отчего-то вцепился в моего сына, и когда я проснулась утром, то поняла: я непременно должна с ним поговорить, особенно если вспомнить условия завещания моего мужа.
Я ничего не хотела себе заранее обещать и распределять незнакомых мне людей по лагерям врагов и друзей. Но распределять тянуло, и чтобы не разочаровываться потом, в себе в первую очередь, я смотрела по сторонам.
Город был… оглушительный. Я привыкла к другому шуму, к другой суете, к другим людям. Здесь каждый столб заявлял о себе ржанием, криками, свистом, гиканьем, руганью, перестуком колес по брусчатке, завыванием нищих, выкриками торговцев. А когда мне казалось, что я перестаю воспринимать какофонию, потому что иначе просто оглохну, с голых деревьев срывались стаи ворон, и мир сотрясался от их проклятий.
Все было серым. Пятьдесят оттенков того самого цвета – стены, небо, ощетинившиеся ветками стволы, городовые, прохожие, экипажи и лошади. Яркие пятна начали попадаться спустя долгое время, и я вытянула шею, пытаясь их рассмотреть. Это были не здания, не ворота, не храмы, а глухие квадраты, сложенные из синих, желтых, красных кирпичей или булыжников. Я догадалась, что это культовые сооружения, по тому, что люди, проходя мимо, иногда совершали уже знакомый мне жест: ладонь ко лбу, затем к груди.
Возле одного такого квадрата, празднично-изумрудного, скорняк остановился и слез с телеги. Я подумала и слезла тоже, подошла, повторяя за ним и движения руки, и явно не хаотичные кивки. Заинтересовала табличка, и зрение у меня оказалось неплохим, чтобы я прочитала, что колонна сия возведена в честь волею Всемогущей благополучного разрешения от бремени Ее Императорского Величества Елизаветы в год 1742. Скорняк молился истово, я не стала ему мешать и возвратилась в телегу. Кто-то уже успел стащить несколько шкур, а одну равнодушно жевала лошадь.
Скорняк вернулся, отобрал пожеванную шкуру, кинул ее прямо на меня, залез на козлы, и мы тронулись. Город изменился, улицы стали шире и будто чище, городовые выглядели сытыми, а нищих появилось больше в разы, и собирались они перед колоннами. Им никто не подавал.
По-козьи задирая ноги, прыгали по булыжникам хорошо одетые дамы в платьях такой же длины, как и мое. Выпятив животы и совершенно не смотря под ноги, плыли господа, устраняя препятствия тростями. Я засмотрелась, как за одним таким павлином семенит проворный карманник…
Никогда в жизни я не болела так за криминальный элемент. Карманник юркнул в подворотню, господин ничего не заметил, а городовой, может, и видел, но бегать по дворам ему было лень.
В городе уже было организовано дорожное движение! Городовой указал встать и пустил встречный поток на разворот, рядом с нами остановился изящный экипаж, и дама в мехах сморщила нос и демонстративно замахала руками. Ее возница ничего не видел и не слышал, дама принялась визжать, обвинять скорняка с его ароматной поклажей и трясти возницу за плечо, но тот оказался кремень, даже не шевелился.