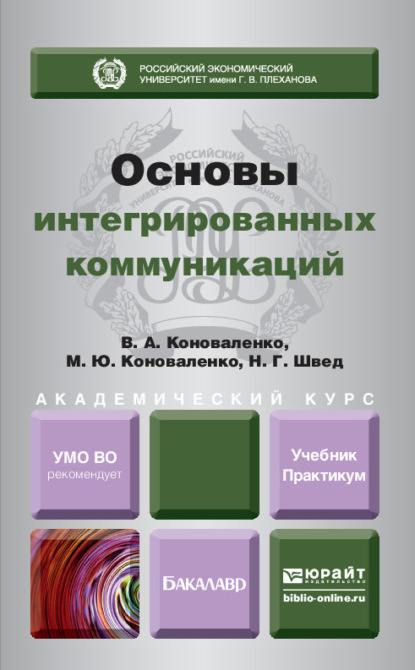Вдова на выданье

- -
- 100%
- +
– Дурно пахнет твоя задница! – крикнула я даме, когда телега поехала, и, в общем, этой холеной истеричке повезло, что я из всего лексикона выбрала самый политкорректный. Как ни крути, но я могу любого извозчика обучить ругаться так, что лошади обалдеют.
Если это принесет мне копеечку малую, почему бы не обучить?
То ли потому, что скорняк не хотел со мной проблем, то ли совпало, но мы свернули с господских улиц, проехали еще пару кварталов, и телега остановилась.
– Вон туда тебе, барыня, – прогудел скорняк. Я порылась в кармане и протянула ему монетки, но он лишь отмахнулся от меня.
Я пошла по торговой улице. Запахи, какие здесь были запахи, и с каждым шагом я все сильнее захлебывалась слюной. Все, что я утащила на кухне, я оставила детям, и желудок сводило резью от голода.
Снова я нащупала в кармане монетки. Раз скорняк отказался от платы, может, мне хватит денег купить вон тот калач, свежий, румяный, посыпанный маком? Я должна буду как-то вернуться домой, но я об этом уже не думала. Мне до визга хотелось есть, до отчаяния.
Это же не я так отчаянно завизжала? Я заозиралась, уже поставив ногу на ступеньку крыльца и взявшись за ручку. Нет, я молчу, я просто давлюсь слюной, кто же кричит так безнадежно, как будто речь идет о жизни и смерти?
Едва не сбив с ног тучную даму, проскочил мальчишка-газетчик, распахивались двери лавок, из вкусно пахнущей тьмы выглядывали изумленные люди, затопал по брусчатке городовой. Визг на мгновение прервался и зазвенел с новой силой, в лавке напротив той, куда собралась зайти я, открылась дверь, и оттуда вывалился, шатаясь, парнишка лет шестнадцати. Одетый не по сезону, совсем как я, в дырявом сером шарфе, он выбежал на середину улицы, раздирая и шарф, и серую рубаху, и собственное горло; он крутил головой, разевал рот как можно шире, и взгляд у него был невидящий и обреченный.
Любой повар, даже такой дрянной, как я, умеет с завязанными глазами идеально делать две вещи: яичницу и прием Геймлиха.
К парнишке кидались люди, но он от них отскакивал, толкал, задирал голову выше, словно так мог получить такой необходимый глоток воздуха. Я забежала к нему со спины, обхватила и сжала руку в кулак. От парнишки несло нечистотами, меня замутило, но я сцепила зубы и нажала на кулак – раз, другой.
Парнишка рванулся, сил у него хватило вырваться из моего захвата, он закашлялся, отскочил на несколько шагов и захрипел. Люди, окружившие нас, разбежались, и смотрели все не на парнишку, а на меня.
– Ах ты пащенок! – надрывалась женщина за моей спиной. – Как земля тебя носит! Да будь ты проклят, ворье поганое!
Парнишка подпрыгнул, в прыжке обернулся, зыркнул на женщину недобрым прищуром, подпрыгнул еще раз, что-то подобрал с земли и кинулся бежать, сильно наклонившись вперед. Очнулся городовой и, сунув в рот свисток, не торопясь, попрыгал за парнишкой следом.
Люди загомонили. Показывали пальцами отчего-то на меня, и я почувствовала себя оплеванной. Крики обокраденной владелицы лавки повышали накал, и я не выдержала.
– Даже вор не заслуживает такой лютой смерти! – заорала я на глумливое сборище, но кто бы послушал.
Никто не собирался меня бить, как под моей родной крышей, но и по-человечески отнестись никто не подумал. Важный, как пингвин, купчина плюнул почти мне под ноги, и все как по сигналу стали расходиться. Пока, возможно, чью-то лавку, оставшуюся без присмотра, тоже не обнесли.
Я сжала кулаки, сердце ухнуло в низ живота, я растерянно разжала руки и посмотрела на пустые ладони. Мои две медные монетки – я выронила их, когда кинулась к парнишке, а что же спасенный мной поганец подобрал, прежде чем сбежать?
Под осуждающими взглядами я побрела обратно к бакалейной лавочке, всматриваясь в брусчатку. Монеток не было, неблагодарный побирушка не погнушался чужими грошами, и были ли ему деньги нужней, чем мне? Я уткнулась носом в чье-то пузо, обтянутое не самым чистым белым фартуком и пахнущее соблазнительно – выпечкой, и пузо недовольно проговорило:
– Иди, иди отсюда, попрошайка.
Я подняла голову и с ненавистью посмотрела на молодого, крепкого пекаря. Коллега, что же ты такой мерзавец, что я тебе сделала?
– Все вы одна шайка, ворье, – добавил он. – Пошла вон, чистых клиентов мне распугаешь.
– Мне нужен дом купца Обрыдлова, – сквозь зубы проговорила я. Злость, обида – я могу вывернуться, вопя о несправедливости. Итог здесь и сейчас для меня будет один, а могут еще и побить.
– Думаешь, там поживишься? – ухмыльнулся пекарь и, все еще не пуская меня внутрь, крикнул: – Лизавета! Дай вчерашних пончиков!
Я сглотнула слюну. Гордым быть хорошо, когда ты здоровый и сытый, а когда тебе нечего есть, в ножки поклонишься. Кланяться я не стала, велика будет честь, но взяла тряпицу с чем-то мягким и благодарно улыбнулась.
– Пошла, пошла…
Я отошла на пару метров, развернула тряпицу. Пончики были не вчерашние, владелец лавки приврал, им минимум трое суток, холодные, жирные и противные, но мне они показались пищей богов. Я так и ела, стоя посреди улицы, и за мной пристально наблюдала та самая лавочница, которая подняла крик.
Я доела, подумала и вытерла руки о юбку. Она настолько заношенная, что ей не повредит пара лишних пятен. Лавочница словно дожидалась, пока я доем, нахмурила брови и жестом поманила к себе, но близко подойти не позволила.
Стоило запятнаться, коснуться изгоя, и я сама стала прокаженной.
– Ты сильная? В тебе свет? – с любопытством спросила лавочница. Я тоже нахмурилась, не зная, что ей сказать, кроме того, что я не магистр Йода, и в этом она может быть совершенно уверена. – А что Миньку-блажного спасла? Как? Зачем?
– А ты бы спокойно смотрела, как он задыхается? – огрызнулась я.
– Он калачом моим подавился, – отмахнулась лавочница. – Отвернулась, а он в лавку проскочил. Весь товар попортил, дрянь этакая, кому я теперь его продам?
Смотри, я тебя за язык не тянула.
– Мне отдай, – хмыкнула я, вознося благодарность высшим силам за своевременное вмешательство. – Бесплатно. Все равно у тебя его больше никто не купит.
Социум наглость не поощряет, а зря. Я была уверена, что лавочница захлопнет перед моим носом дверь, но я хотя бы попыталась, – но нет, она пожала плечами и велела обождать.
Улица жила своей жизнью, и где-то уже разгорался новый скандал. С меня на сегодня склок было достаточно, я всмотрелась туда, куда указывал скорняк. Дом с красной крышей и ширинками – что за ширинки, я не знала, но всегда могла спросить. Хуже будет, если до купца дойдет не только моя вчерашняя эскапада, но и сегодняшняя. Насколько я могу судить, спасение Миньки мне аукнется сильнее, чем угроза приголубить золовку подсвечником. Семейные дрязги – одно, а покушение на общественные устои – совсем другое, но как-нибудь разберусь, не в первый раз.
«Все прежние разы были в другом мире и другом обществе, – возразила я сама себе и сама же себе ответила: – Люди везде одинаковы, не трепещи».
Звякнул колокольчик, лавочница на вытянутых руках протянула добротную корзинку – не захотела мараться и подходить ближе. Но под чистенькой для разнообразия тряпицей была гора выпечки – свежей, еще горячей, истекающей медом. Пока я дойду до дома, все остынет, но не успеет зачерстветь.
– Я молока тебе налила, – сообщила лавочница, смотря на меня уже с сочувствием. – Не видела тебя раньше, ищешь кого? Как звать тебя?
– Олимпиада, – отозвалась я равнодушно. – Олимпиада Мазурова, – и зачем-то прибавила: – Вдова Матвея Мазурова. Спасибо.
– Стой! – сдавленно крикнула лавочница, когда я уже сделала шаг с крыльца. – Мазурова! Не ты за купца Ермолина просватана?
Я остановилась и обернулась. Если верить истерическим воплям золовки, то какому-то Макару Саввичу я была не нужна со своими детьми, но Макар Саввич со своими запросами мог отправляться, куда он телят не гонял. Если это направление ему не понятно, я подскажу другие доходчивые варианты. В гробу я видела все, что исключало из моей жизни моих детей.
Удивительно, что о матримониальных планах моей золовки знают лавочники на этой улице, но если рядом живет и торгует Обрыдлов – немудрено. Люди и без интернета разносили по кухням и дамским салонам сплетни, прогресс двадцать первого века лишь ускорил обрастание истины всякой фигней.
– Зайдите, Олимпиада Львовна, – так просяще проговорила лавочница, что я чуть не выронила корзинку от неожиданности. – Зайдите, что я скажу.
Не подавая виду, что заинтригована, я пожала плечами и поднялась на крылечко. Лавочница предупредительно открыла передо мной дверь, крикнула подать чаю и указала мне на дверь в глубине помещения. Я бы с удовольствием осталась в зале, червячка я заморила, но самую малость, а пахло в лавке изумительно. Но хозяйка с извинениями отобрала у меня корзинку – я внимательно проследила, куда ее поставили, чтобы потом забрать, – и подтолкнула к двери.
Я оказалась в крошечном, но очень уютном кабинетике. Обставляла его канарейка – у сороки, по моим представлением, все же получше вкус, но хаять интерьер я не стала даже про себя. Лавочница уселась, расправила юбку.
– Вы меня, матушка Олимпиада Львовна, не знаете, – вздохнула она, нервно облизав губы. – Да что, пока батюшка хворый, на мне две лавки: его, кондитерская, да своя, швейная. А про швейную-то лавку я вам и скажу. Мне мадам Матильда, когда уезжала, своих покупательниц продала. Спросите, сколько она запросила? Да совести у нее нет, матушка, и никогда не было. Так ко мне от купца Ермолина пришли, мол, пошить для жены его погребальный саван.
Открылась дверь, вошел бравый парень, поставил на стол поднос с чаем и выпечкой, и хозяйка тотчас выгнала парня вон. Она ловко разливала чай, раскладывала выпечку, я даже руки сцепила, чтобы не схватить калач, пока не предложат.
– Так было, матушка, еще до зимы. Я пошила, что не пошить, дело такое. А как снег сошел, приходит от купца человек снова – саван нужен.
Лавочница, имени которой я так и не узнала, сделала страшные глаза. Я почесала висок и взяла калач.
– У него жены мрут каждый отчетный период? – пробормотала я себе под нос, дивясь находчивости золовки. Так изящно извести неугодную родственницу надо еще придумать. – То есть… у него за одну зиму умерла и вторая жена?
– Вторая? – мимика у лавочницы была знатная, впечатление ее ужимки производили. – Так и я подумала. Пошла к Марфе, она еще у мадам Матильды белошвейкой была. А Марфа и говорит, что, мол, купец на жену свою уже какой год каждый сезон шьет по новому савану. Сперва-то была бедняжка в добром теле, – и лавочница жестом обозначила, насколько была прежде жена купца неплоха. Мне такое богатство не полагалось ни в той жизни, ни в этой, несмотря на то, что я выкормила двоих детей. – Теперь схудала вся, а никак не преставится. Я, когда саван шила, сказала бы, что совсем на дитя. Вы уж на что как барышня, а и то вам мало будет.
Нет, спасибо, саван мне пытались примерить уже не раз, погожу пока, похожу в платье. Пусть потрепанное, неудобное, зато на живой.
Как Лариса собралась меня выдавать замуж при живой первой жене моего жениха? Купца-то она хоть в известность поставила, что вдовцом он проходит всего пару дней?
– Так я что звала вас, Олимпиада Львовна, матушка, – лавочница легла грудью на стол, посунулась ко мне так близко, словно собиралась у меня изо рта вырвать очередной калач. – Вы, ясно, молодая да вдовая, худое вдовье житье, одинокое. Ни согреть, ни разуму поучить некому.
Я кивала, не то чтобы выражая согласие, особенно если учесть, какой у бедной Липочки был первый брак, но поощряя лавочницу болтать дальше. Удачно я спасла Миньку от верной смерти, и даже если половина того, что я в этой птичьей комнате услышала, – банальные пересуды, остается безумный факт.
Купец договаривается о новом браке, а жена умирает уже несколько лет. Возможно, что здесь так принято, возможно, невесты с высокой фертильностью нарасхват, даже вдовые, вопрос не в купце и его торопливости. Вопрос в моей золовке и в том, какой резон этой лавочнице предлагать мне какую-то сделку.
Я с раздражением смотрела, как лавочница роется в ящиках стола и бросает все, что подворачивается ей под руку, на пол, на зеленое сукно стола и прямо на еду. Наконец она выпрямилась, натруженно вздохнула и сперва протянула мне, но потом зажала в пухлой ручке какую-то бумажку.
– Вы, Олимпиада Львовна, знамо, барыня пришлая, – сморщившись, объявила она, развернув бумажку, стала ее читать, шевеля губами. – Да кто вас осудит? Все за мужней спиной проще, а что вдовец, так на то воля Всемогущей. И вы тоже вдова.
Я предположила, что купеческий круг довольно тесен – раз, и все друг друга знают. Два – это явно не тот круг, члены которого жарят в печках сотни тысяч и открывают картинные галереи. Так, мелочь: лавки, амбары, ровно то, что я видела утром возле дома. Мой покойный муж был купцом третьей гильдии, хотя у него доставало денег извиняться передо мной за побои баснословно дорогостоящими цацками. Возможно, это были остатки роскоши, или он когда-то ворочал капиталами, или все проиграл.
Мой потенциальный муж, которому овдоветь еще предстояло, – кто он такой?
Глава 6
– Так про швейную лавку, – лавочница решилась и протянула мне бумажку, но из руки ее не выпустила. – За шитье саванов долг за купцом Ермолиным, но то мелочь, десятки целковых не наберется. Это и после можно. А батюшке моему – долг за три лавки, что Ермолин у него нанимает. Как жена захворала, так он и не платит.
Я слушала ее, разбирая уверенный, с нажимом, но не самый понятный почерк. Если расписка подлинная, то четыреста с гаком целковых для этой семьи не лишние.
Я кивнула, давая понять, что с распиской ознакомилась. Мне все еще было совершенно неясно, в чем суть нашего разговора. Суть, несомненно, была.
– Я вашего сговора не знаю, – понизив голос, призналась лавочница и быстро спрятала расписку обратно в ящик. – Но вы уж примите, что купцу Якшину наперво уплатить надо. Может, из приданого вашего, а ежели по сговору муж над вашим капиталом власти не имеет, так сами пришлите?
Если я сейчас вдруг что-то ляпну, не подумав, то останусь без кренделей и молока. Поэтому я состроила постное лицо и закивала. Знать, что у меня из приданого одни драные кальсоны, купчихе Якшиной необязательно.
– Вам, Олимпиада Львовна, другие тоже расписок покажут, как прознают, кто вы есть, – наобещала мне Якшина, перекосившись от досады. – Вы скажите, что купцу Якшину первый долг. То справедливо, у батюшки у первого Ермолин лавки взял.
У купца Ермолина, дельца, по-видимому, дерьмовенького, куча долгов и умирающая жена. У того же купца Ермолина есть уже и невеста не первой свежести, тоже вдова и такая же, откровенно говоря, нищая. Кредиторы, которых по-человечески понять можно, ждут, что им хоть с брака двух вдовцов перепадет доля малая. Не всем, а кто окажется расторопнее, у кого лучше подвешен язык.
Никаких отличий от коллекторов, которые готовы на похороны с требами прийти. Вместо травок лечат микрочипами, фотографируют глубины океана и планируют колонизировать Марс, а сами ни черта не изменились.
– Деньги правят миром, – проговорила я себе под нос, Якшина расслышала.
– Ой, как вы хорошо сказали, Олимпиада Львовна! – мурлыкнула она.
Не подлизывайся, не поможет.
Я встала, энергично тряся головой и якобы гарантируя Якшиной возврат чужого долга. Ей было невдомек, что из нашего разговора мне важнее не то, что кто-то кому-то что-то должен, эка невидаль, а то, что мой жених еще не овдовел.
Здесь я могла уже изобретать стратегию. Ермолин меня не интересовал, в отличие от золовки.
Якшина проводила меня до порога, и корзина, которую я уносила, была раза в два больше и раза в три тяжелее. Своя ноша не тянет, думала я, плетясь по брусчатке и спиной ощущая взгляды. Нет сомнений, что пока я дойду до дома Обрыдлова, вся улица уже выяснит, кто я такая, и обратно мне добираться придется кружным путем.
Знать бы еще, на какие деньги! И я посматривала по сторонам, надеясь увидеть призывный блеск оброненной кем-то монетки. Красных крыш было слишком много, что такое «ширинка», я уточнить позабыла, и потому обратила взгляд на самое земное из земных.
– Дом купца Обрыдлова не подскажете? – спросила я у городового, от скуки подпиравшего будку. Городовой обнюхал меня издалека, пошевелил усами и ткнул пальцем в ближайший дом. Выражение лица у него было при этом неприязненное, словно он увидел юродивого.
Нужное мне строение выглядело солидно для этой улицы. Я подошла ближе, прочитала вывеску «Оптъ и лавочная торговля. Обрыдлов и с-ья», оглянулась на городового и мысленно принесла ему извинения.
В дальнем конце дома бойко шла отгрузка товара, я поднялась на крыльцо, где, по моему мнению, находилась контора, и не успела я дернуть за заменявший звонок шнурок, как дверь распахнулась.
– А ну пошла вон! – гаркнул на меня крупный неряшливый мужик, очень похожий на того, кто приезжал за моим сыном, только этот был помоложе. – Ишь, вот я сейчас городового кликну!
Я все-таки больше Ольга, которая когда-то ревностно охраняла самое дорогое, что у нее было – лоток с пирожками, чем робкая, воспитанная в пощечинах и постоянном стыде Олимпиада. В этом уже убедились мои золовка и нянька, да и Домна заодно.
Я спрыгнула с крыльца, не глядя, прижимая к себе опять же самое дорогое – в данный момент, и мужик, похоже, с уважением отнесся к моему кульбиту. Но мнение свое не изменил.
– Пошла, пошла, – повторил он все так же ворчливо, но гораздо менее грозно, и городового беспокоить из-за меня он и не собирался. – Нечего тут соваться со своим товаром, нечего! Ничего мы не берем! Своего вдосталь!
Я бросила взгляд на вывеску. «Обрыдлов и с-ья» – что в ней не так? Но это не то чтобы важно.
– Я не… – сдавленно прокашляла я и заорала, потому что мужик уже собирался захлопнуть дверь. – Я ничего не продаю! Мне нужен… – Как Обрыдлова, черт его побери, зовут? – Господин Обрыдлов!
– Господи-ин, – ухмыльнулся мужик из щелочки, но тут же дверь открылась снова. – А это?.. – Мужик настороженно кивнул на подарки доброй, но такой ушлой Якшиной.
– Это мое. И я все равно не позволю вам это есть, – отрезала я. – У меня к купцу дело. – И, прежде чем мужик не решил, что это ему я есть не позволю, а Обрыдлова буду потчевать от души, представилась: – Я Олимпиада Мазурова. Господин Обрыдлов вчера… хотел купить моего сына.
Господи, как же мерзко это даже произносить. А для всех, кажется, в порядке вещей, подумала я, но ошиблась.
– Ну так вот сразу купить, барыня, – протянул мужик и открыл дверь шире, чтобы я, дуреха такая, перестала уже топтать крыльцо и зашла наконец. – Ну чего на пороге стоять? Ба-а-аре! «Купи-ить»… Вот бар сразу видно. Почитай, крепость государь-батюшка отменил тридцать годков как, а у вас, у бар, все «купить»…
Справедливости ради, никто, кроме меня, не произносил в отношении моего сына само слово «купить», и реакция мужика обоснована. В крошечном предбанничке я замялась, и мужик без малейших колебаний выпихнул меня в торговый зал, полный визга, беготни и суеты. Для мелкого купечества, наверное, абсолютно обычных.
Дети! Сколько же тут было детей, от мальчишек семи-восьми лет до подростков – не по возрасту важных, степенных. И хотя сперва мне показалось, что творится суматоха, хватило пары секунд, чтобы понять: все заняты делом. По-детски, но в то же время по-настоящему.
– А ну мети чище, постреленок! – проталкивая меня дальше в зал, рыкнул мужик на пацаненка лет десяти, и тот зашуршал веником в два раза усерднее. – Семка, паршивец, опять задницей меня слушал? Куда сукно ложишь? А?
– Не достаю, батюшка Сила Карпыч! – пискнул Семка, и Сила, усмехнувшись, переложил сукно на полку выше. Семка и в самом деле не мог бы туда дотянуться.
– На-ка у барыни корзину возьми, да смотри, чтобы никто не тронул! – распорядился Сила. – Не беспокойтесь, мальчишки у нас в строгости. Никто не возьмет ничего. Идемте, барыня, а то Пахом Прович уедет вскорости.
Я, вздохнув, передала Семке корзину, хотя уверенный тон Силы говорил, что волноваться мне не о чем. Я пошла за своим провожатым через зал, оглядываясь на мальчишек. Они не выглядели ни голодными, ни забитыми, ни работающими из-под палки, даже наоборот: скучнейшая торгово-складская рутина вызывала у них неподдельный интерес, и я не удержалась:
– Сила Карпович, зачем вам их столько?
Передо мной открылась очередная дверь, появилась довольно крутая лестница на второй этаж, и я стала подниматься, почему-то убежденная, что мне не ответят.
– А как, барыня? – хмыкнул Сила за моей спиной. – Вот Пахом Прович третий раз женат, а наследников-то и нету!
А ведь посланник Обрыдлова – точно родственник Силы, очень уж они похожи, – говорил об этом. Мне, правда, было в тот момент не до чужих семейных драм.
– А парнишки толковые! – почему-то обиженно добавил Сила. – Вона, все, кто в торговле, грамоте да счету обучены.
– И много их у вас?
– А то! Тут шестнадцать, на дальних складах одиннадцать, а шестеро малы еще, на обучении. – Он вздохнул. – Куда деваться, дело-то кому передавать, вот Пахом Прович и ищет, кого в наследники заявить. А то и не заявить, но чтобы торговлю крепко знали. Анастасия Провна все девок нарожала, племяшек, так, значит, чтобы было кому богатство ихнее беречь, что после Пахома Провича останется. В мужья девке какой выжига попадется – пиши пропало, так вот чтобы каждый приказчик был – ух! Да выжигу – и к ногтю! А то аккурат оженить кого из толковых ребяток на девках, чего нет. Вон туда, барыня. Только коротко.
Он развернулся и загромыхал сапогами на первый этаж, а я, знатно робея, пошла на мужские голоса, доносящиеся из кабинета. Один голос я узнала, и пересекаться с его обладателем мне было некстати, поэтому я помедлила, постояла в тени коридора, послушала, о чем разговор.
Но Олимпиада Львовна и ее малыш не занимали ни Обрыдлова, ни, как я догадалась, его старшего приказчика. Они спорили о цене на аренду какого-то помещения, и я, для приличия поскребшись, вошла в кабинет.
Оба спорщика тотчас замолчали, и вчерашний наш гость, стоявший ко мне ближе и полностью загораживавший от меня стол, за которым сидел Обрыдлов, сначала всмотрелся в меня, разве что не принюхался, а потом приветственно махнул медвежьей лапой прямо перед моим лицом.
– Явилась! – объявил он, широко разведя руками, а затем возмущенно хлопнул себя по бокам. – Что, матушка, канделябру позабыла или по дороге продала? Или как, три тысячи долгу принесла? Откопала клады, что муж покойный позакапывал?
Если у меня и была изначально мысль, что цель моего визита сюда прояснилась в тот момент, когда я поднималась по лестнице, и я могла извиниться, развернуться и отправиться домой, то сейчас я остолбенела. Не потому, что меня напугал когтистый приказчик, не потому, что этот стервец запомнил, как я размахивала подсвечником, – а потому, что в жизни Липочки обозначился еще какой-то окаянный клад.
Увы, мне не у кого спросить, почему нельзя было просто отправить меня в свободное плавание по этому новому, темному, громкому, но в общем терпимому миру с двумя малышами и без всяких тайн.
– Харькуша, что же ты змей такой, – укоризненно сообщил ему кто-то старческим голосом. – Поди, поди, я сам управлюсь. Глянь, как товар княжеский уложили, да вот что – езжай вместо Митьки да сам проследи, чтобы эта княжья морда уплату за прошлый раз не забыла. И телеги без денег не отдавай. Знаю я, как они тебе тыкать будут. Мол, купчина, рожа немытая, а и немытая, а и рожа, а нет денег – нет товару.
– Так ведь бал у нее, у ее сиятельства, – тяжко, будто его самого оставляли без танцев, как Золушку, отозвался Харькуша и сделал шаг в сторону. Я увидела за столом сухонького старичка – сущий Кощей, понятно, что наследники для него – уже дело прошлое. – Ну как отказать-то?
– Бал, бал! – каркая, передразнил его Пахом Прович, сияя зловещей лысиной в гнезде седых патл, а потом повернулся ко мне: – Вот, матушка. Вот их у меня под сорок человек, как разбойников у доброго атамана. От сосунков до – вон, мужичья здорового. А дело передать – вот кому, ему? – он махнул рукой на незадачливого приказчика. Жест точно такой же, как у Харькуши, нет никаких сомнений, кто кому подражает. – Княгиню ему жаль, гляди-ка! Этак он все по миру пустит с жалости. Тьфу. Поди, Харькуша, с глаз моих долой, Митьке все передай, да Аленка пусть чаю принесет.
Я пригладила выбившиеся из косы волосы и выжидающе посмотрела на Обрыдлова. Мы говорили на одном языке, играть с ним было бессмысленно, а в роли просителя сейчас была я.
– Пахом Прович, почему именно мой сын? – спросила я, проявляя мнимую осведомленность, чтобы не слишком пугать старика. Харькуша наверняка обрисовал вчерашнюю сцену в лицах. – У вас столько мальчиков на обучении и в работе.
– Что – твой, матушка? – удивился Обрыдлов и кивнул на обитое красным сукном кресло: – Да сядь, в ногах никогда правды не было. Ну сама посуди: ты Ларису Сергеевну просила, чтобы она похлопотала за тебя?