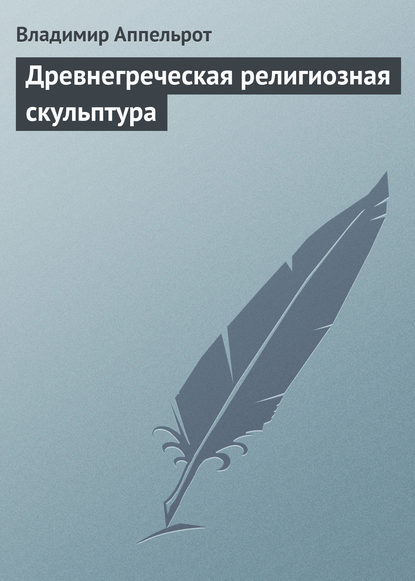- -
- 100%
- +

Пролог
Тишина была оглушающей.
Он где-то однажды читал похожее: стояла оглушающая тишина… Он ещё подумал тогда: как такое может быть? понапишут… писаки, напридумывают, как их дьявола… метафор, да. Как тишина может быть оглушающей? Это тебе не барабаны с трубами, не вой станционных турбин, перекрывающий гул океана, и даже не монотонное гудение вентиляции, постоянное, отупляющее, привычное… это всего лишь тишина, редкая и благословенная гостья в их мире. Как она может быть оглушающей… а вот, поди ж ты… может. Глухой может быть. Тёмной. Подавляющей все звуки, шорохи и вздохи.
Павел пошевелился, попытался переменить положение. И почти сразу же пришла боль, яркой вспышкой полоснувшая по живому. Его скрутило так, что он не сдержался – вскрикнул, и не глухо, не утробным стоном, а в голос, громко, разорвав мёртвый саван недышащей тишины, и тут же руки его коснулось что-то тёплое, живое, мягкое, даже не коснулось – прошелестело рядом, пискнуло робко и жалобно, как новорожденное дитя, дитя глухой, тёмной ночи.
Чёрт! Это всего лишь крыса. Да, крыса. Павел стиснул зубы и постарался повторить несколько раз про себя: крыса, всего лишь крыса, всего лишь… и боль, та первая, резкая и огненная, чуть поддалась его воле, словам этим дурацким, ничего не значащим, сочащимся сквозь сжатые зубы, и отступила, зашипела, свернулась в тугой комок, болезненно пульсирующий где-то внутри. От этой новой боли всё ещё хотелось выть, но уже можно было терпеть.
– Теперь надо открыть глаза, – сказал он себе. Сказал вслух, с трудом разлепил непослушные тяжёлые веки, вгляделся в окружающую его черноту и неожиданно для себя негромко расхохотался. Боль снова зашевелилась где-то внутри, мягко толкнула его, словно давала понять, кто здесь хозяин, но Павел мысленно отмахнулся от неё, попробовал опять засмеяться, но вместо этого закашлялся, натужно и болезненно, выплёвывая из себя сгустки крови и вновь вернувшуюся острую боль.
Со всех сторон была тьма, сверху, снизу – везде. Если бы Павел сумел поднести свою руку к лицу, к самому носу, если бы сковывающая его боль позволила ему сделать это, он всё равно вряд ли что-нибудь увидел, настолько плотной была обволакивающая его темнота. И она пугала. Пугала даже больше, чем прежняя оглушающая тишина, которая, внезапно растеряв своё молчание, наполнилась дыханием крыс и какими-то далёкими звуками, может настоящими, а может и придуманными.
Отчего-то вдруг вспомнилось, как его, ещё совсем мальчишку, отправили на ремонт вентиляции. Он тогда вместе с другими такими же юнцами числился стажёром при худом мужике с длинным унылым лицом и смешной фамилией Попиков, которого кто-то из шутников их учебной группы быстро перекрестил в Жопикова. Задачей Павла было спуститься по вертикальной вентиляционной шахте на несколько этажей вниз, на страховочном тросе – работа рутинная, хотя и небезопасная. Ремни обвязки надёжно сдавливали грудь, пояс и бёдра, Павел медленно спускался, едва ощущая всем телом мерные толчки натянутого троса, как вдруг мир ухнул, закружился и начал падать. То есть падать стал сам Павел, стремительно несясь вниз, навстречу хохочущей бездне. Позже скажут: полетел соленоид лебёдки. Барабан, визжа от старости и натуги, принялся раскручиваться, всё больше и больше набирая обороты, и трос толстой стальной змеёй заструился вниз под тяжестью Пашкиного веса и снаряжения, разматываясь со скрипящего барабана, до самого конца, до упора, пока не замер на высоком тонком звуке натянутой струны, с Павлом, зависшим где-то между небом и землей.
Пока Павел падал, он успел пару раз долбануться о стены, отчего налобный фонарь, закреплённый на каске, слетел и погас, даже не успев коснуться далёкого дна, а сам Павел остался болтаться на невидимом тросе в кромешной тьме – звенящей, давящей и такой на удивление вечной…
Сейчас тьма, окружающая его, была такой же.
Павел почувствовал, как в его руку, с тыльной стороны ладони что-то ткнулось, влажное и холодное, обожгло щекоткой. Он опять дёрнулся, инстинктивно, не обращая на этот раз внимания на боль.
– Пошла вон, – выдохнул невидимой крысе.
По полу зацокали-зашаркали лапки, цепляясь тонкими коготками за выбоинки и шероховатости бетона. Крыса отбежала, но недалеко. Павел чувствовал, она рядом – дышит чуть слышно, втягивает длинным носом запах крови, ждёт. Ждёт его последнего вздоха, когда он наконец-то выплюнет его из булькающих кровью лёгких, выплюнет и вытянется, затихнет, и тогда…
– Вон пошла отсюда, – снова повторил тихо и твёрдо. Почувствовал опять, что проваливается куда-то, попытался ногтями ухватиться за холодный и влажный бетон в последней тщетной попытке, но не преуспел и уже на самом краю небытия – не услышал – почувствовал, как победно засмеялась тишина, и её смех рассыпался на тихое повизгивание и шуршание крыс…
Свет… на этот раз Павел очнулся от света. Не от слепящего и торжествующего, от другого. Этот свет тонкой струйкой вползал откуда-то справа, смешивался с тьмой, превращаясь в густые серые сумерки.
«Наверно, я уже умер, – подумал Павел. – Потому что откуда тогда этот свет? В прошлый раз не было, а теперь, вдруг…». Мысль потухла, не успев добраться до конца.
– Борис Андреевич, вот сюда!
Высокий юношеский голос был знаком, но Павел отмахнулся от желания вспомнить, кому он принадлежит. Это было неважно. Важно другое.
Борька?
Тут?
Борька же умер.
А, ну да, он, Павел, тоже ведь умер. И это осознание собственной смерти удивительным образом успокоило его, умиротворило, примирило с жестокостью бытия. Или правильней сказать – небытия.
– Паша! Паша! Пашка, мать твою… чтоб тебя…
Глаза открывать не хотелось, но Борькин голос, долгое длинное ругательство, сдавленное отчаяньем и злостью, зазвенело в ушах, в голове, ударило болью по вискам, отрикошетило в затылок. Заставило очнуться, разодрать слипшиеся веки.
Над Павлом медленно качалось, расползаясь в сером свете, Борькино осунувшееся лицо.
– Что, мы в аду?
Лицо Бориса опять собралось из лоскутков. Расплылось в кривой улыбке.
– Пашка, кретин ты тупоголовый. Пашка…
И, отвернувшись, крикнул куда-то в сторону света:
– Носилки сюда! Да живей, мать вашу, что застыли, как истуканы!
И опять, уже Павлу, наклонившись близко, обдавая горячим дыханием:
– Молчи. Паша, молчи, ничего не говори…
– Борька, – Павел захотел дотронуться до Бориса, но не стал – зачем? Если они оба всё равно мертвы. – Ты же умер. И я… я умер… Мы в аду… тут как?
– В аду, в аду, – буркнул Борис. – Даже не сомневайся.
И, поймав угасающий вопрос во взгляде друга, ответил одновременно и зло, и задорно:
– В аду, Паша. И у нас тут весело.
Глава 1. Сашка
– Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, – горничная махнула рукой, чуть отстранилась, пропуская Сашку внутрь, и на её лице промелькнула развязно-презрительная улыбка.
Сашка постарался придать уверенности своей осанке, прошёл в гостиную, всё ещё ощущая спиной насмешливый взгляд наглой девчонки. Прислуга Рябининых, и эта молоденькая Лена (она была чуть старше его), и та, вторая, в летах, с короткими седыми волосами, не скрывали своего презрения, не считали его ровней своим хозяевам и смотрели на Сашку как на пустое место или (что было ещё хуже) вот как сейчас – со снисходительным пониманием его мизерной значимости в этом мире.
Ему захотелось поёжиться, повести плечами, стряхивая со спины чужой липкий взгляд, но он не решился. Разозлился на себя, на свою вечную трусость, перед всеми, даже перед этой девчонкой, которая вообще никто, глупая уборщица чужих помещений, заискивающе хлопающая глазами перед своей хозяйкой – строгой и надменной Натальей Леонидовной, матерью Оленьки, его теперешней неожиданной подружки.
Задумавшись, Сашка не сразу заметил, что гостиная пуста. Обычно в ней всегда кто-то был. Чаще сама Оленька или её мать, реже – Олин отец, что было неудивительно. Юрий Алексеевич Рябинин, как и все мужчины верхнего уровня, был человеком занятым. Служил он у генерала Ледовского, Вериного деда, хотя в глазах Сашки на армейского походил мало. Был Юрий Алексеевич низковат, тучноват, с круглой красной лысиной и таким же круглым и красным лицом. Дома у Рябининых всем верховодила Наталья Леонидовна, и вот её Сашка откровенно побаивался.
Как правило, когда Сашка приходил к Рябининым, его встречала сама Оля (Наталья Леонидовна до него не снисходила) – поднималась, всегда очень красиво, как в кино, с небольшого диванчика, делала шаг навстречу и замирала в картинной позе с милой и всегда одинаковой улыбкой. Раньше Сашка не замечал этой её шаблонности, он вообще не очень-то замечал тихую Олю Рябинину, робкой тенью следовавшей за своими подругами – живой и хохочущей Никой, резкой и язвительной Верой. И теперь, оказавшись с ней один на один, он вдруг с особой отчётливостью ощутил эту кукольность, эту неестественность, непривычную ровность эмоций и чувств. В Оле Рябининой не было ничего отталкивающего, но – удивительное дело – в ней не было и ничего притягательного. Нежное лицо, ровный румянец, рот, правильно изогнутый в заученной улыбке, приветливый взгляд карих глаз, тёмные волосы, рассыпавшиеся по плечам – всё вместе это, несомненно, производило приятное впечатление, и если кто-нибудь сталкивался с Оленькой, то непременно улыбался ей, а она улыбалась в ответ, но это был лишь обмен дежурными, ничего не значащими улыбками, потому что (Сашка знал это по себе) стоило Оленьке исчезнуть из виду, как о ней тотчас же забывали. Она была как фабричная кукла, красивая, но какая-то одинаковая. Со всех сторон. Как ни покрути.
Но именно одинаковая Оля Рябинина пришла к нему тогда, когда все остальные отвернулись. Пришла сама и сказала… что-то сказала, Сашка не запомнил что. Он вообще, как ни силился, никак не мог запомнить, что она всегда говорит, и подчас ему казалось, что повернись она к нему спиной, он тут же забудет, как она выглядит, и он страшно пугался этих своих мыслей. Пугался ещё и оттого, что сегодня, сейчас, после всего случившегося он нуждался хоть в ком-то. Даже в такой девушке – пресной, никакой, при прикосновении к которой ничего не возникает, нигде не ёкает, не аукается. А впрочем… впрочем иногда он думал, а, что, если это как раз то, что ему нужно? Спокойная, добрая, уравновешенная подруга рядом. Которая рано или поздно научит его улыбаться, где надо и как надо, кивать головой, говорить нужные слова, изображать лицом подходящие случаю эмоции (где радость – умеренный восторг, где горе – такое же умеренное сострадание), и он, как прилежный ученик, обязательно всему научится, и жизнь потечёт ровно и неторопливо под уютный аккомпанемент чужих гостиных, салонов и кабинетов. И своих… когда-нибудь ведь у него будут и свои…
– А где… – Сашка повернулся к горничной, но закончить вопрос не успел. Та ответила, не дожидаясь, словно, знала, что он спросит.
– Они ушли с Натальей Леонидовной. Просили вас подождать. Слушай, – горничная неожиданно перешла на «ты». Такой резкий переход не столько покоробил Сашку, сколько принёс долгожданное облегчение: всё-таки в фамильярном «ты» ему слышалось гораздо меньше презрения, чем в выцеживаемом сквозь зубы официальном «вы».
Она быстро подошла к нему, стала так близко, что почти коснулась его, во всяком случае расстояние между ними сократилось до той опасной черты, за которой начинаются совсем другие отношения. Сашка непроизвольно вздрогнул, и это не укрылось от девушки. В её чуть узковатых глазах мелькнули смех и торжество.
– Саша, понимаешь, мне сбегать кое-куда нужно, я отлучусь, хорошо? Ненадолго. Наталья Леонидовна с Олей точно ещё где-то час не придут. Я знаю. Они к портнихе на примерку ушли полчаса назад, а у портнихи Наталья Леонидовна часа два проводит. А мне, – она посмотрела на него просящим взглядом. – Мне позарез как надо. Я быстро сбегаю, а ты побудь здесь. Если Наталья Леонидовна вдруг придёт, скажи ей, что я вот только-только за дверь вышла, до прачечной добежать. Хорошо?
Сашка кивнул, сам не понимая, зачем он соглашается. Другой на его месте просто ушёл бы, да что там – другой не стал бы и разговаривать с какой-то там горничной, а горничной не пришло бы даже в голову просить его о чём-то. Но Сашка не был тем другим. Он был Сашкой. Просто Сашкой Поляковым. Человеком без роду и племени, с сомнительной репутацией, с сомнительной протекцией, без друзей, без связей, с девушкой, лицо которой он всё время боялся забыть.
Интересно получалось, и Сашке с горечью приходилось это признать, но, даже поселившись наверху (если его каморку на общественном этаже можно было считать верхним жилищем) и прожив тут уже почти три месяца, он всё же так и не смог привыкнуть к здешнему укладу. К тому, что женщины здесь носят платья и юбки, а не стандартную униформу, не опостылевшие комбезы или безликие рабочие куртки и брюки, как на нижних этажах. И что платья эти, красивые и нарядные, помимо воли притягивающие взгляд, рождающие запретные фантазии и желания, шьют у портних, на заказ. И что женщины ходят к этим портнихам на примерку, проводят там по нескольку часов, крутясь перед зеркалами, смеясь, сплетничая, обсуждая что-то своё, тайное, женское, и вся эта суета, так непохожая на то, к чему Сашка привык, делает этих женщин для мужчин ещё желаннее, ещё привлекательнее. И почему-то именно сейчас, когда Сашка не просто приблизился к этому миру на расстояние вытянутой руки, а вошёл в него, он острее, чем никогда, ощущал свою чуждость.
Он услышал, как хлопнула входная дверь – это горничная Лена побежала куда-то по своим делам – подумал, как это неожиданно оказаться одному в чужом доме, в богатых и просторных апартаментах верхнего уровня. Впрочем, простора здесь как раз таки и не ощущалось. В отличие от пронзённой солнцем, светлой квартиры Савельевых (а Сашка теперь всегда всё подсознательно сравнивал с Савельевыми), где на диванах в беспорядке валялись книжки, а рыжие лучики плясали озорной танец на полу и на стенах, где в воздухе звенел летний смех Ники, а на потрескавшейся от времени шахматной доске, старой доске, с полустёртыми клетками и отбитыми краями, застыли фигурки в недоигранной партии – в отличие от живого хаоса Савельевской квартиры апартаменты Рябининых были застывшим музеем. Прекрасным, величественным, безупречно-надменным музеем. Который был до отказа, до пресыщения, наполнен вещами – красивыми, старинными, принесёнными сюда ещё из той, допотопной жизни. Многие из этих вещей Сашка раньше видел только в книгах и в кино, а о назначении некоторых едва догадывался или не догадывался вовсе. Но все эти вещи, далёкие и совершенные, заботливо расставленные в продуманном порядке, в гармоничной застывшей мелодии, неожиданным образом сужали пространство, отнимали у него жизнь и радость.
Сашка подошёл к тяжёлой бордовой портьере, закрывавшей широкое окно, провёл ладонью по мягкой бархатной ткани. Хотел уже было отойти, но неожиданно вздрогнул, пойманный врасплох раздавшимися в прихожей мужскими голосами. Замечтавшись и задумавшись о своём, Сашка не услышал звука открывающейся двери.
Сам не понимая, зачем он это делает, Сашка юркнул за толстую плотную портьеру, прислушался.
Говоривших было двое. Один из них был Олин отец, Юрий Алексеевич, а вот голос второго… голос второго Сашке тоже был отлично знаком. Тусклый, неживой, начисто лишённый эмоций. Этот голос мог принадлежать только одному человеку – Кравцу.
***
– …я не говорю, Юра, что это нужно делать прямо сейчас. Как раз сейчас этого делать и не стоит. Савельев, если можно так сказать, находится в зените славы. А я, признаться, думал, что он всё-таки споткнётся.
Кравец (а это был точно он, Сашка уже не сомневался) пересёк комнату, его мягкие вкрадчивые шаги приблизились как раз к тому месту, где стоял, боясь громко дышать, Сашка. Кравец остановился, не доходя до портьеры буквально несколько сантиметров, и Сашке вдруг показалось, что сейчас он раздвинет эти пыльные занавески, обнажив скорчившегося от страха Сашку, рассмеётся сухим бесцветным смехом и скажет что-нибудь типа: «ба, Юрий Алексеевич, да у нас тут притаились чужие уши». Сашку передёрнуло. Кравец стоял почти напротив него, и их разделяла лишь плотная, непроницаемая ткань. Сашке казалось, что он даже чувствует, как Кравец водит носом, раздувая широкие ноздри, принюхиваясь, как охотничья собака, уже взявшая след.
– Что ты имеешь в виду, Антон?
– А? – голос Рябинина словно выдернул Кравца из задумчивости. – Ты о чём?
– Ну что Савельев споткнётся…
Слова Юрия Алексеевича сопроводил мелодичный щелчок и следом тихий скрип – Сашка уже знал этот звук. Так открывалась крышка старинного, покрытого лаком, деревянного глобус-бара, ещё одной вещи, о назначении которой Сашка узнал не так давно.
…Первый раз придя в гости к Оленьке, Сашка с удивлением уставился на деревянный напольный глобус, застывший на изящных резных ножках посередине гостиной. Потёртая в нескольких местах карта, нанесённая на него, была совсем не похожа на карту ушедшего сто лет назад под воду мира, и надписи были сделаны на непонятном языке. И всё это было так нефункционально, так бесполезно, но всё равно красиво, и хотелось коснуться пальцами живого тёплого дерева. И он не удержался – коснулся.
– Папа здесь хранит свой алкоголь, – небрежно сказала Оля и слегка толкнула глобус от себя. Ролики на конце ножек недовольно скрипнули, и глобус чуть откатился в сторону.
– Алкоголь? – удивился тогда Сашка.
В его понимании алкоголем назывался самогон, который гнали на всех нижних этажах, и которым нелегально приторговывали, несмотря на строжайший запрет. Сашка хорошо помнил, как отец трясущимися руками разливал вонючее пойло по пластиковым стаканам, чаще себе и соседу Димке, реже – случайно забредшему к ним в отсек собутыльнику. Потому-то Сашка, как ни силился, не мог себе представить, чтобы внутри этого элегантного деревянного шара хранились мятые бутылки с мутной, отшибающей напрочь мозги жидкостью.
Это потом он узнал, что здесь наверху свой алкоголь – красное и белое вино в непрозрачных бутылках, высоких и тонких, с узким горлышком, заткнутым пластмассовой пробкой, шипящее праздничными пузырьками шампанское, золотисто-янтарный коньяк…
– Хотя это, конечно, не такой коньяк как раньше. Как до потопа, – говорила Оленька, открыв крышку глобус-бара и показывая Сашке его содержимое. – Ну ты понимаешь, почему.
Сашка кивнул, хотя он, конечно, не понимал…
Сейчас, услышав знакомый щелчок, Сашка догадался, что Юрий Алексеевич открыл своё сокровище и достал одну из бутылок. Звук вырвавшейся на свободу пробки и следом льющейся жидкости (наверняка, в те пузатые бокалы, которыми так дорожила Наталья Леонидовна) лишь подтвердили Сашкину догадку.
Кравец наконец-то отошёл от окна, и Сашка облегчённо и едва слышно выдохнул.
– Савельев… да, Савельев, – Кравец с шумом опустился на диван и должно быть взял поднесённый Рябининым бокал, слегка отхлебнул (Сашка догадался по чуть затянувшемуся молчанию), а потом продолжил. – Я ведь, Юра, был уверен, что он не подпишет смертный приговор Литвинову. Надеялся на это изо всех сил. Думал, не сможет он пересилить себя, но Савельев и тут меня удивил.
– Неужели подписал?
– Сегодня.
Олин отец хмыкнул, и Сашке послышались в этом хмыканьи нотки восхищения.
– Силён Савельев, – послышался знакомый скрип – это Юрий Алексеевич опустил своё тучное тело в любимое кресло.
– Крепко держится за власть. А, впрочем, чего мы ожидали? – в тусклом голосе Кравца прорезалась тонкая злость. – Это и надо было предполагать. Предвидеть. Фигура Литвинова сегодня для всей Башни – настоящий жупел. Пугало, которое следует публично сжечь, навесив на него попутно свои и чужие грехи. Если бы наш святой Павел Григорьевич сейчас дал слабину, помиловал горячо любимого друга детства, ему бы это не простили. Внизу быстро бы припомнили товарищу Савельеву и его драгоценный закон, и миллионы загубленных жизней ради прекрасной идеи, и линчевали бы вместе с Литвиновым, вываляв в смоле и перьях – чернь любит кровавые зрелища.
Юрий Алексеевич заёрзал в своем кресле, наверно, пытался возразить, потому что Кравец – что было уж совсем неожиданным для Сашки – повысил голос.
– Савельев – игрок не хуже Литвинова. Литвинов надеялся его переиграть, надавив на слабые места, но не смог.
– Случай… – подал голос Олин отец.
– Случай, да. Но какой! И нам сейчас ни в коем разе нельзя ошибиться. Если, где споткнёмся, всё, можно сразу заказывать места в крематории, – Кравец неожиданно визгливо рассмеялся. Потом так же резко затих. Послышалось тихое бульканье, видимо, Антон Сергеевич решил смочить горло.
– Но, – голос Кравца снова вернул себе вкрадчиво-тусклые нотки. – Ледовского следует убрать в ближайшее время.
– Ты предлагаешь… мои люди, конечно, готовы…
– Нет-нет, Юра, прежний план отменяется. Нам тебя сейчас засвечивать нельзя, а если ты со своими ребятами уберёшь старика напрямую, то первым же и окажешься под подозрением. Нет, нам нужно, чтобы ты гарантированно занял место Ледовского, оставаясь для всех кристально честным и преданным.
Юрий Алексеевич шумно выдохнул, не скрывая своего облегчения, но тут же спросил:
– Тогда как?
– Сердечный приступ. Есть одно лекарственное средство, но надо помозговать, как сделать так, чтобы и средство, и генерал Ледовской смогли случайно встретиться.
После этих словах Кравца, произнесённых будничным и даже слегка скучающим тоном, Сашку бросило в жар, так, что пот выступил на лбу. Захотелось прислониться к чему-нибудь холодному, отрезвляющему, или хотя бы просто стереть испарину со лба – промокнуть его пыльной портьерой. И одновременно, как это часто бывает, зачесалось в носу, потом чуть ниже колена, но Сашка не мог даже пошевелиться, чтобы почесаться или смахнуть пот. Он и дышать-то старался через раз. В голову вдруг пришла мысль, ясная и четкая – нет не о том, что он будет делать с этой внезапно свалившейся на него информацией (эта мысль придёт позже) – нет, ему подумалось, а что, если эти двое, Кравец и Рябинин, никуда не уйдут? Или Рябинин не уйдёт? Куда ему уходить, он у себя дома. А потом прибежит эта дура-горничная, придут со своей примерки Оленька с матерью, а он так и будет стоять за этой портьерой… господи, его же найдут, наверняка найдут… и тогда… что тогда?
Эта страшная мысль забилась в голове пойманной птицей, заметалась, и Сашка на какое-то мгновенье потерял нить так некстати подслушанного разговора.
– …а после того, как ты займёшь место Ледовского, уже можно действовать дальше. Савельев опирается на армию, и пусть… пусть. После смерти Ледовского с такой опорой Павел Григорьевич превратится в колосса на глиняных ногах.
– Каких ногах? Почему глиняных? – растерялся Рябинин.
– А забудь! Просто образ. Красивый образ, – Кравец рассмеялся, и Сашка уловил в этом смехе тонкую, едва наметившуюся насмешку.
Рябинин же, ничего такого, видимо, не понял, потому что захохотал вслед за Кравцом искренне и весело. Вот солдафон, мелькнуло в Сашкиной голове, все они, армейские, одинаковы, тупоголовые исполнители чужих приказов. А он? Он сам? Сашка вздрогнул. Ему-то что теперь делать? Такие тайны нельзя просто взять и похоронить в глубине своей души. Вернее, он бы, наверно, так и сделал, если б не одно «но» …
Глава 2. Сашка
Следователь снял очки и устало потёр переносицу. На Сашку он не смотрел, перелистывал, склонив голову, лежащие перед ним бумаги, вглядывался в строчки, подслеповато щурясь.
Сашка сидел напротив. Следственная комната, располагавшаяся на одном из этажей военного яруса, того самого, который отделял верхние этажи, это непоколебимое сосредоточие роскоши и успеха, от всего остального мира, была довольно-таки тёмным помещением. Окна здесь были не предусмотрены, что и понятно – следователям приходилось иметь дело с разным народом, стены – обычные серые, как и везде в Башне, несколько ламп, намертво вмонтированных в потолок, из которых и горели только две или три, да уродливый настольный светильник на стальном кронштейне, прикрученном к краю стола.
Кроме этого стола, да двух одинаковых неудобных стульев, один из которых следователь всегда учтиво предлагал Сашке, а на второй садился сам, другой мебели не было. Сам же стол, за исключением стальной цапли-лампы, всегда был девственно чист. Все материалы следователь приносил с собой в стандартных канцелярских папках, аккуратно раскладывал на столе, вынимал содержимое листок за листком, а по завершении допроса так же методично и аккуратно убирал все бумаги обратно в папки – каждую в свою. За полтора месяца Сашка выучил наизусть все движения следователя, все его привычки и уже угадывал, когда тот бывал доволен его ответами, а когда не очень. Сейчас был как раз второй случай. Когда Илья Ильич (видимо, родители следователя не слишком долго мучались, подбирая имя для сына) вот так устало морщился, потирая виски узловатыми пальцами, это почти всегда означало, что он недоволен. И чем сильнее он тёр свои виски, тем выше была степень его недовольства. Впрочем, он никогда не кричал, и – упаси господи – не бил, хотя Сашка этого страшно боялся. Про следственный отдел в Башне всякое болтали, а когда Сашку сопровождали (они никогда не говорили «конвоировали», всегда только – «сопровождали») до выходного КПП, он сам иногда слышал, доносившиеся откуда-то из глубины этажа, из тёмных запутанных коридоров, чьи-то стоны и сдавленные крики.