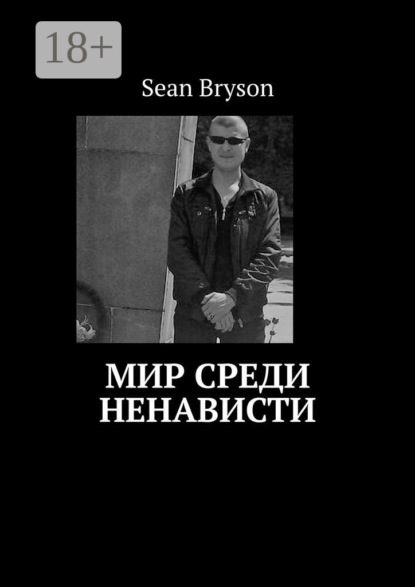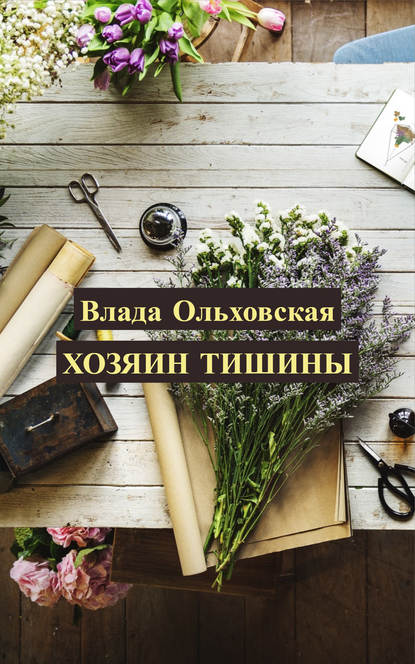- -
- 100%
- +
– Сергей!
Бабушкин голос, негромкий, но властный, обжигает, оттягивает как кнутом. Серёжа нервно дёргается, очки падают, бронзовый Пьеро на старинном пресс-папье жалобно кривит печальное лицо.
– Ты уже сделал домашнее задание?
Серёжа не сделал. Он запутался в уравнении. Он ненавидит математику, все эти цифры, минус на минус равно плюс, иксы и игреки, прыгающие из клеточки в клеточку…
– Серёжа, ты должен хорошо учиться. Это твоя обязанность. Ты, как единственный наследник знатной фамилии, не можешь себе позволить расхлябанность и плохие знания. Ты обязан…
Обязан, обязан, обязан… Строчки в учебнике маршируют строгими рядами, чёрные солдатики, ощетинившиеся штыками. Прозрачная слезинка ползёт по бронзовому личику навечно прикованному к пресс-папье Пьеро. А другая слезинка соскальзывает с бледной Серёжиной щеки и падает неаккуратной кляксой на раскрытую тетрадку.
Он обязан. Права бабушка. Он, Сергей Андреев, единственный законный потомок великого рода, обязан.
Сергей придвинул к себе бумаги и принялся подписывать. Он не вчитывался в слова приказов, не глядел на мелькающие перед ним имена и фамилии, просто ставил и ставил на каждом листке свою небольшую аккуратную подпись – маленькую «С» в тени гордой «А», узорную монограмму, придуманную им ещё в юности. И хотя эта текучка и отвлекала его от действительно важного, того единственного, что имело вес и значение, всё же бабушка была права – он обязан…
Сергей отложил в сторону последний приказ и поднял голову на застывшую с дежурной улыбкой секретаршу.
– Мельников подошёл?
– Пока нет. Его помощница говорит, что он ещё не появлялся на рабочем месте – скорее всего, делает обход больниц. Я оставила ему сообщение, что вы его искали, и продублировала его на планшет.
Она ловко подхватила с его стола стопку подписанных документов, прижала к пышной груди, обтянутой белой шёлковой блузкой, сквозь тонкую ткань которой едва заметно просвечивало кружево бюстгальтера. Повернулась, пошла к двери, медленно покачивая бёдрами. Сергей почувствовал, как лоб покрывается испариной, а руки начинают предательски трястись. Он не мог оторвать взгляда от её чёрной юбки, очень узкой, с неприлично высоким разрезом – при каждом шаге выглядывал краешек внутренней стороны бедра, гладкого, ровного, неестественно-кукольного, – от прямой спины, от того места, где не виднелись, а скорее угадывались маленькие металлические крючочки на застёжке ажурного тонкого белья. Ладони вспотели, он схватил платок, нервно скомкал в руках.
В его жизни не было женщины: он так и не сумел переступить юношескую робость, преодолеть скованность и стеснение, побороть страх, замешанный на сладких и постыдных желаниях, справиться с той классической неуверенностью в себе, которая живёт в душах домашних мальчиков, нервных, нерешительных, бесконечно одиноких. И даже теперь, когда в его руках было всё или почти всё, когда каждый вечер рядом с ним находилась юная невеста, укутанная лёгким флёром доступной распущенности, когда каждый день его собственная секретарша, зрелая, опытная, склонялась к нему, чуть ближе, чем следовало, подавая очередные документы на подпись и обдавая сладким и манящим ароматом духов, он всё равно не мог перешагнуть тот барьер, что однажды вырос перед ним. И потому мучился, потел, бледнел и изо всех сил подавлял мучительное желание, заходясь от страха, что кто-то это желание заметит.
– Господин Бельский вас ждёт в приёмной.
– Что? – Сергей словно очнулся ото сна, уставился на секретаршу.
Она стояла у порога, её рука, на тонком запястье которой поблёскивал золотой браслет, лежала на ручке двери.
– Господин Бельский, Алекс Бельский, он уже подошёл. Сказать, чтобы подождал?
– Да, скажите. Пусть подождёт. Пусть, – его голос дрогнул, отскочил от женской, всё понимающей улыбки…
Сергей попытался подняться, но не смог. Его тело как будто вросло в мягкое, глубокое кресло, утонуло в нём, и это уже не он опирался локтями о тёплое дерево гладких, удобных подлокотников, а сами подлокотники держали его крепкой, железной хваткой.
Снова вернулись мучительные мысли, ожила обида, горькая и по-детски острая.
Они все – все, кого он поднял вместе с собой на вершину, кого возвысил, накрыв крылом отеческой заботы – они его не понимали. Его колоссальные идеи, грандиозные замыслы, великие планы… всё разбивалось об интриги, подковёрные игры, мелкие подсиживания, доносы, сплетни. Мельников, внешне сама сдержанность и аристократическая безупречность, в котором Сергей видел соратника и единомышленника, на словах вроде бы и поддерживал его задумки, но на деле, похоже, тормозил процесс, нарочно затягивая и придумывая всё новые и новые отговорки. Самозабвенно грызлись между собой Ирина Маркова и Анжелика Бельская, а ведь, казалось бы, они обе плоть от плоти Ивара Бельского, ближайшего товарища его великого прадеда, ну что им, спрашивается, делить? Наташа Барташова почти открыто выторговывала преференции, себе и своему мужу, продавая юность и сомнительную невинность своей дочери, упаковав всё в блестящую обёртку правильной наследственности. Юру Рябинина, безвольного и слабого, всё глубже затягивала алкогольная трясина, и он уже не сопротивлялся, шёл камнем ко дну, накачивая себя коньяком и виски. И Караев. Ещё был Караев…
Сейчас Сергей особенно остро понимал, что поставил не на ту лошадку. Он принял полковника, вернее тогда ещё майора, за человека-функцию, за одного из тех, кем легко управлять, кто послушно идёт в нужную сторону, повинуясь едва заметному движению руки – руки Верховного Правителя Башни. Достаточно лишь отдать приказ, как в далёком детстве, когда маленький Серёжа Ставицкий легко посылал в бой игрушечные полки отважных солдат, и те с радостью умирали за него, с благодарными улыбками на пластмассовых лицах. Караев умирать за него не спешил, зато он хотел власти. Генеральских погон и лампасов, привилегий и свободы действий. Наседал, требовал, уже не стесняясь, убрать Рябинина с поста генерала, ставил условия, вцепившись в руку дающего как дикий, степной волк. Волк – Сергей неожиданно дёрнулся от пронзившего его откровения. Действительно волк… а он-то хотел сделать из него служебную овчарку…
Но ничего, ничего, Караева он поставит на место, а остальные… остальные тоже поймут, не могут не понять, и тогда все они – Ставицкие, Платовы, Бельские, Зеленцовы, – все они будут действовать вместе, сообща, как единый и цельный механизм.
Сергей почувствовал, как кресло, крепко сжимающее в своих объятьях его щуплое тело, ослабило хватку, деревянные подлокотники больше не держали его руки, и вместе с этой свободой на Сергея накатила волна возбуждения. Захотелось немедленно действовать, бежать, сворачивать горы. Мощный прилив энергии охватил его.
Это было странно. Спал Сергей в последние дни из рук вон плохо, ворочался, забывался на пару часов, проваливаясь в глубокую, чёрную яму, где не было ни яви, ни снов, а потом вдруг резко просыпался, ощущая на своём плече чью-то крепкую уверенную руку. Жёсткие пальцы больно вцеплялись в плоть, сминая нежный шёлк пижамы, Сергей отчаянно зажмуривался, и тут же до ушей доносился голос, чужой и одновременно знакомый. Этот голос нашёптывал: не время спать, сон подождёт, а у тебя впереди великие дела. Ты, Серёжа, маленький и всегда сомневающийся в себе, укутанный проклятьем робости и неуверенности, только ты способен вдохнуть в этот развращённый, корчащийся в смертельных судорогах мир новый смысл. Спасти человечество, недостойное спасения. Перевернуть историю. Взрастить новый сад, перемолов в чернозём чахлые плебейские ростки. Потому что ты – истинный продолжатель рода Андреевых.
Избранный.
Великий.
Мессия.
Этот голос был сладок и страшен, он пугал и возбуждал, и Сергей, скрючившись на потных простынях, с силой зажимал кулаками уши, а иногда вскрикивал, тонко и утробно, неумело крестясь подсмотренным где-то жестом.
А сегодня ночью до него дошло, явилось откровением, вспыхнув пригрезившимся светом настольного ночника – это же его прадед говорит с ним. Алексей Андреев. Это он приходит к нему, приходит раз за разом, каждую ночь, впивая костлявые пальцы в плечо. Приходит, потому что чувствует в своём потомке силу рода, видит бесценный ген человека, которому суждено изменить мир.
От этого понимания Сергея подкинуло с кровати. Он выскочил в коридор, перепугав скучающего там охранника, ворвался в кабинет и благоговейно – не опустился – упал на колени. Мокрая от пота пижама прилипла к спине, худые колени врезались в жёсткий резной паркет, но Сергей ничего не замечал. Он не сводил горящих глаз с лика прадеда, тёмной иконы, озарённой светом лампад-ночников. Он слушал голос, который уже не шептал, а громыхал над головой, повторяя снова и снова: ты – Мессия, Серёжа, ты – Мессия.
И только утром, едва забрезжил рассвет, тонкой струйкой расползаясь по квартире, гася чадящие огоньки ночных лампад, он поднялся с колен, измученный и одновременно полный сил, понимая, что надо делать, куда идти. Он медленно побрёл в спальню, ни на что не обращая внимания, дошёл до двери, остановился и, обернувшись к охраннику, который неусыпной тенью следовал за ним, сказал вяло, едва шевеля губами:
– Надо… портрет… чтобы много, чтобы везде…
Охранник вытянулся, не понимая – что с него взять, плебей, – но Сергей уже прошёл в спальню, бухнулся на подушки, забылся тут же быстрым кратковременным сном, но перед тем, как опять упасть в беспросветную яму, повторил уже для себя, отчётливо выговаривая каждое слово: везде повесить портреты прадеда, везде, чтобы голос и лик великого Алексея Андреева всегда и всюду сопровождали его, вели во всех начинаниях…
***
Лифт полз медленно, ужасающе медленно.
Сергею теперь часто казалось, что все вокруг тормозят, и люди, и вещи – всё двигается как при замедленной съёмке, и только он один продолжает существовать в нормальном ритме. Сергей едва сдерживался, чтобы не начать пританцовывать на месте, как в детстве, когда мама или няня слишком долго застёгивали пуговицы на его рубашке, отвлекая, воруя минуты у таких важных дел.
– Ах, Серёжа, какой ты торопыга, – улыбаясь, говорила мама, застёгивала последнюю верхнюю пуговичку неудобного и жёсткого воротника и едва успевала поцеловать его в макушку, потому что он, вырвавшись из маминых рук, уже нёсся по коридору в игровую, весело подскакивая, охваченный сжигающим его изнутри жаром нетерпения.
И вот сейчас он чувствовал нечто похожее, только в десять, в сто раз сильнее.
Сергей посмотрел на стоящего рядом Алекса Бельского – интересно, понимает ли этот юный, красивый мальчик всё величие момента? Конечно, вряд ли, но это ничего. Он поймёт, из этого робкого юноши со временем выйдет толк. Ему надо лишь слегка помочь, взять за руку и провести по тёмным лабиринтам судьбы, вперёд, к свету. И этим проводником станет он, Сергей Андреев.
– Ты, Алекс, наверно, теряешься в догадках, зачем я взял тебя с собой?
Сергей заговорил, как всегда мягко, но мальчик при звуке его голоса слегка вздрогнул. Ох, уж эта юношеская нерешительность, вспыхивающая жарким румянцем на бледных щеках, несмелость и стыдливая застенчивость, – во всём этом Сергей видел себя и может отчасти поэтому испытывал к мальчику что-то похожее на отцовские чувства. А ещё у этого мальчика было просто потрясающее внешнее сходство с матерью, Анжеликой (те же изысканные правильные черты лица, чувственные полноватые губы), и – как же причудлива порой игра генов, – с Иваром Бельским, который, получается, приходился этому милому юноше прапрадедом.
– Ты знаешь что-нибудь о своём прапрадеде, Алекс? – спросил Сергей. – Твоя мать рассказывала тебе?
– Его звали Ивар, – проговорил мальчик. – Он был заместителем Верховного правителя, Алексея Андреева. Его правой рукой.
Может быть, Сергею показалось, но он не услышал должного почтения в голосе Алекса. Тот говорил так, словно отвечал заученный, но не слишком интересный урок, и это почему-то покоробило Сергея.
– Именно так, Алекс. Правой рукой. И, возможно, когда-нибудь ты – его потомок – станешь и моей правой рукой тоже. Это будет правильно и справедливо. Когда-то наши с тобой предки вместе создали этот мир, заключив его в бетонные стены Башни. Они были почти Богами, ведь что ждало бы людей, для которых они открыли двери созданного ими мира, без их упорства, без их гения, без их силы? Смерть. Мучительная смерть, – слабый голос Сергея окреп, поднялся ввысь, заполнил железную кабинку пассажирского лифта. – Но люди никогда не умели ценить добро. Никогда. Люди слабы, ничтожны и алчны, им всё время мало, всего мало, они, как малые дети, которые блуждают во тьме и молятся тьме. Тот мятеж, возглавляемый Ровшицем, был тьмой, охватившей нашу Башню, утопившей её в крови и на долгие семьдесят лет погрузивший наш мир в хаос и безумие. Безумие! – тонко вскрикнул Сергей так, что даже по спине лифтёра, который молчаливо-почтительной тенью застыл у двери, пробежала лёгкая судорога, вздрогнули худые лопатки под красным сукном ливреи, нервно дёрнулись длинные пальцы в белых перчатках.
Алекс тоже вздрогнул, бросил испуганный взгляд на Сергея, потом, опомнившись, отвёл глаза. Глупый мальчик, он не понимал его, совсем не понимал. Сергей схватил его за руку, почти силой заставил поднять лицо.
– Знаешь ли ты, как умер твой прапрадед, Ивар Бельский?
– Н-нет, – юноша слегка запнулся.
– И это неудивительно, что ты не знаешь. В лживых школьных учебниках, по которым учили не одно поколение детей, нет ни слова правды. Но я-то знаю, знаю всю правду, и ты, как наследник, как носитель генов, тоже обязан её знать.
Сергей с силой сжимал предплечье юноши, не замечая, что тот морщится от боли. Да и разве это была боль – так, лёгкий укол, по сравнению с тем, что в своё время пришлось вынести Ивару Бельскому.
– А это кто, бабушка? – Серёжа тыкает указательным пальчиком в старую бумажную фотографию, с которой Серёже весело и немного зло улыбается молодой мужчина. За спиной у мужчины синь моря, сливающаяся с голубой лазурью неба, тугой белый парус (Серёжа слышит его звонкую песню), солёные брызги, солнце, опустившее в воду горячие ладони. Ветер треплет густые светлые волосы, сильные руки сжимают штурвал. На среднем пальце огнём горит массивный золотой перстень.
– Это Ивар Бельский, близкий друг моего отца, твоего прадеда. Я тебе рассказывала.
Конечно, бабушка рассказывала. Это тот Ивар, которого… Серёжино сердечко сжимается, глаза против воли наполняются слезами.
– Ты не должен плакать, Сергей. Ты должен помнить, всегда помнить…
Голос леденеет, слова жалят снежными иглами, впиваются в виски. Серёже хочется визжать. Хочется заткнуть уши. Не слышать. Не слушать. Но он не смеет. Снежная Королева холодно и бесстрастно рассказывает о страшных пытках, о выворачиваемой наизнанку боли, и солнечные зайчики за спиной Ивара, смеющегося Ивара с фотографии, расползаются кровавыми пятнами.
– …а потом они повесили его, уже мёртвого, в центре самого нижнего из Поднебесных ярусов, того, что теперь отдан на потеху черни, соорудив там что-то наподобие площади для аутодафе… – страшное слово «аутодафе» бьётся чёрной птицей в маленькой Серёжиной груди, и сердечко трепещет, заходится с каждым взмахом больших чёрных крыльев. – …мёртвого повесили, потому что они боялись его даже после смерти. Ивара было не узнать, настолько изуродовано было его лицо, сломанные руки висели плетьми, один глаз вытек…
«Замолчи, бабушка, пожалуйста, замолчи», – шепчет кто-то внутри Серёжи, а перед глазами болтается в петле мёртвый Ивар…
– Вина твоего прапрадеда, перед этой чернью, перед этими жалкими убийцами, была только в том, что он был богат. Что его вклад вместе с вкладом Алексея Андреева в совокупности составлял более половины всех инвестиций в проект Башни. Что без них ничего бы этого не было. Ни-че-го!
Лоб Сергея опять покрылся испариной, вернулась головная боль, заплясав красными всполохами перед глазами. Он уже отпустил плечо Алекса, стоял, нервно растирая пальцы рук и тяжело дыша.
– И за это его убили?
Рассказ о зверских пытках, которым подвергся Ивар Бельский, пытках, которыми руководил сам Ровшиц, произвели на мальчика впечатление. Он побледнел, вытянулся, и в неловко заданном вопросе отчётливо слышалась боль и сочувствие.
– Не только за это. У Ивара Бельского была страсть к дорогим украшениям, он знал толк в драгоценных камнях, собирал изысканные ювелирные вещицы, о его коллекции ходили легенды. Что-то удалось сохранить одной из дочерей, Элизе, той, что приходится тебе прабабкой. Наверняка ты видел кое-какие украшения у своей матери. Но всё это лишь жалкие крохи – большая часть коллекции исчезла. И где она, никто не знает и по сей день. Тайну своих камней Ивар унёс с собой в могилу.
Последние слова Сергей произнёс почти шёпотом. Поднял голову. С красивого юного лица на него смотрели ярко-синие глаза Ивара Бельского. И на какой-то момент Сергею показалось, что та старая фотография, пронизанная морем, ветром и солью, ожила, и живой Ивар шагнул ему навстречу…
Глава 4. Караев
– Посмотри! Посмотри, что они сделали! Пол… стены… даже в Лидочкиной спальне, даже там…
Кристина, как приклеенная, ходила за сестрой, повторяя одни и те же слова, жалобно всхлипывая и сморкаясь в грязный платок. Даже не в платок, а в одну из детских распашонок, которую она подобрала на ходу, кажется, в столовой. (Господи, почему в столовой? Что делает в столовой грязная Лидочкина распашонка?)
– А вот здесь, видишь? Посмотри, во что они превратили буфет, и стол тоже, и… а я им говорила: это Анжело Каппеллини, деревянная мебель от итальянских мастеров, такой нет нигде в Башне, но они же варвары, варвары! – Кристина шмыгнула носом и уткнулась лицом в распашонку, не замечая, как царапает кожу о жёсткое, испачканное в чём-то кружево.
Сестра её не слушала.
Элиза ходила из комнаты в комнату, рассматривая следы разрушения: вскрытый почти везде паркет, поломанная, растоптанная мебель, буфет Анжело Каппеллини, отцовская гордость – его уронили, когда отодвигали от стены, и теперь он лежал, словно расстрелянный, навзничь, невидяще глядя в потолок осколками острых, кое-где уцелевших стёкол.
– … и сейф… видишь, что они сделали со стеной…
– Да помолчи ты! Надоела ныть! – прикрикнула на неё Элиза и досадливо поморщилась.
Она подошла к стене в кабинете отца, раскуроченной, пробитой почти насквозь – сквозь гнутые стержни арматуры с оставшимися на них кусками цемента и бетонное крошево можно было различить слабый свет, идущий из смежной спальни, – и, не обращая внимания на грязь и на ошмётки заляпанных шелковых обоев, свисавших словно снятая лоскутами кожа, сунула руку в дыру, где некогда был сейф, и принялась сосредоточенно там шарить.
– Ты! – Кристина задохнулась от внезапно пришедшей на ум догадки. – Ты тоже! Ищешь папину коллекцию!
Элиза, даже не повернув головы на крик сестры, продолжила свои поиски. Потом, видимо, убедившись в их тщетности, вынула руку из дыры, подошла к Кристине, молча отобрала у той распашонку и также молча вытерла запачканные руки.
– А ты, можно подумать, не искала, – наконец сказала Элиза и усмехнулась.
Сестра, как обычно, попала в точку. Как только военные всё здесь разворотили и ушли, Кристина, забыв о захлёбывающейся в истерике шестимесячной дочке, бросилась обыскивать дом. Залезала туда, куда никто заглянуть не догадался, отвернула одну из ножек французского клавесина – но кроме старых, пожелтевших документов, что отец прятал там, больше ничего не нашла, – оставленным у дверей ломиком выломала внутренние стенки шкафов в надежде обнаружить там двойное дно, но увы, двойное дно оказалось только у старого комода, который сто лет назад отец велел перенести в комнату горничных. Дыру в стене, из которой извлекли стальной сейф, Кристина осмотрела куда как более тщательно, чем Элиза. Вооружившись фонариком, она обшарила всё, до чего смогла дотянуться, но всё зря – нигде не было даже камешка из знаменитой коллекции их с Элизой отца, Ивара Бельского.
– Я так и знала, – сестра сунула в руки оторопевшей Кристине мятую распашонку. – После тебя искать что-либо не имеет смысла. Уж если ты сунула везде свой длинный нос и ничего не нашла, то, значит, ничего и нет.
Кристина вспыхнула от возмущения. Длинный нос! На свой бы посмотрела для начала.
Строго говоря, носы у обеих сестёр были одинаковыми. Как и глаза, голубые и яркие, им разве чуть-чуть не хватало отцовской синевы; как и волосы, длинные, блестящие, того удивительного пепельно-жемчужного оттенка, которому завидуют все женщины в мире; как и губы, чувственные, полные, уже не детские, но и не перешагнувшие порог, за которым начинается вульгарность и пошлость. Сёстры были близнецами.
Но несмотря на эту внешнюю схожесть, никто и никогда их не путал. И не потому, что у одной из них была какая-то там отличительная особенность, в виде родинки на щеке, или манеры улыбаться или говорить, нет, родинок им природа тоже отмерила одинаковое количество, и улыбались они похоже и часто даже синхронно, и голос у обеих журчал как весенний ручей, но почему-то то, что в Элизе привлекало и манило людей, в Кристине отталкивало и раздражало. Всё это, разумеется, не способствовало хорошим отношениям между сёстрами – они не дружили в детстве, соперничали в подростковом возрасте, а, став взрослыми, едва терпели друг друга.
Будь у них жива мать, скорее всего, острые углы и разъедающая душу ревность со временем бы сгладились. Как это часто случается в семьях, родители бы просто поделили девочек: мать любила бы одну, отец – другую, и это установило бы хоть какой-то паритет, но увы. Отец, как и все остальные, отдавал явное предпочтение Элизе, а Кристине доставались лишь жалкие крохи, объедки отцовской любви. И если б только отцовской любви! Кристине вообще везде и всюду доставались одни объедки!
– Ладно, чего застыла, пойдём дальше, – Элиза небрежно оттолкнула ногой кусок выломанного паркета и вышла в коридор. Кристина покорно потрусила вслед за сестрой.
Сейчас, после смерти отца и, главное, после превращения их привычного чистенького мира в бродячий, полунищенский цирк-шапито, она, как никогда, зависела от Элизы и понимала это. И тому, что Кристина и её полугодовалая дочь были всё ещё живы, а не разделили участь многих их знакомых и друзей, не валялись в куче дерьма с простреленными головами и не болтались в петле на кованных фонарях ботанического сада, только потому, что их фамилии стояли в чёрном списке кровавого генерала Ровшица, Кристина была обязана исключительно Элизе.
У её сестрицы был отменный нюх, и что Элиза умела лучше всего, так это держать нос по ветру, поэтому, едва задул ветер перемен, даже не ветер, а так, лёгкий бриз (никто из них ещё даже толком не понимал всей серьёзности ситуации), как Элиза откуда-то выкопала своего хлыща с неблагозвучной фамилией Скуфейкин, протащила его по всем салонам и гостиным, и – удивительное дело – его приняли. И даже отец, который, казалось, не признавал никаких других фамилий, кроме Бельских, Андреевых, Платовых и Ставицких, который в штыки принял брак самой Кристины – ведь её избранник не отвечал нужным критериям, – и которого с этим браком примирило только рождение внучки, маленькой Лидочки, и тот неожиданно благосклонно отнёсся к тому, что его дорогая Элизочка спит с человеком лакейского происхождения.
Кристина хорошо помнила, как отец, бледный, почти белый, что выдавало крайнюю степень его гнева, велел Элизе пройти с ним, и та, не смахивая улыбки с кукольного личика, впорхнула в кабинет вслед за отцом, а спустя несколько минут выпорхнула оттуда всё с той же улыбкой. О чём они говорили, Кристина так никогда и не узнала, но после этого Скуфейкин почти открыто поселился в их доме, а когда, несколько месяцев спустя грянула буря, оказалось, что Скуфейкин – правая рука генерала Ровшица, что-то среднее между казначеем и финансовым советником, что в их новом мире означало практически сорванный джек-пот.
– В принципе я ожидала, что будет хуже, – Элиза вошла в спальню отца, не торопясь, огляделась. Матрас был стянут с кровати и вспорот, жалобно топорщились тонкие, оголённые пружины. – Но, в целом, всё поддаётся восстановлению.
– Поддаётся, да, – эхом отозвалась Кристина.
– Вик прикажет всё отремонтировать, мебель, какую можно, отреставрируем, и, как только всё будет готово, мы с Виком переедем сюда.
Дурацкое имя Вик вместо обычного Виктор, которым звала своего Скуфейкина сестрица, а вслед за ней и все остальные – все, даже надменная Кира Андреева, – вызвали привычное раздражение, и до Кристины не сразу дошёл смысл сказанного сестрой. И только, когда Элиза обмолвилась, что кровать в отцовской спальне и так давно уже следовало заменить, Кристина вдруг поняла и буквально остолбенела.