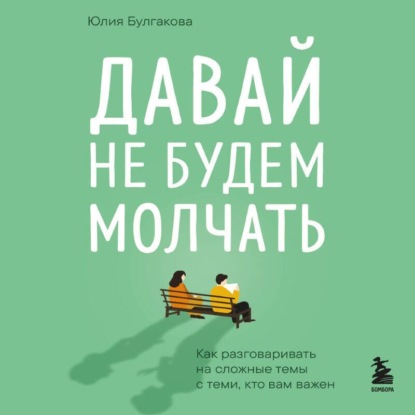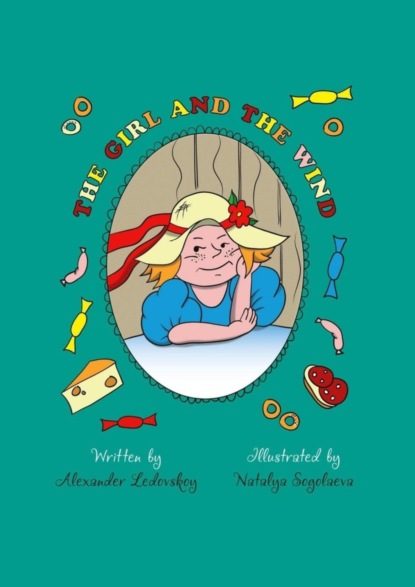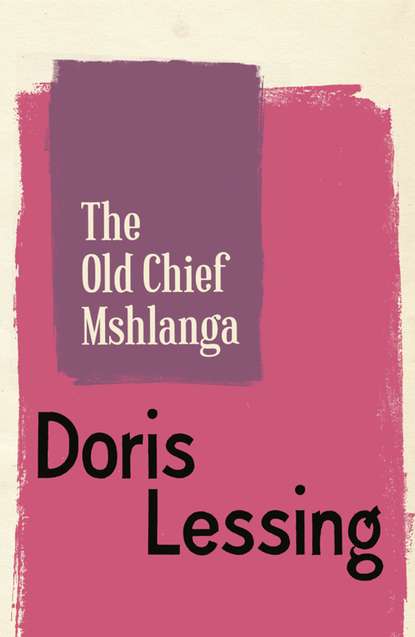Давай не будем молчать. Как разговаривать на сложные темы с теми, кто вам важен
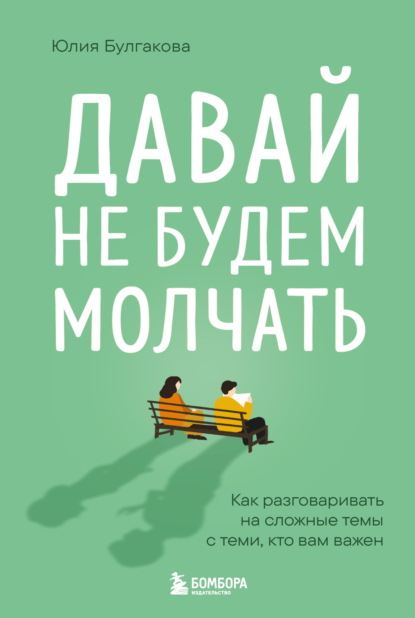
- -
- 100%
- +


Серия «Разреши себе чувствовать»

© Воронова А. С., фото на обложке, 2025
© Бортник В., иллюстрация на обложке, 2025
© Булгакова Ю.Л., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Молчание вовсе не золото
Из всех привилегий взрослой жизни возможность вести судьбоносные разговоры – самая роскошная. Стоит от нее отказаться, и половина прелестей нашего с вами существования летит в «черную дыру». Не сбываются классные проекты, рушатся бизнесы, сходят на нет важные отношения, рвутся дружеские связи.
Как-то я пришла на укладку к своему мастеру. Мы общались с Машей еще со студенческих времен: много знали друг о друге и всегда с удовольствием вели взрослые разговоры о важном. Но в этот раз Маша была «совсем не Маша» – молчаливая, напряженная, что однозначно считывалось по рукам, спине, лицу и тяжести молчания. Оно было колючее, я бы даже сказала, оборонительно-нападающее – только попробуй тронь.
Прошли те времена, когда я могла сделать вид, что не замечаю внутреннего напряжения у собеседника, абстрагироваться и продолжать общаться как ни в чем не бывало. Сейчас я не пропускаю ничего: внимательно подбираю слова или вопросы для любого человека, обозначаю, что чувствую, проверяю предположения и помогаю выразить внутреннее состояние. Уверена, прочитав эту книгу, вы тоже будете гораздо быстрее и легче подбирать слова для своих мыслей, чувств и ощущений. А еще понимать, что на самом деле хочет выразить другой человек.
В общем, я больше не молчу, чем часто раздражаю и даже пугаю близких, которые приготовились присыпать свою боль «песочком». Поэтому я посмотрела на Машу и спросила:
– Что случилось?
– Все нормально, – буркнула она.
Ох уж это «все нормально», прикрывающее боль, напряжение, обиду и бог знает что еще. С недавних пор я категорически запретила эту фразу своему языку, чтобы не врать ни себе, ни другим. И больше на нее не ведусь ни в каких разговорах.
– Нормально – это когда нет явных признаков патологии, так что рассказывай про неявные, – улыбнулась я, а за мной и Маша. Ну слава богу.
– Вчера разговаривала со старшей, – выдохнула она удрученно.
Старшая дочь Маши живет в Москве, видятся они крайне редко, и даже разговоры по телефону для нее практически как живая встреча.
– И?
– Представляешь, она вдруг заявила, что я всегда была холодной матерью и никогда не вникала в ее проблемы.
– До психотерапевта, наверное, дошла, – пошутила я. – И что ты? Спросила, что она имела в виду и почему сейчас про это заговорила?
– Ничего я не спросила, свернула разговор. Мне ничего не хотелось выяснять и уж тем более оправдываться. Не хватало еще унижаться…
– То есть ты хочешь сказать, что на этом ваше общение закончилось? Ты обиделась и замолчала?
Маша молча отвернулась. Что тут скажешь, самое сложное в отношениях с детьми – это признать и осознать свою родительскую уязвимость. И тем более сказать об этом вслух. Большинство предпочитает обидеться на детей и тащить неприятный осадок с собой в старость, отжимая потом внимание и любовь у своих взрослых чад.
– Обиделась? – повторила я.
– Нет, просто неприятно. Да и с какой стати я буду про это с ней разговаривать? Нечего меня судить. Пусть скажет спасибо, что я ей все эти годы помогаю.
Маша закипала, не замечая, как ее руки все больше дрожали, движения становились нервными, а интонация все более резкой. Как-то не так мне представлялась укладка перед фотосессией.
– А ты видишь, что разговор на самом деле не закончен? Он идет полным ходом у тебя внутри. И у дочки, я уверена, тоже.
И тут Маша расплакалась, а значит, разговор не просто идет полным ходом, он буксует, проходит сложные препятствия и обязательно дойдет до кульминации, хотя вербально участники его завершили.
Так происходит всегда.
Ни один разговор не завершается, пока не проживет кульминацию, разрешение и завершение. Если участники не прожили разговор до конца, он будет продолжаться через внутренний диалог. Это когда собеседника нет рядом, а мы с ним мысленно разговариваем, что-то доказываем, объясняем, оправдываемся или предъявляем претензии, вкладывая энергию и эмоции.
Я называю это коммуникативным самообслуживанием, и поверьте, это самая распространенная привычка в отношениях между людьми.
Но что бы мы ни поворачивали внутри, невысказанное вслух неконтролируемо управляет нашим поведением, реакциями, эмоциями, состоянием, отношениями и даже нашим будущим. Только представьте, сколько у каждого из нас таких диалогов, сколько времени и сил тратится на эти внутренние «стиральные барабаны».
Я искренне сочувствовала Маше: из таких коммуникативных коллапсов выбираться сложно, а вот оказаться там проще простого.
– Послушай, а ты холодная мать? Считаешь себя такой? – спросила я.
– Нет! Я категорически не согласна. Конечно, может, я и не образец тепла, но точно не холодная.
– Тогда с чего обижаться? Она не про тебя говорит, она говорит про свои ощущения. И слава богу, что говорит. Знаешь, пока мы готовы друг другу что-то предъявлять, все можно изменить. Почему ты не спросила, как она чувствовала твою холодность, через что? Как она понимает, что это именно холодность, а не другое ощущение? Что именно ей кажется холодным? Что значит для нее теплая мать? И есть ли что-то, в чем ты была теплой?
– Юль, да где же столько осознанности взять и энергии, чтоб вести «смычком» вот так, не останавливаясь, да еще и когда ты слышишь в свой адрес крайне неприятные вещи? – горько спросила Маша.
А правда, где? Где взять энергию для таких вопросов? Где взять силы, чтоб услышать ответы? Так именно там – в продолжении разговора, в движении через воображаемый или видимый тупик, в открытости и честности, в смелости продолжать и не замалчивать, проваливаясь в отчуждение и обиду.
Сколько там энергии, кто бы только знал! Мне даже не с чем сравнить. Бездонное море. Тупик, он же импульс, он же толчок, он же трамплин для движения. Но мы из эгоистического страха оказаться непонятыми и отвергнутыми усиленно тормозим себя, оттягивая к обиде и напряжению. Страх здесь самый что ни на есть «шкурный»: разговор после «точки кипения» может разрушить наши представления о том, как нас воспринимают и кто мы есть для другого человека, а значит, проявить неприглядные стороны, свои и собеседника. А вдруг отношения совсем развалятся, что потом с этим делать? Страшно. Вот мы и глотаем слова, молчим: так привычнее, понятнее, проще.
Напряжение → боль → обида → тупик → молчание → отчуждение → холодность → разрыв → пустота. Если мы искусственно прерываем коммуникацию, хотя внутри бурлит, то такой цепочки не избежать.
” Миллион несказанных нужных слов и незаданных вопросов, оседающих в глубинах сердца, в напряжении тела, в усталости ума и в разочаровании души, становятся тяжелым грузом. Где уж тут взять энергию?
Невысказанное ее съедает.
Мы столько всего умеем: летаем в космос, создаем невероятные шедевры, строим мощные бизнесы, зарабатываем деньги… Но открыть рот и сказать все, что наболело, открыть свою уязвимость через слова, пропустить через горло боль, обиду, слезы, радость, любовь, задать сложный вопрос – это до сих пор вызывает у нас страх и напряжение. И мы молчим. Надеемся, что все решится само, или говорим языком претензий и обид, подавляя истинные чувства, отчуждаясь от другого, а заодно и от себя.
В общем, Маше я молчать не дала, «причинила» добро и помогла подготовиться к разговору с дочкой, а потом инициировать его.
Идея написать книгу родилась у меня именно в тот момент. Я почти 30 лет сопровождаю сложные разговоры партнеров, команд, творческих групп и сообществ. Работаю с клиентами индивидуально, обучаю коучингу, помогаю людям проживать сложнейшие кризисы, нежданные изменения, трансформации. Поэтому точно знаю, сколько людей носят внутри невысказанное. Они понятия не имеют, что с этим надо что-то делать, а не таскать в себе всю жизнь, пока не станет окончательно поздно.
Я уверена, что говорить о сложном и важном с другим человеком можно без обид, претензий и защит. В этой книге я поделюсь с вами и практиками, и свежими идеями, которые помогут все это воплощать в непростой коммуникативной ежедневности.
Возможно, не с каждым можно договориться, возможно, не ко всем переживаниям можно подобрать слова, но в этой книге вы встретите много рецептов и подходов, схем и советов, чтобы чувствовать себя максимально устойчиво в любом сложном разговоре. Это могут быть разговоры с близкими, с друзьями, с детьми, с пожилыми родителями, с любимыми, с супругами, с родственниками, с коллегами, с руководителями и даже просто со случайными людьми.
Примеры я собрала так, чтоб каждый из вас мог сопоставить прочитанное с тем, что приходится проживать сейчас. Имена всех героев в примерах изменены, а контекст обстоятельств настоящий. Я предлагаю читать книгу от начала до конца, с карандашом и блокнотом, вспоминая свои неслучившиеся или незаконченные разговоры, давая им возможность полноценно завершиться.
Уверена, когда вы прочтете эту книгу, сделаете практики и ответите на приведенные в ней вопросы, ни одно слово не будет застревать у вас в горле. Вы сможете исправлять любую сложность в диалоге, подбирая слова мудро и легко, освобождая себя от болезненного напряжения.
Если человек сглатывает обиду и молчит в 14 лет – это адекватно, если в 30 – это странно, если в 50 – недопустимо. Так что пусть ваш взрослый коммуникативный «почерк» раскрывается с каждым разговором.
Глава 1
Немота детской боли. Почему так сложно говорить о самом важном?
Долгое время меня не отпускало одно детское воспоминание. Осознать его силу и все последствия я смогла будучи уже глубоко взрослой, после продолжительной работы с психологом. Много лет оно остро влияло на мои отношения и с собой, и с эмоционально значимыми для меня людьми, будь то мужчины, друзья, мои дети и даже коллеги.
Мне все было сложно в контакте с людьми: обозначить свои границы; сказать «нет», если меня о чем-то просили; проявить недовольство; высказать, что меня ранило; отстоять свое; искренне признаться в своих желаниях и много чего еще. Я не могла спокойно обговаривать денежные вопросы и часто соглашалась на совершенно неуважительные для себя гонорары. Не говорила открыто ни с одним из своих мужей о сексе или об отношении к себе. Я почти ни с кем не обсуждала то, что чувствовала на самом деле, и мне часто приходилось прятать боль за приветливой улыбкой и остроумной речью.
Я компенсировала обидчивость и ранимость иронией и сарказмом. А по-настоящему проявляла себя только в относительно безопасных условиях для моей острой чувствительности. То есть почти нигде.
Я точно не одна такая, поэтому уверена, что вам, мои дорогие читатели, понятно, о чем говорю. Прежде чем рассказать про тот случай, который особенно ранил меня, дам небольшую предысторию.
Обычно мы шумно отмечали разные праздники. Наша двухкомнатная хрущевка трещала по швам, пытаясь вместить всех родственников, друзей, детей, соседей и коллег. Папа как обычно блистал: он всегда был звездным центром в любой компании. Во-первых, пел и играл на баяне; во‑вторых, отличался яркой внешностью, его многие сравнивали с Аленом Делоном; в‑третьих, мастерски шутил. Его еврейский, цепкий юмор придавал всему, что он говорил, особый «цимес».
Этот папин коронный юмор и был причиной моих детских страданий. Только тогда я не могла не то что обозначить, а даже осознать связь между ними, куда уж там перевести в слова и высказать.
Дело в том, что папа самым изысканным образом шутил в присутствии гостей за мой счет, то есть надо мной. В ход шли мои откровения, истории, переживания – он использовал все, вплоть до моей внешности. Папа приводил примеры из моей жизни или рассказывал случаи, которыми в порыве дочерней откровенности я с ним делилась. При этом высвечивал мои особенности так, что в его интерпретации они выглядели нелепо, забавно и смешно даже мне.
Каждый раз после ухода гостей я, обожавшая праздники, чувствовала себя оплавленной и раздавленной. Хотелось плакать, но связать свое состояние с произошедшим ранее, конечно, не могла.
Когда мне было 10 лет, мы праздновали очередной папин день рождения. Папа был в таком блестящем ударе, что, если бы существовал в мире родительский «Оскар» за великолепное обесценивание и завуалированное унижение дочерей, он бы его точно получил. Увидев около меня несколько фантиков от конфет, папа сделал ход:
– Юлечка, там конфетки для нас остались, или ты все съела?
Мне стало неловко. Сладкоежка я была еще та, с чем боролись мои родители, активно внушая мне мысль «И так не балерина».
– Я взяла всего три, – смущенно ответила я и тут же пожалела, что не промолчала.
Папа «вышел на сцену»:
– Друзья, есть один прекрасный еврейский анекдот:
«Сонечка, что-то ты кушаешь как птичка, я за тебя переживаю». – «Мойша, мне приятно, что ты заботишься о моем питании. Думаешь, я мало кушаю?» – «Я совсем не это имел в виду, дорогая. Как птичка – это значит половину своего веса в день».
Вот так и наша Юлечка!
Все расхохотались, кто-то захлопал в ладоши, мне же было так стыдно, что я еле сдержала слезы…
Потом папа рассказал всем, что мальчик, который мне нравится, совсем на меня не смотрит, влепил очередной анекдот, потом говорил что-то еще. Слава богу, мама отправила всех детей играть в другую комнату, и я отвлеклась.
Наверное, только последние лет 10 меня не пронзает это воспоминание. И всего лишь лет пять как я тепло восхищаюсь папиной способностью использовать все, что движется, как топливо для сияния своей харизмы. У него это получалось блестяще.
Папы нет уже четыре года. Сейчас я понимаю, как усиленно он затыкал внутреннюю пустоту и страх перед взрослой жизнью всеобщим восхищением и признанием.
В тот раз, когда гости ушли, я впервые в жизни громко восстала:
– Зачем ты надо мной смеялся и рассказывал эти дурацкие анекдоты?! Как ты мог?!
Папа, казалось, искренне удивился:
– А что такого плохого я сказал? Я же просто пошутил. Надо быть веселее, дочь, нельзя быть такой обидчивой и так серьезно ко всему относиться.
Я замолчала, давясь словами.
Для открытого бунта у меня пока не хватало сил. Подростковые гормональные бури еще не начались, но из ребенка, который доверчиво «пьет» каждое слово родителя, я уже выросла. И все же открыто, по-честному сказать о своих переживаниях было немыслимо. Тупик…
Внутри была полная эмоциональная каша: одна часть меня хотела обвинять, кричать, даже ударить, другая хотела сочувствия и любви, а третья до ужаса боялась родительского презрения. Конечно, если бы папа извинился, мне сразу стало бы легче, детское горе легко развеять. Но такого не случилось. Голос внутри делал меня же виноватой. Он бубнил: «Папа веселый, его все любят, а ты обидчивая, никому не нужная дура». Мама поддержала отца, пошутила, мол, на сердитых воду возят, и устранилась. Я осталась совсем без поддержки.
В этот момент я почувствовала себя никому не нужной, одинокой, никчемной, нелепой. Именно тогда, вероятно, моя психика сделала вывод, омрачивший впоследствии все мои взрослые отношения с людьми: сокровенное нельзя доверять даже близким.
” Так происходит у любого ребенка. Через прожитый опыт постепенно создается свой «список» табуированного – о чем нельзя говорить в семье, а потом и за ее пределами.
Достаточно двух-трех повторений обесценивающего коммуникативного поведения родителей – и у ребенка формируется эмоциональная реакция, которая запоминается психикой как единственно возможная. Это могут быть растерянность, неловкость, обида, внутреннее замирание или все сразу. Если они сопровождаются еще и родительским отдалением, наказанием, гневом, игнорированием, ребенок делает подсознательный вывод: если я хочу, чтоб меня любили, если не хочу быть отвергнутым, надо выбирать, про что говорить, а про что нет.
И он, добровольно подавляя свои чувства, отправляет в небытие невысказанную боль, несправедливость, страх, недоверие, закрывая собой, как амбразурой, дорогие ему отношения с родителями.
И вот он становится взрослым. Но как только дело касается судьбоносно важных тем в отношениях, этот взрослый в момент становится маленьким: обижается, молчит, жертвуя своими чувствами, делает вид, что все хорошо. Лишь бы сохранить отношения, лишь бы быть любимым, лишь бы не оказаться отверженным.
Моя знакомая Ирина два года вела один творческий проект в бизнесе своих друзей. Он начинался как дружеская помощь, а потом развернулся в большую деятельность и приличные деньги.
Но вот незадача: вознаграждение как было на уровне приятельского пособия, так и осталось. Вначале это выглядело уместно: Ирина училась и нарабатывала опыт. Но спустя два года это превратилось почти в эксплуатацию. Давно пришла пора обсудить вопрос оплаты с работодателями, но Ирина боялась, что ее сочтут меркантильной и зацикленной на деньгах и не захотят продолжать отношения.
А поскольку ей нравилась эта деятельность, да и деньги шли от пассивного дохода, она предпочитала молчать, накапливая в душе глухое раздражение и недовольство.
– Я обожаю этот проект, еще и оплату за это получаю, ну не красота ли? Тем более что в деньгах не нуждаюсь, могу вообще работать бесплатно, – вслух уговаривала Ирина себя.
– Слушай, лучше уж бесплатно, как-то честнее будет, – шутила я.
Но какие тут шутки, если уныние и неприятное чувство, что тобой просто пользуются, стали съедать удовольствие от радующей прежде деятельности. Результат есть, а счастья нет.
– Почему ты молчишь? Чего на самом деле боишься? – спросила я.
– Что меня пошлют, что я окажусь «нехорошей девочкой», что почувствую свою никчемность и мной пренебрегут.
Думаю, такая «детская боль» знакома почти каждому. Ребенку вменяется быть послушным и хорошим; каким его хотят видеть, а не таким, какой он есть. И ребенок неосознанно принимает эти правила, подстраиваясь и скрывая от значимых взрослых качества или свойства характера, которые они не хотят в нем по разным причинам принимать. Именно поэтому нам во взрослом возрасте сложно начинать разговоры на личные или интимные темы, связанные с достоинством, ценностью себя, глубокими чувствами, страхами, сексом, деньгами, повышениями по карьерной лестнице… Каждый из вас может написать свой список, но, думаю, во многом мы совпадем.
Чтобы составить разговор, моей знакомой пришлось написать текст, репетировать его несколько раз, чуть ли не наизусть выучить фразы, и все равно она ужасно волновалась и тревожилась.
– Почему я так дергаюсь? Я же взрослый человек, что за ерунда? – спрашивала она и меня, и себя.
– Потому что ты своими словами будешь менять сложившиеся отношения и созданный образ себя, а это волнительно.
Это и правда страшно. А вдруг станет ясно, что к нам относятся совсем не так, как мы думали? Вдруг нас на самом деле не любят? И маленький ребенок внутри взрослого сжимается от предполагаемого отвержения.
” Но без этого нам не повзрослеть, это и есть наша точка зрелости: честно и сразу, не накапливая раздражение годами, говорить о том, что нас беспокоит.
ПрактикаПредлагаю сделать упражнение, которое поможет легко говорить в ситуациях, когда вы чувствуете страх или напряжение. Благодаря ему вы будете вести себя гораздо свободнее в сложных коммуникациях.
1. Выпишите в столбик все темы, на которые вам трудно говорить с эмоционально важными для вас людьми. Доверьтесь руке и свободному потоку, отключите цензуру.
Например:
«Я боюсь сказать маме, что не могу ходить к ней каждый день»,
«Я не могу отказать взрослому ребенку в финансовой помощи»,
«Я не говорю своему мужу, что мне неприятны его заигрывания с посторонними женщинами»,
«Не могу сказать подруге, что мне надоело слушать ее жалобы на жизнь» и т. д.
Выписывайте все, что придет в голову.
2. Теперь возле каждого пункта напишите ответ на вопрос «Что для меня прячется за этой сложностью? Чего я боюсь на самом деле?».
Я думаю, что ответы окажутся с примерно одинаковым смыслом, различаясь только сюжетом.
3. Далее выберите самую легкую для себя тему из перечисленных и напишите все, что хотите сказать, в виде письма от первого лица, то есть от себя.
4. Когда напишете, сразу читайте вслух, представляя человека напротив себя, как если бы смотрели ему в глаза. Помните, что вы взрослый, у вас есть данное при рождении право говорить все, что сочтете нужным, спокойно и достойно, и этим вы никак не ущемляете чувства другого.
Совершенно не обязательно проводить разговор на самом деле, если вы пока не готовы к нему. Эта практика в любом случае расширит ваши коммуникативные ограничения и подарит ощущение свободы. Но если чувствуете, что появилась решимость, смело приглашайте нужного человека на разговор.
5. Выбирайте следующие темы и делайте то же самое, что в пунктах 2–4. Потратьте на это время и энергию, эффект будет мощным.
Коммуникативная мышца, как и любая другая, накачивается от постоянных тренировок. Вскоре вы почувствуете, насколько сильно открытость в общении влияет на внутреннее спокойствие, чувство достоинства и уверенность в себе. В следующей главе разберем эту тему максимально подробно.
Глава 2
Не мешай себе быть собой. Как оставаться взрослым и честным в коммуникациях?
Однажды я пришла в гости к подруге детства поболтать. Наташа не так давно вышла замуж во второй раз. В разговоре она заикнулась о новой работе. Я помнила, что ей давно хотелось найти место и должность, которые отвечали бы ее силе, поэтому радостно начала расспрашивать:
– О, классно, что за компания? Как тебе там? Какие перспективы?
Подруга чуть медлила с ответами, и тут Наташин муж, Сергей, который вызвался налить нам по бокальчику, бодро включился:
– Да супер, Юля! Просто работа мечты: близко к дому, 15 минут всего пешком, стабильная, пусть и не очень большая зарплата, каждый месяц платят день в день, график не жесткий, всегда можно отпроситься, да и ответственность небольшая. Что еще женщине надо?
Я молча удивилась.
Насколько я знала свою подругу, это совсем не ее критерии. Она всегда была амбициозной, любила выпендриться, могла увлекаться проектами до умопомрачения, а потом расслабляться в отпуске. Ей нравились масштабные задачи, а от объема ответственности она с самого детства чувствовала подъем и вдохновение. Так что услышанное от ее мужа мне показалось малоправдоподобным.
– Серьезно? Тебя от этого сейчас прет? – спросила я.
– Ну да, почему нет, – произнесла Наташа чересчур радостным голосом. – Это же хорошо, что я могу много времени отдавать семье.
Я удивилась еще больше… Для нее это совсем инородные слова. Сергей вышел покурить.
– Наташ, что это сейчас было? Я тебя не узнаю.
Подруга горько усмехнулась:
– Не знаю, что и делать. Почему-то он так меня «считывает», прикинь? Уверен, что мне нравится стабильность и спокойствие. Считает, что больше всего я хочу заниматься домом, кухней, внуками и дачей. И работу помог мне найти соответствующую. Из заботы, понимаешь? Пока встречались, никаких проблем с этим не было. Ездили к нему на дачу пару раз, внуки ко мне и к нему по субботам приезжали, гуляли с ними, я обед готовила, и то без фанатизма. Откуда взялось это «близко к дому», вообще не знаю.
– Слушай, а почему ты просто не расскажешь ему, какая ты на самом деле? Почему не предъявишь честно свою суть?
– Он не слышит. Я говорила, что мне это не совсем подходит, что это немножко не то, чего я хотела. Он отмахивается: типа нет идеальных мест работы.
– В смысле, не совсем подходит и не совсем то, что хотела? Это же разные фразы: «не совсем» и «совсем не». Разный текст, разный фокус, разная интонация. Получается, ты не говоришь как есть?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.