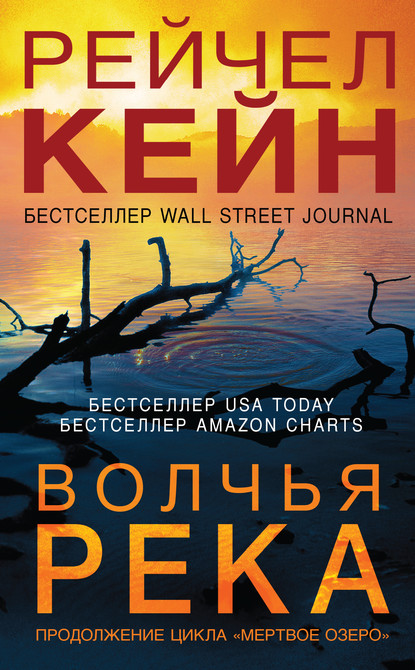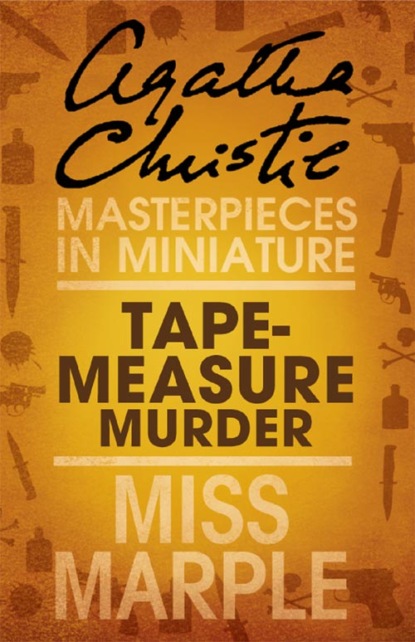- -
- 100%
- +
– Спроси лучше у Сергея. Он знает, скорее всего, где может быть ключ.
– Я спрашивала, он сказал – никто никогда комода не открывал.
– Детективная пьеса. – Митя раскачивается в кресле, вытянув ноги и покуривая, – в таких пьесах обычно что-то должен знать мальчик. Вот и он! Сын и внук, племянник и…
– Просто Кир!
– Кирилка, ты не видел ключа от комода?
– Надо спросить у папы.
– Спрашивал.
– Тогда у деда.
– У деда?
– Угу.
– Ты мудрец, парень, ты будущий Платон.
– А где твоя мама?
– В саду.
А Кирилл не очень разговорчив. И не так мал. Он уже не так мал, право, Митя. Он уже очень большой и, наверное, курит. Двенадцать лет. Но Сергей жалуется, что Кирилл только и делает, что мечтает. Расставит солдатиков на ковре, ляжет на пол, обопрется о локоть – и мечтает. Что, однако, не помешает ему и курить. Да? В Кирилле, точно, что-то есть. Вот, уже улизнул.
– Ему скучно с нами, взрослыми.
– Это мы-то взрослые! Ха!
– У него своя жизнь. Он мне как-то рассказывает: увижу во сне, а потом это сбывается. У тебя, Мить, так бывает: сначала приснится, а после окажется всё точно так на самом деле.
– И что ты ответил?
– Бывает.
– И у меня. Постоянно.
– Что-то в нём есть…
***
И твой отец тоже – человек с не совсем понятной душой, – так говорит Юлия Николаевна, Митина бабушка. В этот вечер она одна дома, с книгой, ей страшно нравится читать трагедии и драмы, боюсь, что и я для неё только герой одной из пьес её воображения, думает иногда Митя, хотя, кстати, о близких он не очень-то размышляет, они есть и всё, вот чем дальше человек, тем больше он его занимает. Но в последнее время бабушка стала интересовать его, он стал ощущать на своей жизни тиски её страстной воли. Наверное, когда мои ровесники уже становятся отцами, я только взрослею – шутит он, – да, Юлия Николаевна с книгой, дома, она ревнует Митю к сестре и к брату, а уж к Антону Андреевичу и подавно: да, отец Мити с непонятной душой, Китайский Лис какой-то. В окно виден соседний дом, в нём таинственный институт: вечно загораются его окна после двенадцати ночи, тёмные силуэты мелькают, шторы задёргиваются. Юлия Николаевна частенько сидит возле подоконника и ждёт внука. Ей мерещатся бандиты, ей слышится визг тормозов, окровавленное тело внука видится ей. Но где-то в самой глубине её души живёт не подчинённое её страхам и тревогам знание, что всё у него будет хорошо. Только вот плохо, что он такой бескомпромиссный, и не умеет уживаться с людьми, и неприспособленный такой, с нежным сердцем.
– В наше страшное время, – говорит она, качая крупной головой, – и с таким нежным, хрупким сердцем.
К Юлии Николаевне зашла соседка, подражающая ей во всем и именно за это ненавидящая её пламенно. Порой Мите кажется, что никакой соседки не существует, есть только сморщенная бабушкина тень.
– Он – талантлив, очень, я верю в него, – делится Юлия Николаевна с тенью, – но боюсь, что с его характером ему никуда не пробиться. Сколько талантов погибло в нашей стране. Сколько любовных лодок разбилось о быт.
Ссохшийся горох на платье кивающей тени. Двенадцать ночи.
«Боюсь, что в бабушкиной пьеске Герой повиснет на подвеске», – записал как-то Митя на листке и сунул листок в папку. Некое подобие дневника – так он озаглавил папку. Некое подобие…
В принципе, мне бы вполне хватило, иронизировал он над собой, нескольких словечек: это, то и некое. Плюс к ним склонения, спряжения, не помню, правда, что спрягается, что склоняется, знаю только, что лошадь запрягают, чего, однако, я никогда не имел счастья видеть. А если когда и видел, то забыл. Что меня плохо характеризует.
***
Итак, в этот вечер они все собрались на даче. Кроме Томы (что, слава богу) и кроме Серафимы Петровны, гражданской супруги Антона Андреевича (что тоже неплохо). Она редко наезжает. У неё сын – толстый Мура. Он такую дачку в гробу видел. Дом большой, отличный дом, но ремонта не могут сделать как люди. Лодыри.
Мура – кандидат наук, но сейчас он торгует пивом. А чем, говорит, не работа, я не ворую, я только на пене зарабатываю.
Серафима Петровна – лаборант на кафедре психиатрии мединститута, образование у неё высшее, но валериану от цианистого она никогда не отличит. Наталья её терпеть не может. Танк, а не женщина. Спасайся, кто может. У папаши вообще с женщинами сложно. Или наоборот – слишком просто. Слишком просто, да, Митя? Брат ответствует: когда ты, сестра, говоришь о Серафиме, в сущности, ты говоришь о Не-Серафиме, вот потому-то мы её называем Серафимой.
Эге! Просто папаша – женолюб. Охотожён. Слаб до баб. И мы все такие! Иди ты, Сережка, знаешь куда, хохочет Наталья, Мура отцу пиво домой носит. Вот и вся истина.
Но появляется Антон Андреевич – они меняют тему. Наташа улыбается, она любит, когда в дачном доме нет хозяйки, кроме неё.
Вот она – дачка. Дачка-кукарачка. Из-за которой распалась семья, из-за которой мама вышла замуж второй раз. Нет, отчим – приличный мужик. Куркуль – но сейчас такой и нужен. А мне? Наталь сморщилась. Фу – гадость. А мамулька была молодой, любила шнырять по курортам, никаких участков дачных она не уважала: да ну, больно-то надо горбатиться над грядкой!..
Вот она – дачка: на первом этаже четыре комнаты, кухня, есть ещё и чулан, где старая этажерка и зимние изношенные кофты. Лыжи там же стоят, меховой жилет, полусъеденный молью, валяется среди вёдер, ржавеет Кириллов детский велосипед, а на стене охотничье ружье отца. Второй этаж не достроен. Обои нужно наклеить и доделать пол. Так и стоит недоделанная дача много-много лет. Столовая, она же кухня. Или наоборот: кухня – она же столовая. Стол обеденный, древний, чёрный, стулья с гнутыми спинками, когда-то такие, кажется, называли венскими, печь, газовая плита, холодильник за ширмой, на ширме когда-то был нарисован яркий тигр. Как в китайской сказке. Любимая сказка Мити: жил один мальчик, считавшийся очень умным, и жил в том же месте злой завистливый богач. Прослышал богач о славе мальчика и решил опозорить его, выставив глупцом. Собрал он у себя в доме всех жителей села, позвал мальчика, поставил перед ним ширму с вышитым на ней шёлковыми нитками тигром и приказал, усмехаясь: поймай тигра! «Что ж, – согласился мальчик, – хорошо. Но велите принести мне толстую верёвку». Богач крикнул – верёвку принесли. Взял её мальчик за оба конца, отошёл от ширмы на несколько шагов, чуть-чуть наклонился и громко сказал богачу: «Я готов. А теперь вы гоните тигра на меня!»
А возможно, сказка и не китайская. Митя глядит на выцветшую ширму и курит. Наталья медленно вылавливает из белой тарелки с желтоватыми сливками красные ягоды. Сергей разливает «Токай».
– Отец, а тебе? С возрастом у Антона Андреевича меняется лицо: верхние веки спускаются всё ниже, нависая над жёлтыми зрачками тонкими смуглыми складками, укрупняется нос, западают щёки.
– А ведь ты, брат, среди художников не котируешься, – задирается Сергей, выпив несколько рюмок. Такие высокие, неприятного визгливого тембра голоса в моде у рок-певцов. Митя едва заметно улыбается. Но Антон Андреевич недоволен. Легче, легче надо жить – молчите, проклятые струны.
– Петухам, наверное, тоже кажется, что соловей не умеет петь.
– Ты ещё и зазнаёшься, – Сергей кривится, – гляди-ка. Ничем ничего, а с гонором. Ну ладно. – Он залпом опорожняет очередную рюмку. – Это неплохо. Всё-таки наша кровь в тебе тоже есть.
Влетает оса, кружит над ягодой, уйди, уйди, бурчит Наталья, надувая губы, уйди, кому говорю. Ай! Оса садится на ее тонкое запястье. Уффф. Улетела мерзавка.
– Где Кирилл? – вспоминает отец.
– Он у соседей. Я видела.
– Что, как Рембрандт будешь?
– Слушай, отстань!
– Бабушка меня научила играть в преферанс. – Сергей щёлкает по розовой рюмке скрюченным худым пальцем. – Тебя вот, Митька, не успела.
Этот вечер на даче. Обязательные собаки лают и лают. От скуки, наверное, лают даже на собственную тень. Оранжевые вершины…
***
(Всё-таки любопытно – загорятся ли вновь сегодня в институте окна? Забыл ты, внук мой, о своей старухе?..)
***
…сосен, и если бы все соседи разом смолкли, можно было бы услышать дальнего дятла на старой сосне. Нет, дятлы, конечно, уже спят. Именно возле этой сосны сметливый Сергей открыл свой кабачок «Под пеньком»: если пойдёшь ночью купаться, сверни на лесную тропинку, самую первую, если встать к улице спиной, а к лесу лицом, не испугайся шорохов всяких и шёпота тёмной травы; сразу за ровной, круглой, как блюдце, поляной, белой от света такой же круглой и ровной луны, ты увидишь сосну, что стоит чуть в стороне от других… Здравствуйте, здравствуйте, Александр Сергеич!.. а возле сосны ты отыщешь мхом заросший пенёк. Там, между корней, в глубине, где прохладно, я прячу бутылку вина. Подошёл, налил в рюмочку, я и рюмочку прячу тут же, чокнусь с сосной за здоровье своё – бд! – и Луна поглядит, и дальний поезд прогудит. Ох, тоска! Дзинь! Моё здоровье, братцы-кролики, ещё раз! Твоё, твоё здоровьице, Сергей Антонович, бедный ты наш, несчастный, никто-то тебя не любит, не жалеет, а разве ты хоть немного не красив? И спрячет Сергей бутылку, пробочкой, припасенной заранее, её заткнув, обратно под пенёк, а рюмашку завернёт в сорванный лист лопуха. Впрочем, не разглядеть в темноте – но на ощупь вроде бы лист лопуха. И тоже припрячет. Вот так. Теперь можно двигаться дальше – в лёгких свист.
***
Антон Андреевич курит. Лицо его неподвижно, глаза полуприкрыты, ему хочется поскорее уйти играть в карты с соседом Мишкой. И с соседом ещё одним, геологом, кандидатом наук Василием Васильевичем. Собственные дети томят его; порой ему перед самим собой неловко, что он совершенно не знает, как полагается обращаться с детьми, ставшими такими взрослыми. Впрочем, он вряд ли отчётливо представлял, как вести себя и с малышами. Подойдёт к маленькому Мите, пальцем, пожелтевшим от никотина, ткнёт в животик: какой чудик! Единственное, что Антону Андреевичу нравилось, – семью фотографировать. Однако вторая его тёща, Юлия Николаевна, которую он весьма побаивался – слишком многого она от него требовала, – глядя на его снимки, постоянно язвила, что узнать на них ни взрослого, ни ребёнка просто невозможно. Как можно было из белокурой Анечки с кроткими её глазами, с её носиком небольшим, чуть вздёрнутым, ухитриться сделать горбоносую косматую ведьму – ума не приложу! Митя, изящный мальчик в голубом шерстяном костюмчике, отвлекался от игры в машины и глядел на бабушку тревожно. Возмущение, удивление, горе, радость – она всегда высказывала вслух, предпочитая всем иным формам выражения чувств старинную форму монолога. Она, конечно, не обращала внимания на прислушивающегося внучка. Господи, как могла она, красавица, умница, ангел небесный, его выбрать, стенала Юлия Николаевна, всё было бы не так, и не погибла бы она, моя ласточка, прожила бы с другим, умеющим оценить её золотую душу и чистоту детскую, долгие годы в счастии и довольстве, а ведь как я её отговаривала, как я её, голубоньку, убеждала – тебя же засмеют с ним, ну, посмотри на него, приглядись – ведь он же косой в придачу, прости меня, грешную, господи, как я не усмотрела, не остановила её!
Часто кроме внука присутствовала при бабушкиных сердечных излияниях соседка, сморщенная старуха, гладко причёсанная, в гороховом платье.
Ещё одна оса прилетела, вот уже волочит своё махонькое брюшко по овалу вазочки с вареньем: попалась! Наталья ложечкой вытаскивает её из тёмно-вишнёвого сиропа, перегибается через деревянный поребрик веранды, сбрасывает осу в траву. Лети, лети, дура, если сумеешь!..
Сергей, как всегда, пьян.
Антон Андреевич следит за ним из-под низких бровей с едва уловимой усмешкой: не то поколение пошло, не то! Дед на собаках один в пургу, по Северу, любимый его девиз: «Время не ждёт!», сам Антон Андреевич и верхом на лошади мог, строитель тоннелей, правда, давно уже только на бумаге – и выпить он может, никогда не опьянеет. А этот! Слаб. Удовольствия жизни надо ценить, учил дед, охоту, женщин, коньячок. Но что голову зря терять? Прицел, огонь – десятка! Нет, не то поколение, не то. Пить и то не умеют. Правда, и в себе тоже кое-что Антона Андреевича смущает: стрелять вот в божью тварь Антон Андреевич не любит, крови не выносит, и наблюдать, как рыба на крючке трепещет, тоже ему неприятно; вот сидеть на бережку в кустиках, потягивать лёгонькое винишко, на воду глядеть, за облачками следить. Одним словом, из тех он охотников, что предпочитают лежать на привале. А женщины? Что – женщины? С Серафимой Антону Андреевичу, в общем-то, неплохо: проста, и, слава богу. Ну, на буфетчицу смахивает, ну, глуповата… Лучшие минуты переживает Антон Андреевич, когда Серафима утром ещё спит: рано, рано встаёт он, умывается, шлёпает в кухню, чтобы, заварив кофе, курить, делать неторопливые глотки, ощущая приятный вкус чёрной жидкости,
– и смотреть в окно. Серьёзные мысли он отгоняет, как комаров, а вот лёгкие, шкодливые мыслишки ласкает и пригревает. Мыслишки шаловливо лазают по женским равнинам, холмам и впадинам, пока, в конце концов, не задремлют меж двух белых холмов, точно смуглые родинки. Антон Андреевич вообще не любит прямых линий и острых углов: в беседах он уклончив, в поступках осторожен. Правда, нет-нет, да и вырвется из его глаз какой-то жёлтый огонь. Тёмной лошадкой называет гражданского супруга Серафима. Он будто резервуар, который долго, покорно принимает в себя всё, что ни нальёшь – драгоценное ли вино, грязную ли воду, – но в какой-то миг, переполнившись, внезапно окатывает тебя фонтаном всей этой малопривлекательной смеси. Вместителен, глубок резервуар…
– Слушай, Митька, – задирается Сергей, – неужели ты можешь бабам нравиться? Только картинками разве…
– Почему это? – Наталья вскидывается: узкая, кривящаяся физиономия Сергея по-родственному мила ей, но она, невольно немного подыгрывая, делает вид, что обижается за младшего брата. – Митяй очень нравится женщинам!
– Ерунда!
– Нравится!
– Чем это?
– Он – красивый.
– Ой, не могу, ой, насмешила! – орёт Сергей. – Красивый! Жердь!
– А ты-то?!
– Я и не претендую, а он…
Митя уже отсел от стола. Он не пьет совсем – так, только чуть-чуть пригубит и отставляет бокал. Среди его знакомых художников пьющих вообще нет, даже курящих мало, Митя вот тоже намеревается бросить, а спиваются, как правильно говорил его преподаватель живописи, старый чудаковатый художник Николаев, только богемствующие бездари, изображающие из себя непризнанные таланты.
На брезентовом стуле, закинув ногу на ногу, Митя срывает и кидает одну за другой в рот чёрные ягоды смородины, мутные и сочные, и лениво перелистывает старый журнал, давно валявшийся среди хлама на даче.
– И вообще наша кровь чёрная, – болтает Сергей, морща длинный хрящеватый нос, – скоро, скоро узнаешь, куда наша кровь тянет!
– Придётся победить дракона.
– Ишь ты – победитель! Ты сначала на отца внимательней посмотри да покумекай, а туда же…
– Удивительно! – восклицает Наталья, по женской своей привычке не вслушиваясь в разговор, а думая о своём. – Нас ведь всех объединяет дача. Мы же друг у друга не бываем! Ты когда, Серёжа, был у меня последний раз? Когда с матерью виделся?
– Больно мне надо у вас бывать.
– Года два назад?
– Эге.
К Мите Сергей вообще не заходит никогда: чужой дом.
Точно сеть с тёмными рыбками, колышутся на Митиных бледно-синих джинсах тени листьев. Антон Андреевич незаметно исчез – скорее всего, ушёл играть в карты к соседу.
– Пойти искупаться, что ли, – встаёт Сергей и потягивается. Он всё делает как-то рывком, криво, даже потянуться плавно не может – изогнулся судорожно, дёрнулся, скукожил треугольник лица. Наташа засмеялась. А Митя, наблюдая за ней, подумал, что нравится она, наверное, каким-то загадочным и милым обещанием, таящимся в её кругловатых глазах и детской полуулыбке. Солнечные пятна волновались на её зеленоватой футболке и серой юбке, и, если приглядеться, на её переносице можно было отыскать рыжеватые крапинки веснушек. Как мило это, как мило.
Ей очень покойно было сейчас, среди двух своих сухопарых братьев, на недостроенной, но уже обветшавшей даче, и она, наклонившись, погладила забежавшую чёрную дворнягу.
– Воплощение дьявола, – пошутил Митя, тоже поднимаясь. Журнал упал в траву беззвучно, как в немом кино. Да, какой симпатичный пёс, улыбаясь, лепетала Наталья, и поглаживала блестящую шерсть, дал бы ты, Серёга, ему что-нибудь. Собака просительно подняла морду, словно понимая её слова, и Сергей кинул ей косточку из вчерашнего супа.
– Скорбные останки курочки тебе, парень! – иронично прокомментировал Митя.
– А тебе и того не достанется! – огрызнулся Сергей. Собака, добродушно оскалившись в ответ, помедлила, потом схватила зубами кость и, вильнув свалявшимся хвостом, в котором торчала бледно-голубая медуза репья, побежала, прихрамывая, за калитку.
* * *
Юлия Николаевна недолюбливала девиц, атакующих её светловолосого внука телефонными звонками. Жениться ему ещё рано – он не встал на ноги, да и зачем тратить молодость на семью? Одна глупая попытка уже была – надо извлекать пользу из своих ошибок. Юлия Николаевна порой так умело отвечала по телефону, что очередная претендентка на непонятное сердце Мити звонить переставала. Зачем вселять напрасные надежды? Жизнь внука весьма интересовала старую даму. То, что она видела постоянно: работа, книги, погружённость в себя, – её вполне устраивало. И закулисная его жизнь представлялась ей такой же беспорочной, почти что ангельской. Но порой какая-то знобящая тревога охватывала старуху, и тогда она старалась удостовериться – да, внук совершенно чист, чист – и её тонкие, наводящие вопросы его телефонным приятелям приносили ей успокоение. Что вы, он такой не от мира сего, говорил какой-нибудь его дружок, он весь в искусстве. Ему ни до чего другого дела нет. Хорошо, хорошо, думала Юлия Николаевна, но вдруг пугалась: господи, а умри она, как будет он жить, её голубь? И, случалось, в весьма мягкой форме пыталась бабушка объяснить взрослому внуку, что жизнь не так проста и кристальна, как считает, видимо, он, что в искусстве нынче не талантом берут, а угождением правящей идеологии, – она так и говорила, вполне откровенно, ведь сама проработала долгие годы в центральной областной газете редактором и понимала правила игры. Митя злился, пинал стул, рявкал на бедную старуху и убегал из дома.
Он и в самом деле не от мира сего – то ли с огорчением, то ли с облегчением думала она тогда. Ни одна женщина не выберет такого в мужья. Всем ведь нужно одно – обеспеченность, опора. Что ж, жаловалась она соседке в гороховом платье, видно, тащить мне этот крест до самой смерти. И детский светящийся мотылёк счастья вдруг пролетал над её тяжёлым львиным лицом.
Приходившие к Мите сначала подвергались рентгеновскому взору Юлии Николаевны, которая усаживала их рядом с собой, расспрашивала о том о сём и, наконец, видимо, убедившись, что опасности нет, звала: Митенька, к тебе! – и выглядывал из своей комнаты, заставленной и заваленной, пропахшей красками и всем, что им сопутствует, улыбающийся Митя, махал рукой – салют! – и его бабушка, Юлия Николаевна, пропустив к нему просвеченный объект, тоже с улыбкой принималась за чтение.
Пьесы, пьесы любила она.
Но знакомство его с Риткой бабушке почему-то понравилось. А ведь Ритка была замужем – и прочно. Муж её, Лёня, Леонид Галкин, работал заместителем директора магазина «Галантерея», того самого, на углу Советской и проспекта Маркса, который в народе давно прозвали магазинчиком Михановского: старикан сидел директором уже сороковой год и, говорят, любил водить в подвалы девочек, где после нескольких приятных для него процедур щедро одаривал их всевозможной косметикой, в те годы редко появлявшейся на прилавках. В Ритке, хорошенькой, подвижной, худощавой, Митя не заметил жёсткого прагматизма, но угадал задавленную тоску по идеалу. Пятнадцатилетняя, в школьной форме с белым отложным воротничком, с косой, перекинутой через плечо, она глянула на него с фотоснимка грустными светлыми глазами, и он тут же понял, для какой судьбы она родилась: пьющий муж, её к нему страстная любовь, страдание, ревность, многотерпение; она бы нянчила его троих детей, вытаскивала его на себе, как фронтовая подруга, из драк и пьянок, в жертвенности своей находя, конечно, неосознанно, тот идеал, которого так недостаёт ей в сытой, обеспеченной жизни. Чтобы убедить себя, что всё идёт правильно, преимущества своей жизни необходимо было периодически демонстрировать бедным подругам, перед которыми раскрывались шкафы с шикарными платьями, пушистыми лёгкими кофтами, дублёнками, кожаными пальто, выдвигались ящики с косметикой, самой лучшей, самой дорогой, французской, раскрывались коробочки с бриллиантовыми серьгами и кольцами (всё имевшееся в доме золото, разумеется, она не показывала – не разрешал Лёня). Подруги леденели от зависти; удовлетворённая, она включила им видео, чтобы, пока они окончательно гибнут под сексуальный фильмик, приготовить им что-нибудь особенное поесть и красную икру выставить на стол – пусть живущие в скудости и нищете вкусят хоть малость от красивого пирога настоящей жизни. Смутная тоска о чём-то неведомом вновь мощным ударом была отброшена в самый дальний угол – и там до поры до времени таилась, иссохшая и незаметная, а лихорадочная мелодия канкана звучала, всё нарастая.
Она была старше Мити на четыре с половиной года. Девочка Кристина составляла предмет её гордости наравне с бриллиантами и любимым кожаным плащом. Миленькая, чёрненькая, кудрявая, она весело щебетала и уже мечтала стать продавщицей. Кристинку Ритка хотела в честь бабушки, Лёниной матери, назвать Деборой. Но муж не дал.
– Ты что, сдурела! – крикнул. – Никаких Дебор.
Так и получилось: Кристина, Кристя, Тина. Митя, впервые к Рите придя (бывшая его сокурсница, Инесса, теперь возглавляющая рекламу в торговом центре, привела его: выяснилось, что с Риткой они приятельницы), ничего особенного в квартире не заметил. Только интенсивное сочетание охры и оттенков красного: гвоздики стояли в хрустальной вазе на фоне яркой шторы. Да и гвоздики-то оказались искусственными. Скучная квартира, мельком подумал он. И, наверное, скуку его и поймала остроглазая Ритка. К видео он тоже не проявил интереса. А что есть? Порнушка? Не смотрю.
И заговорил, глядя куда-то в сторону двери, что да, не отказался бы от домашней видео- библиотеки с лучшими фильмами мира, но денег нет, а вообще-то наступает его время – время настоящих лентяев, даже в библиотеку не нужно ходить – на экране откроется искомая книга, захочешь поиграть в шахматы – играй с компьютерным соперником.
Да, нет же, повторил он, сморщившись, не надо включать, зачем тратить время.
И несексуальный совсем, решила Ритка.
Надо сказать, что мужу она изменяла. Оправдывала она себя тем, что он очень слаб в постели. И нытик. Но Митя, не анализируя, уловил другое: ей просто не хватало содержания.
Форма ради формы – декорации без спектакля.
Митя с любопытством относился к чистым формалистам, но не в жизни
Ритке нужен был текст, который бы она не просто произносила, гуляя между дорогими мебельными досками, но и полностью была уверена, что высказывает она, вслух или про себя, свои собственные мысли.
И Мите стало жалко её, как ребёнка, только-только научившегося говорить и потерявшегося в большом городе среди горящих витрин и холодных небоскрёбов. Впрочем, он тут же подверг ножницам иронии собственную пушистую нежность.
***
Содержание Риткиного Лёни находилось за пределами квартиры, и это было ясно. Его занимали махинации, операции с деньгами, лёгкие интрижки с продавщицами, скорее дипломатического, чем эротического свойства.
Митя, глянув на свадебную фотографию Риты и Лёни, почувствовал подвижность и гибкость его естества – домой он забегал, чтобы вкусно поесть, сладко поспать и горделиво потрепать дочурку по мягким её волосам. Порой он заставал очередного поклонника супруги, но она давно убедила его, что от скуки крутит мужикам головы без всякого там понятно чего, и он не вдумывался, так ли это на самом деле. Жена имела значительную цену в его глазах именно потому, что другие не прочь были её приобрести.
На Митю бы, пожалуй, особого внимания он вообще не обратил: то ли студент, то ли спортсмен – у этого и возможности, разумеется, не было перекупить супругу, однако, неожиданно Ритка заинтересовалась живописью. Она теперь частенько листала дорогие альбомы, до той поры мёртвым капиталом лежавшие в нижнем отделе коричневой стенки.
И Лёня поинтересовался – кто этот Митя.
И сказала ему Рита: это художник, он пока непризнанный, но Инесса утверждает, а Инесса в данном вопросе сечёт, что он точно будет великим.
Точно ветерок прошёл по квартире. О вечности подумала Рита, о собственном бессмертии, и впервые ощутила, как остро она жаждет бессмертия, как страстно жаждет она его. Миллионы людей будут связывать её имя с бессмертным именем его.