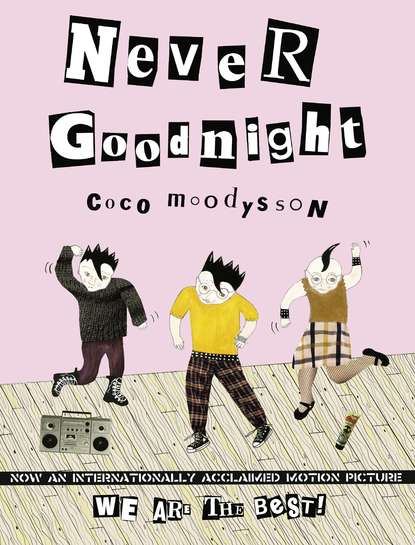- -
- 100%
- +
Он порхает над газовой плитой, напевая. Они на даче с Кириллом вдвоём, и никого видеть не хочется. Сергей уже подзабыл дурное о себе, установил пусть шаткую, но приятную гармонию с миром, доверчивым и обезличенным благодаря отсутствию родственников и знакомых, Кирилл, конечно, не в счет, – и порхает с ножом, вилкой и бутылкой подсолнечного масла… А-а-а! Чуть не обжегся. М-м-м-м-м, вкусно!
И ведь приедут, приедут, завалятся, ладно бы один Митька, а то…
И приехали, чёрт их дери. Наталья на него не глядит. Митя – детский смех, беспечная улыбка. И новое лицо: Рита.
– Сергей, – они знакомятся. Она смотрит многообещающе. Ладно, хоть какое-то разнообразие, сломали кайф своим приездом, так хоть девицу привезли.
– А у нас есть водка, – говорит она и вновь многообещающе смотрит.
– Эге! – отвечает он.
– Где отец? – Наталья скорее спрашивает у Мити, чем у него. Видеть отца здесь, где все произошло, ей было бы, наверное, не под силу. Произошедшее по-прежнему кажется ей ужасным. Ещё в раннем детстве даже мелкие собственные проступки всегда вырастали в её памяти, обступая детскую душу, точно гигантские монстры, пугая и мучая её перед сном.
– За попытку изнасилование какая статья? Кажется, сто седьмая?! Или дают условно?! – Он рывком снимает сковородку. – Мясо готово.
– О! – Ритка, поигрывая бёдрами, подплывает к плите, ненароком коснувшись острого локтя Сергея. – Ты и готовишь?
Она фамильярна, думает он, это и лучше. А мне – сто седьмая. Ха. Он отворачивается от Ритки – и встречается взглядом с Натальей. Её лицо сереет.
– В нашей семье нет морали! – за едой орёт визгливо Сергей. – И в стране нет морали тоже! Только удовольствия!
– Оттого-то, наверное, всё и разваливается, – говорит Наталья сдавленно. Уже ясно и ему и ей: они ненавидят друг друга. Ненависть родилась внезапно. Ненависть теперь – самое страстное, что есть в его жизни, для страсти, возможно, и созданной. В нетрезвом сознании колышутся, перекатываясь и наваливаясь друг на друга, слова и фразы: «преступление», «сотру в порошок свидетеля», «пьяный бред»… Сергей чиркает спичкой о коробок – нет огня.
Коробок падал в тарелку, замечает Митя, а в ней, кажется, была вода.
Ненависть, да здравствует ненависть!
Сергей пьёт. На столе краснеют нарезанные кругами помидоры. Зелёные острова в красном море родной крови.
Если смотреть на землю с самолета, шутит Митя, она похожа на этот вот стол.
– А ты у нас всё с самолета глядишь, сверху вниз на людей смотришь!
Кажется, я Сергею уже нравлюсь, размышляет хитро Ритка, иначе с чего бы он на брата кидался.
– Сережа, ты ведь в органах работаешь, – интересуется она, позаимствовав определение из лексики своей матери, всегда говоривший о соседе по площадке, уважительно понизив голос: «Он работает в органах», – и что ты там делаешь?
– Ну да, в гинекологических, – он досадливо морщится, кривится тонкий длинный его нос, изгибаются червячком алые губы. В нем порок, пошлый порок, с горькой ненавистью думает Наталья. Он гнусный лжец.
– И вообще этот разговор не для стола, – с трудом скрипит Сергей, – ра-бо-та.
Пожалуй, он воспринимает жизнь как игру, от которой давно устал. На службе играешь в одно, дома в другое, с бабами в третье. Со всеми, как тень: так точно, ясно, или – деньги в шкафу, или – подними ножку, опусти ручку. Общее – только постоянная пьянка. Он ещё держится: колоссальная выдержка, отец бы от такой жизни давно загнулся. Прикажешь себе проснуться в шесть пятнадцать. Открываешь глаза – на часах ровно шесть часов пятнадцать минут. Подъём, товарищ капитан! Должны вам весной дать майора. Почему он согласился? Томка уговорила. Дочь офицера захотела и мужа иметь офицера. Его рок. Что они знают, родственнички? Ни-че-го.
Сергей напоминает Мите оставшуюся струну от разбитой виолончели. Почему-то жалко ему старшего брата. Помнит струна о каких-то прекрасных давних мелодиях, о пальцах длинных и сильных, о далёкой жизни, и звенит она остро и высоко, а больше ничего не может. Ей бы служить бельевой верёвкой или быть натянутой над окном, чтобы с лёгким свистом бежали по ней, открываясь и закрываясь, тёмно-желтые, как спелое солнце, а может, красные, как гранат, шторы. Но она так заносчива, ведь чувствует себя до сих пор главною струною царственной виолончели! Лучше стань, струна дорогая, тонкой дорогой для штор, чем узкой петлей для залетной головы.
– Ну, что уставился? – злится Сергей.
Ненависть ощущает Митя. В дачном домике, недостроенном, но старом, над темной крышей которого шатёр сосны, поселилась ненависть.
– Опасная у тебя работа, – Рита улыбается, поглядывая на Сергея через стекло фужера. – У нас в классе многие мальчишки мечтали туда попасть.
– Бухгалтерия, – кривится он. Шеф уже намекал ему на увольнение в запас по состоянию здоровья. Наградят грамотой – и ногой под зад. Одномоментно.
А пока Сергею из игры не выйти. Отвернутся от него все. Даже отец. Сам-то Антон Андреевич в душе демократ, а вот защита ему нужна крепкая. Тылы то есть. На всякий пожарный. В нашей стране иначе демократу не выжить. Или тылы – или денежный мешок. Так что Сергей – в ловушке. Даже для этой вот дурочки-курочки он представляет интерес только поэтому.
В ловушке.
Насчет дурочки он, конечно, не совсем прав. Митя, Митя сияет на вершине её треугольника, а Наталья и даже Сергей лишь оттеняют яркую звезду её души.
Вечер вновь наступил. Наступил я на горло собственной песне. Сергей уже пьян, он закинул ногу на ногу, худая его тень с длинным носом и сутулой спиной покачнулась на тёмно-белой стене. Гоголевская тень, увидел Митя. Каким мерзким кажется бредущей по ограде Наташе тот участок с травой, словно примятой теперь навсегда, возле смородиновых кустов. Горит на столе свеча. Ритка попросила зажечь. Господи, еще месяц назад всё было так хорошо. Наталья поднимается по деревянным ступенькам на террасу. Что месяц? Неделю назад всё было так хорошо. Она склоняется и прикуривает от свечки. Дурная примета. Но она нарочно прикуривает от свечки – пусть ей будет плохо совсем. Сергей дёрнулся, когда, проходя, она чуть не задела его широкой юбкой.
А Ритка так жаждет, чтобы Сергей влюбился в неё. Чтобы все Ярославцевы полюбили её, чтобы мучился от ревности Митя, а она бы любила только его одного. Прелесть Риткина в том, что душа её чиста и не имеет объема. Митя улыбнулся своей забавной мысли и отпил полуостывшего чая. И попытки объем приобрести будут подобны тому наивному приёму, когда прорезается дырочка в полотне, а за дырочкой приклеивается еще одно полотно с изображением, к примеру, дачного домика, вроде бы находящегося и от зрителя, и от наблюдателя, выписанного на холсте, очень-очень далеко. Я люблю Риту за то, чего она не имеет. Хватит нам с ней всего моего на двоих. Лишнее нам зачем? Вот глупышка, разделась, щеголяет в бикини. Обрати внимание, Митя, как вульгарно твоя приятельница липнет к Сергею. Ну и что с того. Все же делается ею ради меня, оттого её прощаю.
Ветер поднимается, и шумит сосна, раскачивается ствол, собака у соседей вдруг тоскливо завыла: наверное, мальчишки просто не взяли её на рыбалку. Спать я пошёл, бесцветно произносит Сергей и криво зевает, даже рот его красный, неправильной формы четырехугольник. У соседей других хлопнули створки окна. Точно выстрел. Ритка примостилась на коленях у Мити. Как милый котнок сижу я, считает она. Развязная дура, сердится мысленно Наталья. Встаёт: я тоже спать. И встречается взглядом с Сергеем: чёрная ненависти хищная птица бесшумно и мгновенно промчалась между ними – тень её на стене даже Митя заметил, рассеянный в чувственности своей светловолосый Митя.
…и только пылающий шепот Ритки в ночной тишине: как я люблю тебя, ты – такой восхитительный любовник, люблю, схожу с ума!
…и приснилось ему: то ли полуразрушенный, то ли не совсем достроенный дом на шоссе возле леса – и огонёк свечи мелькает то в одном окне, то в другом – страх охватывает его отчего-то – вот огонек свечи остановился в окне на первом этаже – и он понимает, что сейчас кто-то из дома выйдет, и страшно ему. Он уже торопливо идет по пустому шосссе, вокруг ни домов, ни деревьев, и вдруг слышит гулкие, отчетливые шаги и, вздрогнув, оглядывается: женщина в чёрных длинных одеждах, с закрытым чёрной тканью лицом спешит за ним. Он, охваченный сильным страхом, уже почти бежит, но чувствует – она тоже идет значительно быстрее. От неё, скорее от нее. Кто она?! Почему она так торопится? Но вот – городская площадь. Он устремляется к первому дому, это серое монументальное здание, открывает стеклянные двери, потом вторые двери, тоже стеклянные, и подбегает к прилавку. Очевидно, он в магазине. Кисти, краски, конфеты, рубашки, носки – всё на прилавке вместе. Он наклоняется, что-то берёт в руки, и в этот момент со стуком отворяется дверь – он оглядывается – женщина заходит с улицы, её встречает неизвестно откуда взявшийся старик-швейцар. Ее чёрная долгая фигура со спрятанным под чёрной накидкой лицом – точно в аквариуме огромном – между стеклянными дверьми. И Митя с чеком в руках – значит, он что-то намеревается купить? – застыв от ужаса, наблюдает за женщиной. – Вам кого? – спрашивает ее швейцар. – Я пришла. – Женщина мгновение смотрит на Митю – кажется, её лицо уже приоткрыто – но вроде и нет у неё лица – и переводит леденящий взгляд… и тут какая-то маленькая фигурка, седая и сгорбленная, семеня, бежит к прозрачным дверям. И он во сне облегченно вздыхает. И потом годы, годы, годы не может простить себе того облегченного вздоха.
***
Утром было ветрено, постоянные, серыми караванами тянущиеся облака закрывали солнце. Оно на секунду-другую прорывалось, ослепляло Наталью, и вновь небесные караваны воровали его, упрятывая в серую мешковину и дачный поселок, и полупустой берег. Тогда Наталья переворачивалась на живот и начинала раскладывать пасьянс «Тройка». Пасьянс был громоздкий, как раз для лежания возле воды, и часто сходился. Сейчас она загадала на неожиданную встречу с приятным мужчиной, так, семерка пик, это мы перекладываем, восьмерка, так, валет бубновый, бубновая дама.
– Положи валета трефового к червонной девятке, – посоветовала Ритка. Она курила и, сняв с себя лифчик от купальника, сидела в одних плавках. Пожалуй, её поведение чуть-чуть смущало Митю, хотя он не сковывал её: сколько художников ведет себя подобно Ритке – только чтобы привлечь внимание к себе. Все они дети малые, дети и только. Гораздо сильнее Риткиных вольностей тревожил его собственный сон. Мысли о смерти вились мышиным серпантином.
Сергей остался на даче. Кирилл висел в гамаке, маясь бездельем. Порой сын так напоминал Сергею его самого в возрасте подростковом, что Сергей морщился, обнажая острые и редкие зубы. Неудачником будет – в родного отца…
– Мить, а Мить?
– Что, Риткин?
– Ты не собираешься в союз художников вступать?
Он прекрасно понимал: вступив туда, он станет для неё, как и для множества людей неискушенных, настоящим художником. Всё же пока Ритку порой покусывали сомнения. Он усмехнулся: будем смотреть.
– У Мити много врагов, – вступила в разговор Наталья.
– У великих всегда много врагов, – радостно откликнулась Ритка.
– Против него в институте даже заговор устраивали!
– Ну, ты это, сестра, выдумываешь.
– Серьезно, заговор?
– Ничего я не выдумываю – целая группа против тебя объединилась!
– Значит, я просто этого не заметил!
На него внезапно напал смех, он захохотал, безудержно и громко, вскочил, рванул вверх руку, заорал: ничего, я все равно победю!
– Нет, побежду! – засмеялась Наташа.
– Победю!
– Побежду!
– Я тучка-тучка-тучка! – Митя кинулся к Ритке.
Отстань, а! Сумасшедший! Куча-мала! Белиберда! Абракадабра! Бра! Ура!!! Наташке даже стало немного обидно. На тебя уже глазеют, сказала она голосом Клавдии Тимофеевны, постыдился бы, не мальчик ведь. Он обнял Ритку и её: мои красавицы! Мои птички!
– Групповуха! – хохотала Ритка. Они катались по песку и орали.
А на даче Сергею хотелось выпить: не оставили водки, козлы. Он нашарил в портфеле три смятые бумажки. Томка предусмотрительно зарплату его конфисковала. Крыса. На бутылку здесь не хватит. Где, где могут быть бабки? Он обследовал карманы брюк, пиджака, перелистал книжонку, пылящуюся на подоконнике, открыл тетрадку со своими заготовками для будущего романа – вдруг застыл, уперев ладони в стол, схватил тетрадку вновь – и изорвал. В тюрьме буду сочинять! Еще бы десяточку. Яростно полез в кухонный столик, загремел вилками, ножами, распахнул шкаф… Вернулся в комнаты, взгляд его наткнулся на комод: что может быть там? Подергал: все три ящика закрыты. И ключей нет. Вот ерунда. Взял кухонный ножик – поковырял в замке. В одном, в другом – дрянь, не открываются. Выскочил из дома, метнул нож в сосну – тот звякнул и упал в траву. Подошел сутуло к ограде, чёрт, ногу занозил, попрыгал на одной, вытащил из пятки другой деревянный шип, выругался, перегнулся через ограду и крикнул: эй, дядь Миш, ты дома? Никого. Куда все подевались, бесы?!
– Слушай, Кир, – крикнул сыну, – сбегай на пляж, попроси у Митьки десятку.
– Сам иди, – огрызнулся Кирилл, – а я не пойду!
– Ты как со мной разговариваешь?! Ты что, совсем потерял стыд?! Двоечник! Бездельник! Висишь целыми днями в гамаке, как макака! Болтаешься на даче…
Ну, завёлся, попал я ему под горячую руку, меланхолично подумал Кирилл, правда, легче на пляж сходить, а там ведь можно их и не найти…
– Стой! – Сергей кинулся ему вслед. – Не надо! Пусть проглотят свои каменные морды! Сходи лучше за молоком.
* * *
Но Кирилл уже скрылся в лесной зелени, он брёл по тропинке, поглядывая по сторонам – вдруг попадется гриб – и, дойдя до знакомого муравейника, остановился. Созерцание холма, похожего на египетскую пирамиду, полного серьезных и умных насекомых, настраивало Кирилла на философский лад. Будь он чуть повзрослее и несколько начитаннее, то состояние, что охватывало его здесь, обозначил бы он словами из Экклезиаста: все суета сует… И собственная жизнь, только начинающаяся, показалась ему сейчас уже завершённой, точно он, Кирилл, древний старик и смотрит на человеческий мир с вершины своих мудрых лет. Палочкой он потрогал пирамиду. Удивительно, как быстро заволновались все муравьи! Точно помчались по холму красные мотоциклисты. Наклонился, поднял с земли большую шишку, уронил её прямо на муравейник. Паника охватила мотоциклистов! Кирилл тоже о мотоцикле мечтал. Пошевелил шишку палочкой. Метались красные насекомые, передавая друг другу сигналы неблагополучия: что-то упало с неба, что-то опасное движется от соприкосновения с другим, тоже опасным. И Кирилл поднял голову, посмотрел ввысь: облака школьными шеренгами тянулись по небу. Озорное солнце то появлялось, то пряталось вновь. И впервые не просто непонятное настроение овладело им здесь, возле шевелящегося муравейника, но странный вопрос возник вдруг перед ним: а з а ч е м ч е л о в е к ж и в ё т?..
Из-за кустов выглядывала девочка. Какой красивый мальчик, решила она и покраснела. Худой и красивый. Она уже с минуту или даже больше наблюдала за ним, но подойти ближе никак не решалась. Ей было двенадцать лет. Мама её снимала дачу в том же дачном поселке. Мальчика девочка уже встречала – возле хлебного магазина. Но он не обратил на неё внимания…
Он присел на корточки перед муравейником. И убрал шишку, и отбросил в сторону палку. Наверное, в этот миг он впервые понял – не словами, душой – что каждый всесилен относительно кого-то другого, а другой относительно кого-то третьего. Он вновь хотел глянуть на небо, но почувствовал, что за ним тоже наблюдают, как за муравьями он. И глянул в сторону почти сердито. Девочка чуть испугалась, но все же не спряталась, а наоборот вышла из кустов и сказала немного манерно: «Здравствуй, а я вот стою и смотрю, что ты делаешь, кстати?». Еще полчаса назад он бы нагрубил этой кокетке. Но сейчас он поднялся и уставился на неё с удивлением – как на существо с другой планеты – на её короткий вздернутый нос, пухлый большой рот и льняные волосы, слегка колышущиеся, как пламя свечи, оттого, что она как-то невольно покачивала головой. И шея, и остренькие ключицы, и ладошки, грязноватые с бледно-розовыми ногтями, – всё неожиданно предстало перед ним крупным планом, а потом растаяло, расплылось, растеклось. И остались только её глаза, зеленоватые, длинные, в чёрных ресничках, глядевшие на него восхищенно. Потом глаза затаились, спрятались под бледные тонкие веки, а на щеке у девочки оказалась темная родинка. Кирилл стоял потрясенный. О любви с первого взгляда он уже читал. А теперь, теперь понял, что так бывает на самом деле.
– Как тебя… вас… тебя зовут? – прошептал он. – Меня – Кирилл.
– Даша, – она потупилась и покраснела опять. И, как в старинных романах, вдруг налетел ветер, и закачались кусты, и…
– А, вот ты где, – сказала женщина совсем не сердито, – пойдем-ка домой, девочка моя. – Женщина показалась синим пятном, а собачка, бегущая за ней, белой кляксой.
– До свидания! – Девочка махнула рукой. И ветер приподнял ее волосы, они упали на глаза, закрыли лицо…
Начался дождь. Солдатиков заменили книги.
* * *
Помнила ли Ритка свое детство? Смутно. Возможно, потому, что ей и хотелось его забыть. Она знала, что отец бросил мать и скрылся в неизвестном направлении. Говорят, видели его последний раз в Алуште. А может, в Алупке. Вот, сверлила мать зло, упахиваюсь, как лошадь, на двух работах, чтобы тебя кормить, чтобы тебе дать образование. И тогда, в детстве, приняла Ритка твердое решение: у неё в жизни все будет не так. Нормальных-то баб мужья обеспечивают, жалобилась мать, неприязненно на дочь глядя, а я – и себя, и тебя! Вот вырастешь, узнаешь, как деньги-то даются. С потом и кровью. А деньги – это всё. Небось, и твой родитель на богатой принцессе женился. Зачем я ему была нужна, деревенская дурёха?
Всё не так будет у Ритки, всё совсем, совсем наоборот!
Мать порой и поколачивала её. Потом жалеть начинала, причитала: нагуляешь, как я, ведь такая ты хорошенькая, любой под куст затащить захочет. Поколачивала – это бы ладно, хуже другое – будила она Ритку ночью, если сама заявлялась поздно от своего очередного – и, если не в духе была, требовала, чтобы дочь отчиталась, как приготовила уроки. И не дай-то Бог, чтобы в тетрадке было хоть что-то не так, хватала тогда мать, что под руку попадет, раз даже тряпку половую схватила – и хлестала, хлестала!
Нет, не вспоминать детство, не вспоминать.
Ходить в кино – вот что любила Ритка. Там на экране цвели красные тюльпаны, бродили красивые молодые пары, появлялись прекрасные герои, и романтичные девушки выходили за них замуж. Одноклассницы, её подружки, лет с десяти собирали открытки с фотографиями артистов, покупали старые журналы о кино у букиниста, вырезали оттуда портреты кинозвезд и потом подсчитывали, у кого коллекция больше, старались походить на любимых артисток: кто на Вертинских, кто на Монику Витти и на вечную Софии Лорен, или, уже на первых курсах институтов, куда они дружно поступили, на Ирину Муравьеву.
И страстные желания славы и любви овладевали Риткой. Она тёрла, скребла, мыла, починяла, зашивала, чистила, мела, она варила кашу, вытряхивала пыль из ковриков – но она мечтала, мечтала, мечтала.
Мать экономила на дочери. Той приходилось донашивать старое материнское белье и вышедшие из моды туфли – благо, у них был один размер ноги. Лишь однажды, в честь окончания школы, мать купила ей туфли – первые собственные Риткины, красивые и дорогие. В лице матери-мачехи неожиданно на мгновение проступили черты доброй феи. И на выпускном вечере все парни приглашали Ритку танцевать: и правда, была она лучше всех! – маленькая, в розовом платье и туфлях на каблучках, как бабочка лёгкая, она кружилась, кружилась, кружилась. И через день записала в заветную тетрадку: «Я поняла, что по одёжке встречают. Я была на выпускном в очень красивых туфлях и восхитительном платье – и все танцевали только со мной. И он».
Да, к тому времени он уже появился. Объединили два поредевших десятых – кто-то ушел работать, кто-то в техникум – и получился из двух классов один. И он появился. Высокий, сероглазый, не такой, как все. Он принципиально не вступил в комсомол. Все осудили его. Он выступил против несправедливой математички. И все восхитились им. Он с подчеркнутым равнодушием взирал на противоположный пол, и все девушки повлюблялись в него, а парни признали его духовное лидерство. Знала бы она тогда, в школе, на какой дуре он женится, у какой обыкновенной стервы будет под каблуком – да она бы окатила его презрительным смехом, плюнула бы ему в лицо!
Ведь она нравилась, нравилась ему – точно! Но это у неё к восемнадцати годам прорезались все зубы мудрости, это её недетская жизнь научила рано трезвости и расчёту, а он туманно глядел всегда куда-то вдаль, в заоблачные выси, он был устремлен далеко-далеко – и все были уверены, что его ждет великое будущее – а что оказалось? Окончил университет и стал работать сторожем – это он-то! – вокруг него собрались какие-то нищие полубезумцы. А потом еще и женился на круглоглазой дуре. Из семьи-то взял самой обычной – преподавательской. На ней, Ритке, он, конечно, не женился. Им владели тайные планы – и жениться для него тогда, в юности, означало окончить жизнь сразу, без проб и попыток, а для неё, наоборот, замужество было началом её настоящего, конкретно воплощённого бытия. Так объяснил ей как-то Митя. Не осуждай его, сказал, ты, конечно, не могла ему не нравиться. Он женился почти в тридцать лет, ты в девятнадцать. Вы просто не совпали во времени. Разошлись по разным дорожкам июньского цветущего сада. К легкому выпускному платью так подошло бы тонкое кружево фаты. Но он сел на коня и ускакал. И куда доскакал? До сторожки! В ней он философские трактаты сочиняет! Ладно, хоть не пьет. Сейчас, говорят, чтобы лупоглазую дуру кормить, книги возле метро продает. Пусть скачет жених – не доскачет… Что ты сказал? Не доскачет? Это из «Мцыри», кажется?
Зато появился Лёня. Он понравился матери. И, наверное, немного приглянулся ей самой: нищий принц чем лучше богатого мельника? Я выйду замуж, и когда-нибудь тот поймет, что не было лучше меня никого, что только я его любила по-настоящему. Лучше меня не было, не было. Поймет когда-нибудь, будет локти кусать.
И вот – Митя.
***
Летом вечерние воскресные электрички всегда переполнены, и Митя стоит в проходе вместе с сестрой. Ритка сидит: нашли ей местечко между двумя толстыми, потными тётками; страшно жарко, и одна из тёток обмахивается газетой. Наташка дремлет стоя. Современные мужчины не привыкли уступать место девушкам и женщинам.
– Офицеры, офицеры! в транспорте сидят, а пожилые и молодые женщины стоят! – Порой горюет Юлия Николаевна. – Это все виновата советская культура, их воспитавшая. А советы – это же власть низов! – И добавляет: но с волками жить – по-волчьи выть. И одаривает Митю весьма укоризненным взглядом: он последнего тезиса не понимает.
– Ты же погибнешь, погибнешь, – сердится она, – культура стала массовой, то есть перестала быть культурой вообще, кому ты нужен со своими работами, кто поймет, что ты имеешь в виду: «Полнолуние души», «Улетающие храмы», «Ступая по завитку улитки» – так, кажется, называются твои работы? – ты останешься изгоем, одиозной личностью, на тебя пальцем станут показывать, как на сумасшедшего!
Но Ритке Юлия Николаевна говорит иначе: всё будет у него, я верю, и выставки, и известность, и материальное благополучие. Беспокоит меня только его личное счастье – ведь Митю надо понимать, терпеть и любить.
Наташа дремлет. Она преодолела себя, вложив в преодоление все свои силы, она приехала на дачу, убеждая себя забыть. Но вряд ли она сможет поехать туда скоро. Острый, ножничный профиль Сергея лучше ей больше не видеть никогда!
Упала чья-то сетка, покатились по вагону яблоки, одно – прямо к ногам Натальи. Митя наклонился, поднял, покрутил в руках, мельком подумав о Сезанне, о двух половинках Платона и о популярном мифе.
– Возьмите, – увидел, что пожилой мужчина в светлой рубахе и красных брюках яблоки собирает: их бока слились в солнце заката. Наталья прикрыла глаза: солнце яблок утонуло в её зрачках. Она устала стоять, затекла левая нога, она правой потерла левую – и прислонилась к брату. Красивая пара, брат и сестра, позавидовала Ритка, даже не подумаешь, что Наташка старше. Прогудел товарный поезд, прогремел слепой кинопленкой. Так и чья-нибудь жизнь порой прогудит, просвистит – и закроет тебе все окна в мир. Митя подмигнул Ритке. Маленькой курочке, зайчонку. Слава Богу, вокзал, прошептала Наталья изможденно.
И верно: уже расходились вокруг электрички пути, как сосуды, уже виадук, дук, дук, дук показался и бледно-зелёная гусеница вокзала проползла средь шумного бала потоков людских.
– Приехали, да? Как хочется спать. – Наталья слегка потянулась: приехали, да. И Ритка стала мазать губы. Лицо её приняло вдруг будничное, озабоченное выражение. Праздник окончился. Ей надо за дочкой, завтра не забыть купить сахара, приготовить банки. Злая жизнь, прямо бля, а не жизнь! Варенье ещё варить, засолить огурцы, помидоры, не на рынке же покупать, как Наташка! Та уже звала: идём, выходим, выходим!.. Мне бы их заботы, я ведь в сущности простая изношенная баба.