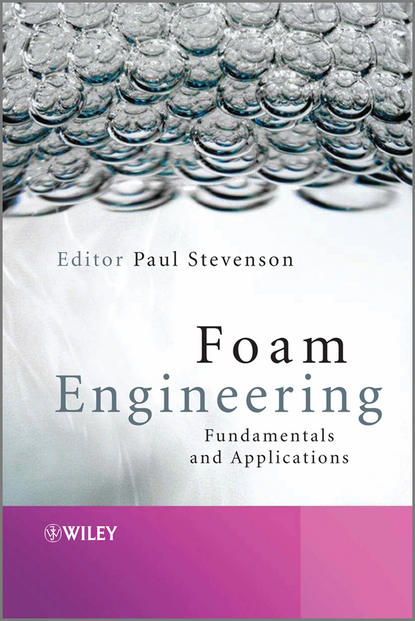Нечистая кровь

- -
- 100%
- +
Взмолился предок Ллойда Оркнейского, что не заслуживает подобного, и поняла Королева Фей, что не раскаялся он в своём поступке. Тогда добавила Королева: само имя его будет забыто, но проклятие продлится, пока в роду не родится девочка. И случится это через тысячу пятьсот лет.
Этот предок короля Ллойда Оркнейского и был первым кунал-троу. И проклятие его жило.
Сестра короля Артура Моргауза, став женою Ллойда Оркнейского, родила сына и умерла до наступления заката того же дня. Огорчённый сверх всякой меры король назвал наследника Мордредом, что значило – ужасающий.
В день восемнадцатилетия Мордреда поехали они с отцом на охоту в королевский лес, и там кабан убил Ллойда Оркнейского, пропоров ему брюхо и выпустив кишки. На последнем дыхании рассказал Ллойд сыну о проклятии, но было поздно, ибо ещё два года назад деревенская девка родила от Мордреда сына.
А спустя шестнадцать лет Мордред убил короля Артура и умер от ран, нанесённых его рукой. И не успел он поведать сыну, в чём судьба его состоит.
Лотиан позже захватили жестокие норманны, а сын Мордреда, убийцы короля Артура, поступил в услужение свирепому ярлу Сигурду и был усыновлён им, ибо все сыновья ярла погибли в боях.
Звали сына Мордреда Эспером, вместе с названным отцом отплыл он в Нормандию и поселился там, совершая набеги на Альбион, богатея и намереваясь прожить долгую жизнь. Не ведомо ему было о проклятии, слабосилен он был с женщинами, а потому дитя не мог зачать многие годы.
Но узнала о том Королева Фей Маб. Явилась она к Эсперу, когда стукнуло ему уж сорок пять лет, и поведала о деянии его далёкого предка, и о проклятии. И дала его семени силу Королева Фей, ибо видела, что Эспер не раз совершал над женщинами то же, что его безымянный прародитель. И велика была её ярость от того, что почти избежал он проклятия. Столь велика, что не пожалела она сестры своей и отдала ему в жёны, и повелела проклятию измениться, дабы больше страдания причинить: каждый из рода его будет иметь шанс на почти вечную жизнь и великую силу, дарованную кровью сидхе, но никому не доведётся прожить долее, чем трижды по восемнадцать от того момента, как родится сын.
Восемнадцати лет мало для осознания ужаса смерти, вот как решила Королева Фей Маб. Пятьдесят четыре года от рождения сына будет мучиться каждый потомок Эспера, пока не родится девочка и не избавит своего отца и весь свой род от проклятия. А чтобы не забывали сыновья, в день рождения наследника будет им видение о том, как они прокляты в веках. Они будут знать и будут терзать себя этим знанием.
И вот далёкий потомок Ллойда Оркнейского, потомок Эспера, сына Мордреда, убийцы короля Артура, однажды стал королём Шотландии. В ту пору род уж давно получил собственную фамилию по семейному поместью Брюи, что в Западной Нормандии – Брюс.
Париж, 1925 год, апрель
Нет, в нём сверкал иной зловещий свет,
Как факел он горел на мрачном пире.
Где есть печаль, где стон, там правды нет,
Хотя бы красота дышала в мире.
Константин Бальмонт «Он был из тех, на ком лежит печать».
Париж, Франция
1925 год, апрель
В Париже нынче только и разговору, что о Международной выставке. Там впервые будет официально представлена экспозиция СССР. Открытие посетит князь! Вы слышали?
Париж любил русского князя. Да и за что его было не любить? Подлинная голубая кровь, изгнанник, которого исторгла Родина (и не имеет значения, что никто его не изгонял, он бежал сам), щедрый и беспечный, как себе и представлял аристократа средний парижанин, красивый… Невозможно красивый. Искренне влюблен в не менее красивую жену. Прелесть, что за князь! Никто и представить себе не мог, что он не вполне человек. А если кто и сказал такое, то ему бы ни за что не поверили, посмеялись разве: экая чушь приходит некоторым в голову, лишь бы опорочить приятного, интересного мужчину.
Меж тем Феликс Феликсович Юсупов действительно не был человеком. Впрочем, казаться умел так, что от реальности не отличишь – великий актёр, что может изобразить кого угодно. Ангела, дьявола, женщину…
Изобразить беспечность труда ему не составляло, пусть и владела князем одна величайшая дума, каковая спать не давала уже девять лет.
Девять…
—…Трижды ты получишь отказ. И после третьего раза у тебя останется десять лет.
– А потом?
– Ты умрёшь.
У князя стремительно кончалось время. Песком уходило сквозь пальцы. Только один человек во всём мире мог его спасти. Одна. Могла. Но не хотела. И эти девять лет она пряталась Бог знает где, периодически мелькая то тут, то там, в разных городах Европы, всегда мастерски уходя от слежки. Растворялась среди людей. Почти не использовала колдовство, прекрасно зная, что князь его почувствует. Закрывалась от чародейских методов поиска: ни единого волоска, ни клочка её одежды, ни капли крови не удалось добыть князевым ищейкам.
Ровно десять лет будет 20 декабря 1926 года. Надо торопиться.
Сегодняшним утром у князя появилось удивительно приятное предчувствие. Конечно, его можно было списать на общий ажиотаж в связи с открытием Международной выставки декоративных искусств и современной художественной промышленности, каковое он собирался посетить, но было смутное ощущение, что дело не только в этом.
Выбирая туалет для торжественного выхода, князь вполголоса напевал. Придирчиво оглядывая наряд жены, улыбался, а затем даже взял её за руку, закружил, исполняя танцевальные пируэты, прижал к себе, развернув лицом к старинному трёхстворчатому зеркалу от пола до потолка. Ирина Александровна, глядя на мужа в отражении, негромко и мелодично рассмеялась:
– Что с вами сегодня, душа моя?
– Сегодня я получу известие, которого долго ждал, – шепнул князь ей прямо в ухо, неотрывно глядя в зеркало.
– Счастливое известие?
– Это для кого как.
В нежной ухмылке князя было нечто демоническое. Иногда Ирина Александровна его побаивалась. Впрочем, он жену не винил, ведь она была всего лишь человеком. И дитя ему родила человеческое. Он любил её, конечно же, любил. Как умел. Но спасти она его не могла.
Князь очень хотел жить.
Неожиданно Феликс Феликсович нахмурился. Отпустил жену, подошёл к комоду, выдвинул верхний ящик, что-то долго разглядывал там, словно теряясь в раздумьях. Затем, наконец, извлёк на свет божий одну из шкатулок красного дерева с резной крышкой.
– Вам необходима брошь, сердце моё, – пробормотал он под нос, перебирая украшения. – Что-то с цветами. Скажем, вот эти нарциссы. Штрих матово-белого и сливочно-жёлтого придутся как нельзя кстати.
Закрепив на стояче-отложном воротничке блузы жены выбранную брошь, князь ещё одним критическим взглядом окинул весь образ целиком. Нежно-сиреневая юбка с ассиметричной широкой рюшей по подолу чуть приоткрывает тонкие щиколотки, удлинённый жакет цветом на полтона темнее, а блуза – светло-алая, будто немного припыленного оттенка, как и шляпка-колокольчик.
– Апрель всё ж прохладный в этом году, как бы вам не застудиться, тем более, что выставка большею частью на улице проходит.
С этими словами князь помог жене накинуть лёгкий светло-бежевый плащ, этот бежевый оттенок тон в тон повторял цвет его костюма-тройки. Ведь рядом с женой он должен смотреться безупречно. Впечатление складывается из множества мелочей – покрой костюма, выбор ткани, цвет, украшения. Феликс Феликсович поправил шляпу, платочек в нагрудном кармане пиджака, перстень-печатку с гербом рода на безымянном пальце левой руки… Perfecto.
Вот теперь Париж готов к явлению княжеской пары.
Итак, выставка!.. Ах, выставка, выставка, выставка! Какими словами описать это невероятное зрелище, это воистину грандиозное ме-ро-при-я-ти-е? Больше двадцати гектаров Парижа – от главного входа Гран-Пале по мосту Александра III до Дома инвалидов – сами по себе превращались в объект искусства на глазах восхищённых жителей и гостей города. Работы по монтажу архитектурных сооружений и скульптур ещё продолжались. Тут и там сколачивались мелкие лавки и возводились павильоны, в которых художники и ремесленники будут продавать свои изделия. Стук молотков звучал отовсюду, летела пыль, перекрикивались строители, не обращая внимания на толпы зевак. Открытие запаздывало на две недели, но большая часть экспонатов всё ещё была далека от завершения и, тем более, демонстрации жаждущей публике. Что не помешало ту самую публику, в количестве около четырёх тысяч человек, пригласить в Гран-Пале на торжественную церемонию.
В три часа пополудни, одновременно с первыми аккордами Марсельезы, Феликс Феликсович и Ирина Александровна вошли в приветливо распахнутые двери Гран-Пале. Время было рассчитано идеально. Всем присутствующим показалось, будто ждали только князя, и музыка возвестила о его приходе. Князь улыбался с непринуждённостью человека, знающего, что весь мир крутится исключительно вокруг него. Он лёгким движением изящной руки подхватил с подноса чинно проходящего мимо официанта бокал шампанского, очаровательно улыбаясь, передал его супруге, аналогичным образом добыл напиток для себя и, чуть слышно подпевая гимну, стал разглядывать самых знатных, богатых и чиновных людей Парижа, собравшихся сегодня здесь. Таковые составляли примерно пятьсот из всех приглашённых. Кроме них, по огромному залу Гран-Пале рассредоточились иностранные делегации и сотрудники профильных министерств Франции. Ещё около тысячи человек – художники, артисты театра и кино, дизайнеры, архитекторы, портные, скульпторы и прочие личности творческие, как непосредственные участники выставки, так и те, кто пришёл взглянуть на работы конкурента, или просто развлечься. Оставшиеся – всяческого рода скучающие молодые люди и дамы разной степени легкомысленности, какие-то сомнительного вида горожане средних лет, целые семьи с детьми и большими псами, а также многие, многие другие.
Многие другие князя не интересовали. Он ожидал вполне определённого человека.
Пока на специально сооружённую временную сцену один за другим восходили важные люди, обращаясь к присутствующим с торжественными речами о необходимости и своевременности выставки, «…и этот эпохальный момент…», «…запомнится в истории города, и, вероятно, мира…», и прочее, прочее, прочее, князь успел выпить два бокала шампанского, переброситься дружескими приветствиями с десятком-другим знакомых и… соскучиться.
– Прошу меня извинить, дамы. Ирина Александровна, вы не будете возражать, если я вас покину? – обернулся он к жене, которая уже давно приглушённо беседовала с двумя приятельницами.
Ирина Александровна, прекрасно изучившая характер мужа за годы брака, лишь ласково улыбнулась ему. Женщины, с которыми она общалась, попытались было начать уговаривать князя остаться, они, мол, ещё не имели удовольствия сами обратиться к нему, но он решительно, однако же вежливо, прервал их излияния, заверив, что остаётся здесь, в пределах площади выставки, и поговорить с ним можно будет в любой другой момент сегодня. С видимым огорчением они его отпустили.
Князь немедленно направился прочь из Гран-Пале, внимательно оглядывая толпу. Периодически его останавливали знакомые, чтобы обменяться приветствиями и добрыми пожеланиями, подходили дамы из числа тайных (и явных) поклонниц.
– Ваше сиятельство, как приятно видеть вас здесь сегодня!..
– А, добрый день, князь! Вы же помните о том прожекте, который мы обсуждали с вами?..
– Прошу вас, умоляю о встрече!..
– Будете делать ставки на этой неделе?..
Вокруг павильона СССР суетились строители, как и многие выставочные площадки сегодня, он ещё не был готов, но строгая и элегантная красота уже угадывалась. Князь остановился неподалёку, в тени деревьев, и стал наблюдать за кипучей работой.
– Должно быть, здесь получится нечто совершенно невероятное, как считаете, ваше сиятельство?
К князю подошёл именно тот, кого он так усердно выискивал в толпе – Валтасар Клеменс ван Дейк. Мимолётного взгляда было достаточно, чтоб определить этого мужчину в пираты. Мощная фигура, чёрные волнистые волосы до плеч, повязка на левом глазу, из-под которой чуть виднелась побелевшая сморщенная кожа шрама, небрежный костюм – вместо пиджака потрёпанная кожаная куртка. И пахло от него солью.
Но ван Дейк был не пиратом, а потомственным китобоем в четвёртом поколении, и, конечно же, в Париже ему нечего было делать, ведь шхуна «Далёкий берег» заходила в Марсель, торговля шла там же, и команда предавалась отдыху с свойственной всем морякам широтой души тоже в весёлом городе-порте. Ван Дейк приходил к князю. Ван Дейк князю служил.
– Я уверен, что это будет нечто принципиально новое, – отозвался Феликс Феликсович. – Не терплю замшелую старину, знаете ли! Время летит вперёд, вперёд, искусство просто не имеет права застывать мухою в янтаре. Слышали, что новый стиль, обильно представленный здесь сегодня, назвали «ар-деко»?
– А я позволю себе с вами не согласиться, ваше сиятельство. Старина прекрасна и столько нам подарила удивительных вещей. К примеру, что может быть прекраснее Античности, даровавшей миру Женщину?
– Женщину? Или же её Образ?
– Женщину, ваше сиятельство, женщину во плоти. Мраморной, но не холодной, живой. Технику же импрессионистов, либо изрядно на неё похожее искусство открыл ещё великий Франс Хальс. Ничего нет нового под луной, ваше сиятельство.
– Франс Хальс… Золотой век голландской живописи?
– Золотой век голландской живописи в уютном городе Харлеме. Не какой-то там настырно пышный Амстердам.
Они перешли на едва слышный шёпот, хотя в шуме стройки кругом никто и не смог бы расслышать их беседу. Князь ревностно защищал свои тайны. И, начиная с этого момента, окружающие, если и улавливали случайную фразу, то фраза эта относилась к области яростного спора об искусстве, а вовсе не к тому, о чём на самом деле говорилось. Между тем, реально говорилось следующее.
– Попалась, пташка! Харлем, надо же.
– Пансион святой Агнессы. Дыра дырой, прошу прощения, ваше сиятельство.
– Она думала, что в дыру я за ней не полезу. Глупая, глупая пташка. Ты меня осчастливил, Валтасар Клеменс ван Дейк, плата будет вдвое больше обычной.
Князь и ван Дейк сотрудничали давно, и, несмотря на столь разное положение в обществе, они обнаруживали друг в другу много общего. В частности, ван Дейк тоже был прекрасно образован и говорил почти на десятке распространённых европейских языков. Когда-то давно он хотел бросить семейный промысел и стать художником, но не вышло, уж очень сурово наказал его отец за «предательство крови».
Самое интересное же заключалось в том, что ван Дейк немного владел чародейским ремеслом – в его разветвлённом генеалогическом древе одна длинная ветвь восходила к мельничному духу, которых иначе называют кабутерманнекин, а другая, несколько короче, к прекрасным водяным неккерам.
– Для меня честь оказаться вам полезным, ваше сиятельство. Прикажете выкурить её из норы, в которую она забилась?
– Ни в коем случае, – нараспев произнёс князь. – Пусть пребывает в покое и довольстве, пока может. Я сам ею займусь. Не терпится!
– Не поверите, ваше сиятельство, но я вам даже сейчас кое-кого покажу. В этот раз я действительно доволен своей работой. Поверните голову чуть вправо, пожалуйста. Видите семейную пару под деревьями дальше?
– Довольно скучные мещане.
– Чета ван Лохем. ОНА работает у них секретарём. Выполняет различные поручения: почту разбирает, совершает покупки, преподаёт им русский язык.
– Зачем им русский язык?
– Сочувствуют новому режиму в России, ваше сиятельство.
– Смешно. Ах, какое падение! Дочь графа служит унылым мещанам, живёт в дыре, лишь бы спрятаться от меня. Упряма, как баран. Я, Вал, ведь не сволочь, не скотина последняя, я хотел по-хорошему, до последнего хотел. Она сделала свой выбор. По-хорошему больше не будет.
Глаза князя, тревожно-светлые, цвета, напоминающего об обманчиво-крепких весенних льдинах на реке, пронзительно сверкнули. Если бы кто-то, кроме Валтасара, увидел это, тотчас убедился, что перед ним не человек. Кто угодно, но не человек.
– Приходи ко мне вечером, Вал, этак часиков в одиннадцать. Весь день я буду невероятно занят, а вот вечером мы с тобой рассчитаемся, и никто нас уже не побеспокоит, к этому времени в квартире не будет гостей и Ирина Александровна уйдёт к себе, она стала рано ложиться спать, и сон у неё очень крепкий.
– Как прикажете, ваше сиятельство.
Сказать, что ван Дейк удивился значит ничего не сказать. Князь никогда не приглашал его к себе домой для расчётов, они всегда встречались только в людных местах. Но и ослушаться он не мог, не таковы были их отношения, чтобы задавать лишние вопросы или затевать споры.
* * *
– Прекрасный кубинский золотой ром, Вал. Подарили бутылку сегодня днём. Распробуем?
Поздним вечером в роскошной гостиной парижской квартиры Юсуповых горел только камин, больше ни единого источника света, так что особо разглядеть убранство не удавалось. Хотя кое-что об этой квартире знали вообще все. Например, что ковёр действительно чёрный, что картины на стенах – подлинники, что мебель вся антикварная, что обставляли тут всё по дизайнерской задумке самого князя.
– А как так вышло с твоим глазом? Всегда хотел спросить.
– Вы, наверное, ожидаете услышать романтическую историю, примерно, как в «Моби Дике», ваше сиятельство? Боюсь вас разочаровать, но это была всего лишь пьяная потасовка. В том рейсе мы набрали несколько новых матросов в команду и среди них оказался бывший пират, головорез, отсидевший срок за разбой. Он, мало того, что протащил алкоголь на борт, ещё и начал подбивать остальных ребят на бунт. Видимо, вспомнил славные деньки прошлого. Кинулся на меня с ножом, которым солонину нарезал.
– И ты его убил?
– Да.
– Женщинам наверняка пересказываешь «Моби Дика».
– Каюсь, грешен. Женщин пьяные драки не воспламеняют.
Князь жестом велел Валтасару занять одно из двух кожаных кресел перед камином, в котором тихонько потрескивал огонь, сам занял второе, устроился поудобнее, как кот, и сделал глоток рома из стакана олд фэшн.
– У тебя была хорошая жизнь, Вал. Интересная.
– Была, ваше сиятельство?
– И ты хорошо служил мне.
Валтасар Клеменс ван Дейк неторопливо отпил рома и, чуть прикрыв глаза, смаковал послевкусие несколько мгновений, прежде чем спокойным голосом сказать:
– Вы хотите окончательного расчёта. Вам больше не нужна моя помощь.
– Я мог бы сказать, что мне жаль, – задумчиво произнёс князь, глядя в огонь, – но не люблю лгать, если нет острой необходимости.
Тени в углах комнаты, в которой свет исходил только от камина, сгустились и едва заметно зашевелились. Рука ван Дейка чуть дрогнула, лёд в стакане негромко звякнул. Тиканье больших часов, висевших на стене между картинами, стало почти оглушительно громким.
– Я буду очень признателен, если ты не станешь особо сопротивляться, – продолжил князь. – Ты прекрасно знаешь, что я сильнее и это мой дом, полный заряженных амулетов и пропитанный чарами насквозь.
– Вы только что узнали, что я убил человека, ваше сиятельство. Неужели вы думаете, что я способен покорно ждать смерти, как овца под рукой забойщика?
Ван Дейк поставил стакан на изящный высокий столик. Лицо князя оставалось бесстрастным, он по-прежнему не отрывал взгляда от огня.
– И неужели полагаете, что я столь мало предан вам, что могу выдать кому-нибудь ваши тайны? Или даже связаться с НЕЙ, чтобы предупредить?
– О, в тебе я не сомневаюсь, Вал, нисколько. И мне очень нужно, чтобы ты послужил мне последний раз. Только вот сделать это ты сможешь исключительно будучи мёртвым.
Ван Дейк решительно взял стакан со столика, одним глотком выпил оставшийся ром и высоко поднял руку.
– Надеюсь, перед смертью мне не обязательно быть трезвым, ваше сиятельство? Очень хороший ром.
– Можешь выпить всю бутылку, – тепло улыбнулся князь.
Рабочий посёлок Кемерово, 1925 год, январь
О, тоска! Через тысячу лет
Мы не сможем измерить души:
Мы услышим полёт всех планет,
Громовые раскаты в тиши…
А пока – в неизвестном живем
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнем,
Обжигаем себя и других…
Александр Блок «Есть игра».
Рабочий посёлок Кемерово, СССР
1925 год, январь
Снежка должна была умереть.
Я подумал, что не могу этого позволить. Помнится, это была последняя внятная мысль в ту ночь.
Поперечное положение плода – в таких случаях надо действовать быстро и решительно, но надежды всё равно мало.
Потом я просто делал. Мне помогали.
Я взмолился, что было сил, обращаясь к тому, с кем познакомился совсем недавно – на третий день от смерти матери, на второй день от смерти отчима. Тут же почувствовал, как руки наполняет сила, в голове проясняется, и вот уже каждое моё движение становится именно таким, каким надо.
А потом ничего не помню.
Я очнулся в бане, сидя на лавке, глядя на Степана Васильевича сквозь вздымающийся к потолку пар.
–…Хозяйка твоему дому нужна, Ярхей, не то как так жить-то? – спокойно говорил Степан Васильевич, почёсывая пузо над крепко завязанным тёмно-синим полотенцем. – Ты вот везде разъезжаешь, а дом-то как? Своё-то хозяйство как? У тебя ж, поди, куры? И вот тот же Буран.
Я встряхнулся, провёл пятернёй по лицу, пытаясь вспомнить, о чём до того мы говорили, как попали сюда и как вообще Снежка с телёнком.
– Вот ты ветеринар какой хороший, от Бога, хоть и молодой ишшо, – чуть облегчил моё положение Степан Васильевич, заговорив о том, о чём надо. – Снежка, может, и народит снова. А если б не ты, глядишь, и подохла б скотина безвинная, и телёнок б не выжил.
Хорошо, значит, дело я точно сделал. Видимо, Степан Васильевич на радостях уговорил меня остаться, сходить в баню, поужинать и спать лечь, а не плестись на Буране в Щеглово по зимней темноте. Пусть уж конь отдохнёт, снегу за сегодня намело столько, что он того и гляди ноги мог переломать.
– Спасибо на добром слове, Степан Василич, – отмер наконец я. – За моим хозяйством дядька завсегда присмотрит, когда я задерживаюсь. Разве ж я остался бы у вас, если б некому было?
– Ну, это не дело, – тут же замотал головой Степан Васильевич. – Всё равно тебе двадцатый год только идёт, а родители тебя уже покинули. Тяжело будет одному.
Вкусно пахнущий сосновыми шишками пар вдруг показался мне горьким, затхлым, отдающим пылью и плесенью.
– Степан Василич, пойдёмте в предбаннике посидим, квасу хлебнём, а?
Рябинкины всякий раз, как я бывал у них, угощали меня лучшим квасом во всей Томской губернии. Да и вообще хорошие они люди, Рябинкины. Степан Васильевич мне в отцы годится, да и не упускает возможности позанудствовать, вот как сейчас о жене, но, когда две недели назад, почти сразу после новогодних праздников, умерла сначала матушка, а на следующий день отчим, он первым ко мне приехал. И со всем помог, везде всё сделал: место на кладбище, поминки, захоронение. Что я тогда сам бы сделал? Оба мы, и я, и дядька, как потерянные тогда ходили, друг на друга в избе натыкались.
А у меня, к тому же, впервые появились провалы в памяти, когда целые куски жизни исчезали в никуда. Вот как сегодня с родами Снежки. Иногда, впрочем, память возвращалась: вспыхивали в темноте отдельные эпизоды, ощущения. Неожиданно проявлялись, отвлекали от всего, чем я занимался, и после них я чувствовал себя усталым до полусмерти, словно работал в поле день и ночь.
Я знаю, что это всё из-за него, из-за того, кто мне помогает. После смерти матери и отчима ко мне пришёл дух тайги. И признался, что это он мой отец.
Звучит, как самое настоящее безумие, но это правда.
Я разбирал старые мамины вещи на чердаке, искал одежду, специально отложенную «на похороны». Матушка будто что-то чувствовала, несколько раз мне говорила, что хочет быть похороненной в национальном свадебном наряде. Мне это показалось диким, но ведь не я решаю, её последнее желание… Я и в обычаях не сильно-то разбирался, так что, раз сказала мать так – пусть будет. И всё равно, что там традиции велят или не велят.
Я открывал сундук за сундуком, бережно прикасаясь к пачкам писем, перевязанных грубой бечёвкой, тканям, переложенным связками трав, чтобы моль не поела, чтобы пахли приятно, к редким фотокарточкам, подаренным этнографами, приезжавшими к матери, дабы записать древние предания, которых знала она очень много, и запечатлеть чудесные уборы, сохранившиеся от предков. Матушка чтила корни и тому же учила меня. Только я плохим учеником оказался.
На чердаке хранилось четыре сундука. Свадебный наряд я нашёл в первом, а шкатулку – в последнем. Красивая шкатулка – тёмное от времени дерево, резьба, детально изображающая лес, лошадь с двумя всадниками, одним большим и вторым совсем маленьким, явно ребёнком. Я вгляделся в заботливо вырезанную, отшлифованную и залакированную картинку. Лес казался живым, густым, вот ещё мгновение, и можно почувствовать… шелест листьев, запах прелой подстилки, топот копыт… тяжёлое дыхание старшего всадника, затихающие вздохи его приёмного сына… Я откуда-то знал, что этому мужчине сын не родной, но искреннее любимый. Деревья смыкаются всё ближе, просвета не видно, а где-то вдали застыла высокая худощавая фигура в зелёном с посохом в руках. С навершия посоха свисали дубовые серёжки и гроздья желудей.