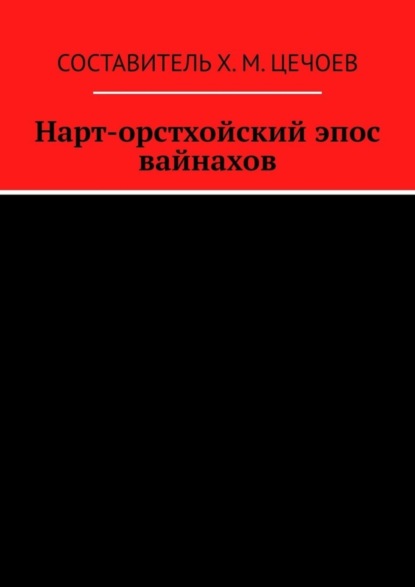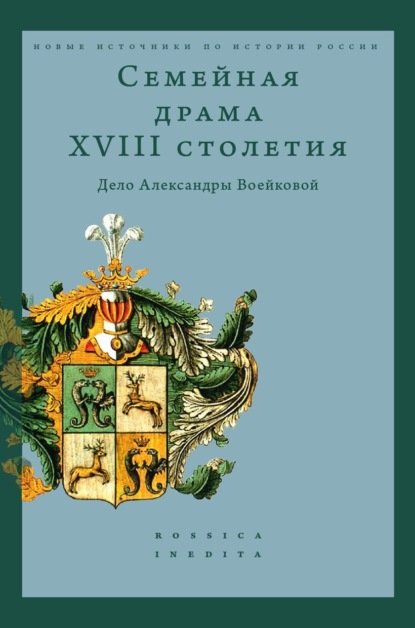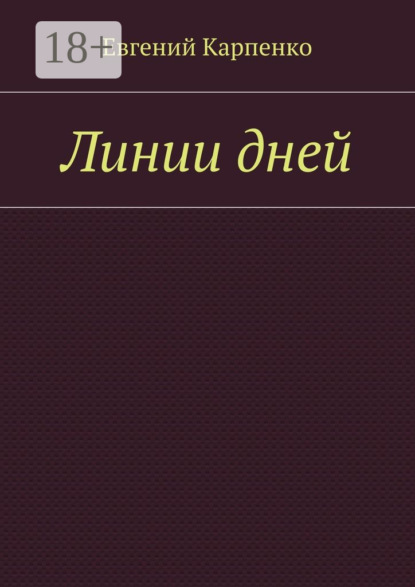- -
- 100%
- +
Нарты и орстхойцы
Относительно нарт-орстхойцев и нартов Ч. Ахриев пишет (в 1870 г.): «Во всех ингушевских сказках и песнях героями являются нярты (нарты) и орхустойцы с противоположными характерами. Первых изображают как людей в высшей степени добрых и нравственных, а потому не удивительно, что слово «нярт» сделалось между ингушами нарицательным именем. Ингуш, желая выразить посильнее похвалу кому-либо, говорит «нярт воI сана ва из», т. е. «он молодец, как сын нарта». Нарты «в памяти народа… являются рыцарями, защитниками слабых, и вот почему они ведут беспрерывную борьбу с орхустойцами, являющимися в народных сказаниях как люди злые, коварные, завистливые…
…По какому-то странному обстоятельству местом действий орхустойцев, как и няртов, служит Галгаевское ущелье, между тем как постоянное жительство этих героев, как уверяет народное сказание, есть Осетия, именно Санаби… Число няртов, как в сказках, так и в песнях, не определено, но орхустойцев считается 60 человек, и все они одного происхождения» (Далгат, с. 106).
По характеристике Ч. Ахриева, «нярты верили в бога и поклонялись ему»; «орхустойцы» хотя и верили, но всегда вели борьбу с богом (основанием для этого вывода является только один небольшой текст; имеется в виду языческое божество Села, чужое для карабулаков. – М. Дж.). «В наказание за это бог постоянно противодействовал их желаниям и предприятиям»; «…они, видя, что борьба их не равносильна, решились на отчаянную смерть: они расплавили красную медь и выпили ее…» (Далгат, с. 106—107).
По мнению сказителя Ганыжа, «нарты и орстхои во времена Моисея жили на плоскости примерно там, где находится Назрань». «Б. Далгат на основании этого пишет: «Если это и так и если это не есть позднейший перенос места жительства нартов вместе с переселением самих ингушей на плоскость, то это говорит много в пользу того, что нартский эпос развился на плоскости, а занесен и сохранился в горах» (Далгат, с. 108—109).
«По сказаниям, все орстхои вели бродячий образ жизни, были людьми сильными, жаждущими борьбы, они были злыми и коварными. Один из орстхоев будто бы даже соблазнил Мать вод – Химиханана. Сказитель Газбык (не разделявший нартов и орстхоев) говорил, что все орстхои грабили и обижали народ и помогали «только своим орстхоям». Сказитель Ганыж (разделявший нартов и орстхоев) уверял, что орстхои были храбрее нартов. Орстхои умерли, выпив расплавленную медь. Нарты были людьми богоугодными и благочестивыми. Жили они в селении Яндырка около Назрани. Нарты сами стали просить у бога смерти. И нарты, и орстхои погибли у Татар-Тупа (у нынешней станции Эльхотово).
В плоскостной Чечне и Ичкерии, по сведениям У. Лаудаева, различие нартов от орстхоев исчезает вовсе, и там о нартах говорится примерно то же, что об орстхойцах у ингушей. Лаудаев сообщает, что нарты в представлении чеченцев – «керестан-исполины, они везде являются угнетателями народа» (Далгат, с. 108—109).
На основе всех этих и других сведений Б. Далгат пришел к выводу «о тождестве орстхойцев с нартами других народов Кавказа». «Орстхойцы, утверждает он, есть копия с нартов кабардинцев, осетин и балкарцев. Основные черты этих героев у северокавказских народов одни и те же». Он же указал и на присутствие в эпосе вайнахов двух групп героев. «Во-первых, нарт-орстхойцев, справедливо подчеркивая при этом, что собственно чеченцы не всегда отличают нартов от эрхустойцев, называя „63 нартов“ то нарт-эрхустойцами, то просто нартами. Во-вторых, тип „чеченских (в смысле вайнахских. – У. Д.) нартов“, имея в виду сильных мирных обитателей, на которых нападали орстхойцы» (Далгат, с. 109).
Точка зрения Башира Далгата о тождестве нартов и орстхойцев предпочтительнее, в ее пользу свидетельствуют сами эпические тексты. Но считать утверждение Ч. Ахриева об их различном нравственном облике ошибочным нельзя. На наш взгляд, он опирался на какие-то, не дошедшие до нас сказания, в которых отражалась память о периоде междоусобиц и столкновений на религиозной почве внутри карабулаков.
А. О. Мальсагов пишет: «Нарт-орстхойцы – герои в фольклоре вайнахов, известные многим народам Северного Кавказа под именем нарты. Нельзя отождествлять эпических нартов со сказочными. В последнем случае они, как правило, выступают в роли злых и глупых великанов. Такая тенденция особенно наглядно проявляется в чеченском языке» (Сказки и легенды ингушей и чеченцев, с. 338).
Согласиться с мнением о различии нартов эпических и сказочных в вайнахском фольклоре трудно, поскольку и те, и другие враждебны людям и выступают по отношению к ним в роли притеснителей. Различие в облике – нарты сказочные выглядят хтоническими чудищами-людоедами, а эпические нарты (в большинстве случаев) описаны как люди, – объясняется тем, что образы первых возникли в период ранних и весьма враждебных контактов вайнахов с карабулаками, а образы вторых относятся к более позднему времени и более близкому знакомству двух этносов.
Нарты и местные герои
По характеру своей эпической деятельности нарт-орстхойцы резко противопоставлены местным героям, что особенно наглядно по перечню основных черт тех и других, составленных У. Б. Далгат (в сокращении):
. Имеют имена собственные. Число их не определено. В народном восприятии идеализированы как положительные герои. Наделены не только силой и мужеством, но и благородством, умом и другими добродетелями. Воспринимаются как местные жители. Отдельным особым обществом не являются. Живут в башнях и повсеместно признаются основателями родов и фамилий. Занимаются мирным трудом, они пастухи и земледельцы; на нарт-орстхойцев не нападают. Выступают защитниками родной земли, стоят на богатырской заставе. С богами не борются, напротив, это люди богоугодные. Воспринимаются как реальные лица, коэффициент фантастического в их обрисовке относительно незначителен. Местные (вайнахские) герои
Имеют имена собственные, в числе которых есть и общенартские. Число нартов – обычно 60—63. В народном представлении воспринимаются как угнетатели-пришельцы, грабители и насильники. Сильны и мужественны, наделены хитростью, воинственны. Живут в башнях. В некоторых случаях считаются родоначальниками. Составляют отдельное общество. Основными занятиями нартов являются походы за добычей, разбой. Постоянно нападают на местных героев. Лишены патриотических черт, стоят на заставе только в редких случаях, когда имеет место побратимство (Соска Солсы) с местными героями. Богам чужим,вайнахским. – М. Дж. не подчиняются, ведут с ними борьбу. (). Коэффициент фантастического в обрисовке нарт-орстхойцев довольно значителен» (Далгат, с. 110—112). Нарты (нарт-орстхойцы). выделено нами. – М. Дж. ( ) Воспринимаются как определенный народ, существовавший в прошлом
Добавим к этому, что в некоторых сказаниях нарты изображены великанами-людоедами, иногда с одним глазом во лбу, а иногда многоголовыми. Если бы карабулаки-орстхойцы изначально были частью вайнахского этноса, ничего такого о них не говориться не могло. Характерно также примечание У. Б. Далгат: «В числе перечисленных тем мы не найдем темы труда. Эта тема не составляет предмета внимания тех эпических рассказов о нарт-орстхойских героях, в которых традиционная типология образов сохраняется полностью и которые со временем еще не подверглись деформации» (Далгат, с. 116).
И это вполне понятно. Было бы странно, например, встретить в русских былинах описание мирного труда «злых татаровей» или хазар. Но, разумеется, в вайнахских сказаниях достаточно часто говорится о трудовых занятиях местных героев. Казалось бы, все вполне ясно: в вайнахском эпосе речь идет о борьбе чеченских и ингушских героев с нартами, представителями чуждого иноязычного племени – слишком резко они отличаются друг от друга. Но такого вывода У. Б. Далгат не делает (как и другие нартоведы). Чтобы объяснить процесс появления нарт-орстхойского эпоса, она вновь выстраивает цепь предположений.
1. «Вполне возможно предположить, что вайнахи, „получив“ нартов от других северокавказских народов, спаяли их со своими древними преданиями и сказаниями». (Иными словами, получается, что в создании нартского эпоса участвовали не все потомки «кавказского субстрата», которому, по мнению У. Б. Далгат, и принадлежат эти сказания).
2. «…вполне вероятно предположить, что исторические орстхои-карабулаки могли запечатлеться в памяти народа как люди суровые и мужественные» и «рассказы о набегах и грабежах сильного воинственного племени орстхоев-карабулаков в ретроспективном восприятии народа смешались с древними эпическими образами».
3. «Попав в эпос, орстхойские герои спаялись с более древними эпическими образами, преимущественно (но не исключительно) отрицательного содержания – разного рода пришельцами и завоевателями, олицетворенными в тех или иных эпических персонажах».
4. «Присоединение к понятию „нарт“ слова „орстхой“, на наш взгляд, есть свидетельство местного осмысления и приспособления древней общенартской героической традиции к вайнахским условиям только определенного исторического периода» (Далгат, с. 114—115).
В эту цепь предположений поверить трудно, поскольку неизвестно, когда и от какого народа вайнахи «получили нартов» (или от всех сразу?) и почему у них не было «общенартской героической традиции»; неясно и то, почему образы нартов вдруг получили у них отрицательную окраску и зачем вайнахи присоединили к термину «нарт» свой этноним «орстхой»; если же «разного рода пришельцы» и до того времени олицетворялись у чеченцев и ингушей в образах нартов, то непонятно, почему У. Б. Далгат говорит, что они «получили» их у других народов (каких?).
Происхождение орстхойцев
Высказав предположение, что нарт-орстхойцы являются «олицетворением пришельцев», У. Б. Далгат, тем не менее, почему-то считала их одним из вайнахских племен. Никаких оснований для такого мнения не существует, но такова точка зрения и других нартоведов. Отмечая, что вопрос об отношении нарт-орстхойцев эпических к орстхойцам этническим представляет большую сложность, У. Б. Далгат пишет: «На наш взгляд, в данном случае имеет место частичная идентификация эпических героев с реально существовавшим вайнахским племенем карабулаков, о котором в фольклоре сложено немало фантастических рассказов, легенд и преданий» (Далгат, с. 113).
Почему же эти «фантастические» произведения были сложены именно об орстхойцах, если они являлись только одним из вайнахских племен, притом не самым большим? «По некоторым историческим сведениям, орстхои-карабулаки в период межродовых и межфамильных раздоров были наиболее воинственным и непокорным обществом, которое устрашало и подавляло слабые фамилии и роды, выселявшиеся с равнины на плоскость. В те далекие времена орстхои-карабулаки активно участвовали в поимке пленников и продаже их в Дагестане, в (кумыкском. – М. Дж.) селении Эндери, бывшем на Северном Кавказе центром работорговли» (Далгат, с. 113).
Но У. Б. Далгат не говорит, почему эти вайнахи-орстхойцы подавляли только своих соплеменников и только их продавали в рабство и почему рассказы об орстхойцах носили фантастический характер (что характерно для народных представлений о врагах-иноплеменниках), как и о том, почему у соседних народов (например, у тех же кумыков, ногайцев, осетин, кабардинцев) нет сказаний о войнах с карабулаками.
«Установлено, что вайнахские племена были одними из наиболее ранних обитателей Кавказских гор и ущелий, хотя точных исторических данных о времени их водворения в горы пока что не имеется. Местами первых поселений вайнахских племен считаются верховья Аргуна и Ассы». По чеченскому преданию, «некий аккинец, по имени Арштхоо, выселившись из своего общества (горного Аккинского общества) и спустившись со своим родом в Бамутское ущелье, основался у источников, называемых Черными Ключами (по-кумыкски – Карабулак). От населения, основанного здесь Арштхоо, образовалось особое общество, называвшее себя… Арштхой» (Далгат, с. 38; с. 41).
«По рассказам сказителя Ганыжа, некогда жили три брата: Га, Орштхо и Нахчо, от которых произошли все галгайцы, орстхойцы и нохчи. В представлении ингушей указанные братья пришли в горы с востока и поселились в месте Галга – и отсюда уже расселялись по всей чеченской и ингушской земле. Орстхои поселились в Датихском ущелье Галгаевского общества по течению реки Асса». «В ауле Датих первыми из потомков Арштхо были Дзаг Арштхоев и двоюродный брат его Чопа, сын Борага. Этот эпоним, как увидим, вошел и в богатырский эпос» (Далгат, с. 42—43).
«Арштхои начали расселяться по ущелью реки Асса и образовали много селений по ее течению до самого Аки-Юрта на плоскости. Там их стали называть русские и кумыки карабулаками» (Далгат, с. 43). В чеченских преданиях этих братьев зовут Ако, Шото и Га. «И здесь упоминается некий акинец Арштхо, который фигурирует как патроним арштхоев-карабулаков. В сказании „Об основании аула Оббоно“, записанном Ч. Ахриевым, говорится, что „наши предки происходят от орхустойцев“ и что они были славными героями и прославили себя между народами» (Далгат, с. 113).
Убедительное, на наш взгляд, объяснение этнонима дает А. О. Мальсагов: «По всей вероятности, «орстхой – арштхой – аьрашхой» происходит от «аре» (равнина, плоскость), ш – показатель множественности, «тIа – послелог, «хо – словообразоватеольный суффикс. Таким образом, «орстхо – арштхо – аьрашхо» (житель равнины) в противоположность «лоамаро» (горец)» – (Далгат, с. 115).
Ч. Ахриев считал, что к историческим «преданиям ингуш отчасти должны быть отнесены сказания об орхустойцах». «При этом он рассуждал о них как о народе: «Об этом народе мною было сказано несколько слов в III выпуске «Сборника сведений о кавказских горцах». Таким образом, Ч. Ахриев фактически связывал эпических героев из «сказаний об орхустойцах», которые он записал и опубликовал как эпические произведения, с орхустойцами в их этническом понимании» (Далгат, с. 112—113).
Однако понимание орстхойцев как особого, отличного от вайнахов народа отражается и в сказаниях. Герой по имени Чопа Борган был женат на лесной женщине (по мнению ингушей, лесные женщины отличались чрезвычайной красотой, в отличие от лесных мужчин). От нее у Чопа Боргана (в других сказаниях он именуется нарт-орстхойцем) был сын, который смертельно ранил своего отца в отместку за убийство дяди.
«». Она почувствовала человеческий запах и сказала дочерям: «» (Далгат, с. 261—263). Умирая, он завещал, чтобы в комнате, где он будет лежать мертвый, никого не было. Так и сделали. Но одна из женщин из любопытства осталась с трупом. В полночь комната вдруг осветилась, это явилась лесная женщина со своими прекрасными дочерьми оплакивать Чопу Кто слышит наш разговор, да не удовлетворятся души его потомства!». Произнесши это заклятие, лесная женщина исчезла вместе с дочерьми. От женщины, спрятавшейся в комнате, произошли орстхойцы (карабулаки). Известно, что они самый беспокойный народ в мире и ничем не удовлетворяются
У. Б. Далгат приводит и анекдот о том, как некий орстхоевец, со словами: «», трижды уводил и продавал в рабство одного галгая. В третий раз галгай спросил: «». О других чеченских и ингушских племенах и родах ничего такого почему-то не говорится. И опять же остается неясным, почему орстхои оставили по себе недобрую память лишь в фольклоре вайнахов, а и не других народов Северного Кавказа. «Еще и поныне, – пишет У. Б. Далгат, – ингуши и чеченцы рассказывали были и небылицы о своих отношениях с орстхойцами в далекие времена» (Далгат, с. 114). Я, Муцарг, увожу тебя Все орстхойцы имеют имя Муцарг или это ты – один и тот же – все уводишь меня?
Почему же нет таких же былей и небылиц о взаимоотношениях других ингушских и чеченских обществ? И разве сам смысл фразы У. Б. Далгат не говорит о том, что речь идет о совершенно чуждом для вайнахов племени? «Племенные столкновения в прошлом были не только между галгаями и орстхойцами, но и между орстхойцами и нохчами (нохчо – самоназвание чеченцев). Старик Муслим Мамергов, чеченец, рассказал в 1958 г. И. Дахкильгову следующее предание: «(кар.-балк. «нартский князь». – М. Дж.) …» (Далгат, с. 114). Некий орстхоевец по имени Няртби нартбий был суровым и воинственным человеком. Он притеснял нохчоев и издевался над ними, отбирая их земли. Один чеченец, говорят, рассердившись на Няртби, воткнул ему кинжал в пах. Няртби, придерживая рану одной рукой, другой вытащил свой меч из ножен и побежал за чеченцем. С разбегу он ударил его по голове мечом. Конец меча застрял в голове чеченца, весь же меч торчал наружу, свешиваясь назад. Убегающий в страхе человек не сразу почувствовал, что в голове его меч, он продолжал бежать и тогда он был похож на удода. Видя это, орстхоевец Няртби, говорят, остановился и принялся хохотать. Указывая на бегущего, он кричал: «Смотрите, смотрите, вон бежит удод»; так со смехом он и умер
Все эти рассказы, как и другие данные прямо говорят о том, что орстхойцы-карабулаки изначально вайнахским племенем не были. Если же придерживаться другой точки зрения, перед нами предстанет весьма странная картина: один из мирных вайнахских родов () переселяется с гор на плоскость, разрастается в мощное племя и переименовывает себя в «равнинников» (), однако соседи называют его «черными родниками», но не по вайнахски, а по-кумыкски. лоамаро орстхой
Затем это племя вдруг превращается в «воинское колено», но начинает воевать не с иноплеменниками, а со своими сородичами (чеченцами и ингушами) – отнимает их земли, ловит и продает их в рабство, совершает на них набеги, грабит и насильничает; более того, в фольклоре вайнахов оно становится эпическим племенем (с которым сражаются «местные» богатыри) с непонятным именованием «нярт», многие представители которого почему-то носят не чеченские и ингушские имена, а тюркские (см. ниже). Поверить в такие превращения трудно. Нарт-орстхойцы – явно не-вайнахское племя.
Народ о нарт-орстхойцах
Следует сказать, что эволюции образа местных героев в вайнахском эпосе нет, в то время как эволюция образа орстхойцев по материалам сказаний прослеживается ясно. Это является еще одним свидетельством в пользу мнения о том, что они были иноязычным племенем, представления о которых у чеченцев и ингушей по мере все более близкого знакомства с ними постепенно менялись. Как известно, иноплеменники-враги в фольклоре часто изображаются злыми великанами. То же самое мы видим и в эпосе вайнахов.
«Д. Г. Жантиева в своем интересном докладе на тему «Героический эпос горцев Северного Кавказа», ссылаясь на известную ей рукописную работу Ф. И. Горепекина «Ингуши» (т. IV, кн. 2), пишет следующее: «Жили нарты в подземельях… Они были настолько сильны, что вырывали большие чинары с корнями и рукой очищали их от листьев. Тело их, обросшее длинными волосами, прикрывалось кожей диких зверей. Последний представитель этого народа – нарт Тэймысхан встретился одному чеченцу, который спросил его: «Зачем вы, нарты, ходите по свету и причиняете зло повсюду?». Нарт пытался перехитрить чеченца и убить его, но это ему не удалось; он спрятался в подземелье, и больше нартов никто не встречал» (Далгат, с. 164).
По мнению У. Б. Далгат, этот «вид нартов-богатырей, запечатлевшийся в чеченских преданиях, относится к наиболее древнему типу». «В чеченских сказаниях такие древние нарты не имеют положительных характеристик. Эти великаны, живущие вдали от людей, обычно враждебны людям. Подобные образы довольно часто встречаются и в чеченских сказках, например, в записи Т. Эльдархановым чеченской сказки „Завет отца“. Здесь о нартах сказано, что это великаны неимоверной силы; живут они в пустынном месте, усеянном трупами людей, убитых ими. У нартов есть кони, борзые и соколы» (Далгат, с. 163—164). Почему же народ отождествил этих злобных и диких великанов именно с нартами, а затем и с карабулаками-орстхойцами, а не с каким-то другим племенем?
У. Б. Далгат считала, что образы этих великанов, имевших неприятный облик и злобный нрав, позднее были эстетизированы и нарты обрели вполне человеческий облик. «В большинстве случаев в чеченском языке нарты приводятся в классе „ду-ду“. К классу „ду-ду“ относятся мифические существа, например, ешап, убар (упырь), малейк (ангел), алмас. Вместе с тем о нартах иногда говорится как о людях в мужском классе» (Далгат, с. 172). Но вот что говорится в одном из сказаний: некий князь «долго шел, пока не встретил огромного нарта. Увидев его, нарт из своей ненависти к людям, бросился на него, но предусмотрительный князь убил его стрелой» (Далгат, с. 355). То же самое, например, в сказании «Разгром нартов»: «Между людьми и нартами возникали раздоры и войны». «От жажды нарты очень ослабели. Тогда люди и истребили их» (Далгат, с. 342). Противопоставление людей нартам есть и в других текстах.
Признаками наиболее древнего типа великанов, несомненно, являются черты хтонизма. Очевидно, однако, что нарты в ранних сказаниях вайнахов – это мифологизированный образ опасных и сильных врагов-иноплеменников. Потому-то у них, враждебных людям и живущих в пустынных местах, есть кони, борзые и соколы, что для хтонических чудищ (в которых У. Б. Далгат увидела прообразы нартов) было бы, по меньшей мере, странно.
В сказании «Тимар с обгоревшим боком» в роли Полифема выступает нарт-эрстхоец, который пас овец и на которого случайно наткнулся герой Тимар вместе с шестью своими братьями. Нарт был так огромен, что братья не смогли сдвинуть с места его шапку. Вход в жилище нарта, сделанного в скале, закрывал огромный камень. Тимар рассказывает своему гостю-охотнику:
« (нарт. – М. Дж.) ». Он зарезал барана, съел его, а нам бросил кости, потом, хватая нас по одному, насадил на шампур и положил его над пламенем, чтобы подпалить нас. Съев моих шестерых братьев, он лег спать, меня же оставил в живых, так как я только с боку подгорел
Но Тимару удалось спастись и вернуться домой. Охотник, выслушав его рассказ, нашел нарта-людоеда, расправился с ним, оживил братьев Тимара волшебным черным оселком и женился на их сестре (Далгат, с. 273).
В другом варианте герой Тюнин Вису встречает великана-пахаря Эржи Хожу, который рассказывает ему почти то же самое: «». Но Эржи Хожа, которого нарт посчитал слишком худым, ночью ослепил нарта и выбрался из пещеры (Далгат, с. 282). Я и мои десять братьев отправились на охоту, где мы наткнулись на одноглазого нарта. Он всех нас поднял и опустил в кисет с табаком. Придя домой, он вытащил моих десятерых братьев из кисета, повертел их над огнем и, будто орехи, бросая их в рот, съел по одному
Как и все нарты, герой Сеска Солса гибнет, по вайнахским сказаниям, выпив расплавленную медь. Но есть сказание, в котором его смерть описана по-другому: «». «» (Далгат, с. 336). В давние воремена когда-то жил один мужчина по имени Сеска Солса. За один присест съедал он целого барана. Как заснет – неделю спал, а как бодрствует, так целый месяц ходит. А был он одноглазым. Сеска Солса не имел своего дома, потому и странствовал все время по долинам, горам и лесам На свете не было человека, кто мог бы одолеть Сеска Солсу. Однажды, когда он спал, его враги предательски выкололи его единственный глаз. Из-за этого Сеска Солса никуда не мог больше пойти и умер
В этих сказаниях также проглядывают ранние представления вайнахов о нарт-орстхойцах как о хтонических чудищах: одноглазый нарт разгрызает людей, как орехи (но имеет кисет), нарт Сеска Солса не имеет дома, спит неделю, а бодрствует целый месяц и гибнет, как циклоп, которому выкололи его единственный глаз. В кар.-балк. сказаниях подобными чертами наделены только глупые и безобразные эмегены-великаны, лютые враги нартов.
«В сказке „Три брата и нарт-эрстхойцы“ образы нарт-эрстхойцев, потеряв свое эпическое значение воинов-завоевателей, превращены в трех- или девятиголовых чудовищ» (Далгат, 1977, с. 46).
Исследовательница не заметила, что противоречит сама себе. Получается, что нарт-орстхойцы были вначале представлены как воины-завоеватели, и лишь затем превратились в многоловых чудовищ. Но выше она же говорила о том, что образы древних великанов, «имевших неприятный облик и злобный нрав, позднее были эстетизированы и нарты обрели вполне человеческий облик».
На наш взгляд, все как раз наоборот: в архаических текстах вайнахов нарт-эрстхойцы представлены хтоническими чудищами, а в более поздних – воинами-завоевателями, необыкновенно агрессивными, но не лишенными и многих достоинств. «Ож-Болат – положительный герой, он помогает людям и противодействует злу. Вместе с тем он называется нарт-эрстхойцем, которые, по сказаниям, всегда враждебны людям» (Далгат, 1977, с. 46). Есть и сказание, в котором главный герой эрстхойцев – Сеска Солса – представлен не нартом, а просто сильным человеком: « (азербайджанцев. – М. Дж.). ». Они направили его к своей матери; зная, что они причинят Солсе зло, она помогла ему бежать. Братья пускаются за ним в погоню, но одноглазый нарт-эрстхоец, который пас овец, спрятал Солсу под язык, а трех братьев-нартов связал волосом, вырванным им из своей спины (Далгат, с. 283—284). Кто обладает большей силой, чем я? – сказал Солса и отправился странствовать. Чтобы испытать свою силу, он кинул быка от Аксая через море в страну гажарий Он шел, сомневаясь, что найдется такой же богатырь, как он сам. Долго странствуя, он дошел до трех братьев нарт-эрстхойцев, которые косили сено