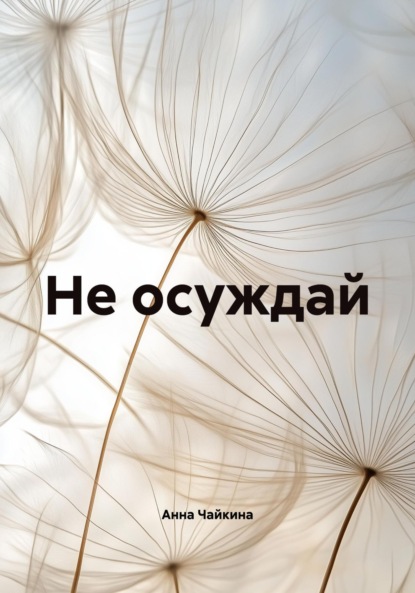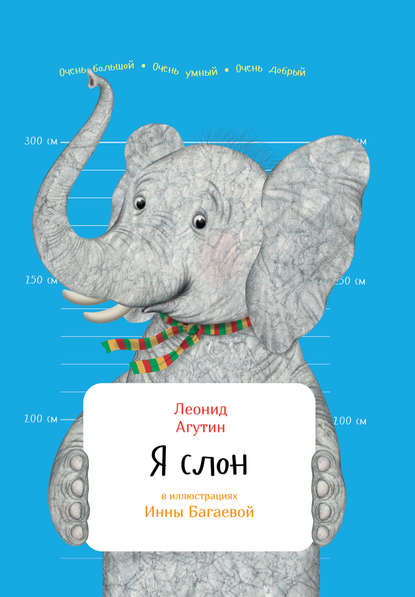- -
- 100%
- +

ПЯТЬ
Мне пять, я на тренировке. Каждый день по два часа: ОФП и лед. Иногда еще час хореографии.
Полгода назад по телевизору транслировали чемпионат мира по фигурному катанию. Конечно, мы смотрели, как и большинство советских граждан. Зимняя триада: биатлон, фигурное катание и хоккей – неизменно приносила стране золотые медали. Фадеев, Роднина и Зайцев, Бестемьянова и Букин – фамилии, вписанные в историю мирового спорта. И я смотрела, как фигуристы прыгают и скользят по блестящему льду, а ты спросила меня: «Нравится? А хочешь так же?» – «Конечно!» – доверчиво кивнула я, не отрываясь от экрана.
Ты отвела меня в подготовительную группу при ЦСКА: ты хотела не просто спортивные нагрузки для моего здоровья – ты хотела стать матерью чемпионки. Я ходила и старалась делать все, что просят. Получалось не очень. Не видевший во мне перспективы тренер с каждым занятием уделял все меньше и меньше внимания. Но ежедневно в семь утра – только в такую рань лед свободен для тренировок самых младших – я уже была у борта. Для этого нужно было встать в пять, быстро собраться и позавтракать, заплести пучок (ты всегда торопилась и дергала мои волосы невероятно больно), преодолеть дорогу на трамвае и метро примерно час, переодеться и зашнуровать коньки – маленькому ребенку это мог сделать только взрослый, потому что шнуровать нужно туго, иначе легко заработать вывих.
Тренировки были даже по субботам, а по воскресеньям детей «подкатывали», то есть занимались дополнительно. Но это только с теми, чьи родители точно решили воспитать чемпионов, чего бы им это ни стоило. Ты, мама, об этом не знаешь. Пока.
Забегая вперед, расскажу о некоторых ребятах из нашей группы. Среди нас был будущий олимпийский чемпион, но по стечению обстоятельств именно его никто из родителей не водил на тренировки. Его приводила бабушка, и сил шнуровать ботинки у нее было мало, поэтому помогали другие родители – снисходительно, конечно. Никто не верил, что при таком отношении родителей ребенок сам сможет добиться чего-то значительного. Но именно Илью через семь лет выбрал Виктор Кудрявцев, от которого он позже перешел к Тарасовой. В группе был еще один очень сильный мальчишка – Виталя. Ох как мать била его после тренировок за любое замечание тренера. Виталя не смог закончить школу: положили на лечение в психиатрическую больницу.
Но это все будет позже, а пока мы все учимся приседать и делать пистолетик, отрабатываем простое скольжение вперед и назад, прыгаем козликов и непременно держим спину.
Я очень устаю, но не возражаю. Знаю, что ты расстроишься, ведь ты мне все время напоминаешь, сколько для меня делаешь и как сильно я должна быть благодарна за то, что я не в детдоме.
Спустя много лет, когда весь спортивный ад закончится, я узнаю, что это ты в детстве очень хотела быть фигуристкой. Ходила зимой на каток. Но то ли родителям было некогда водить тебя на тренировки, то ли ты не так уж готова была заниматься всерьез – этого ты не рассказывала, – фигурное катание так и осталось твоей нереализованной детской мечтой. Но у тебя была я, и ты была готова на многое, чтобы доказать миру, что твои желания должны исполняться.
ШЕСТЬ
Три месяца назад мне исполнилось шесть. Осенью ты начала меня готовить к школе. Учиться писать, решать примеры. Читать я уже умела довольно сносно. В твоем мире дочь могла быть только отличницей. Иначе… – я даже не знаю, что иначе, но верю, что только отличные оценки смогут помочь мне получить чуточку твоей доброты.
Я сижу в комнате, день солнечный и теплый. Гулять мне не хочется: я не знаю, как проводить время во дворе. У меня нет подруг, ведь я занимаюсь спортом, потом готовлюсь к школе, и еще ты отвела меня в музыкалку. Меня, конечно, зачислили. Слух у меня оказался не абсолютный, но ты очень просила, и учительница, которая собиралась на пенсию через пару лет, согласилась, пожалев тебя или, возможно, меня. Через восемь лет, подготовив меня к поступлению в музыкальное училище, она призналась, что я была ее лучшая ученица за все годы.
Со двора доносится пение птиц, и так отчего-то хорошо! Твой строгий голос быстро заставляет меня вернуться к тетради. Я снова стараюсь. Ты снова недовольна. Я делаю ошибку! Нет, нет, нет… Может, пронесет и ты не увидишь? Но поздно! Ты свирепеешь на глазах, начинаешь шипеть (орать нельзя, потому что квартира коммунальная и могут услышать соседи): «Безмозглая тварь, дура, тебе всё как об стену горох!» Твое лицо очень близко. Оно перекошено, и мне так страшно, что я скукоживаюсь, а слезы катятся из глаз одна за одной. Я как можно быстрее их вытираю рукой: плакать нельзя, я помню. Но снова поздно! Ты еще больше злишься, хватаешь меня за подбородок и трясешь. Больно, но нужно терпеть. Ты командуешь мне сесть за пианино и играть то, что задали. Резкими движениями открываешь дневник, читаешь задание; прищурив глаза, спрашиваешь, поняла ли я, и уходишь на кухню готовить ужин.
Я играю заданные пьески, не понимая, правильно или нет. Главное, чтобы из комнаты доносились звуки. Скоро придет папа с работы, и вы будете обсуждать что-то свое, взрослое, а мне можно будет побыть в своем отгороженном шторкой углу, разговаривая с куклой или с собой.
СЕМЬ
Мы всей семьей на Водном стадионе. Я в первом классе. Учусь только на пятерки. В музыкальной школе тоже только пятерки. Везде меня хвалят. Но на спортивных соревнованиях я часто последняя, иногда предпоследняя, что мне кажется невероятным достижением. Но разве можно тебя этим порадовать?
Ты наконец узнала, что лучшие в группе «подкатываются». Денег на подкатывание с тренером нет, поэтому ты решила это делать сама. Дорожки для конькобежцев открыты по выходным для всех желающих, и вход стоит недорого. Лед открытый, на улице крепкая зима, и, несмотря на активное катание, мне холодно. Я занимаюсь в том же костюме, что и на крытом льду: дополнительная одежда будет сковывать движения. Теплые носки в коньки надеть тоже нельзя – просто не налезут, поэтому ног уже не чувствую.
В семь лет спортсмены ЦСКА прыгают полтора-два оборота. Аксель у меня получается через раз, остальные – всегда заваливаю. Никто не учит меня раскрываться вовремя, правильно группироваться в воздухе – я просто механически повторяю одно и то же: заезд, толчок, вращение в воздухе и падение вместо выезда. Падаю больно. Синяки повсюду. Старые – зелено-желтые, новые – сине-красные. Я привыкла.
Вот очередной прыжок. То ли от усталости, то ли от холода – падаю особенно неудачно. Всем телом, на бок, ударяю плечо. От боли слезы брызгами вылетают из глаз. Поднимаюсь, вытираюсь перчаткой. Подъезжаю к родителям. Ты стоишь с каменным лицом – недовольна, что за час я так и не смогла выполнить ни один сальхов с выездом. Папа протягивает платок и подает чехлы. Он бережно снимает коньки, накидывает на меня куртку и растирает ноги. По ним бегут тысячи иголок – ужасное ощущение, но я его люблю, потому что оно означает конец тренировки. Оно означает, что сейчас мы по дороге купим пончики и у тебя, мама, будет хорошее настроение, а значит, мне тоже будет хорошо. До завтра. Завтра понедельник и на тренировке что-то снова не получится. В раздевалке ты будешь сверлить меня ненавидящим взглядом, но это ничего по сравнению с Виталиком. Виталика будут бить чехлами по голове, и он не будет плакать. Он никогда не плачет. Правда, однажды он подошел к Илье с бритвой и чуть не полоснул его по горлу, но всем повезло – тренер был рядом, и инцидент замяли.
Но это все будет потом, а сегодня можно чувствовать себя спокойно, ведь тебе вроде не за что меня ругать, тем более вечером вы с папой пойдете в гости – недалеко, к соседям по коммуналке. Тетя Лариса и дядя Витя – добрые и веселые. Правда, тетя Лариса тебя страшно раздражает своей спортивной фигурой. Она занимается волейболом. Для души, после работы. А с дядей Витей ты много шутишь.
А еще у них есть дочь, Оля. Она младше меня на три года, поэтому я не знаю, как с ней дружить. У нее есть хомячки – пушистые, глаза как черные бусинки. Они живут в клетке с подстилкой из старых газет. Оля не всегда успевает менять газеты, и часто клетка издает специфический запах. Ты обычно брезгливо морщишься и непременно говоришь: «Как можно держать таких паразитов?» А мне так хочется какое-нибудь животное – пушистое и теплое. Чтобы можно было обнять и почувствовать любовь. И я прошу: ну пожалуйста, мама, давай заведем щенка или котенка. А ты закатываешь глаза и спрашиваешь, кто за ним будет убирать. Я согласна убирать, я обещаю, но ты почему-то не веришь.
ВОСЕМЬ
Второй класс. Учительница, которую я обожаю – она так по-доброму смотрит на меня, – раздала контрольные диктанты по русскому. Четверка. Вообще, Лариса Васильевна мне даже иногда помогает. Если, например, ошибочка незначительная и ее можно исправить незаметно, она мне подсказывает, как исправить, и не снижает оценку. Это такое приятное чувство, что взрослый человек тебе помогает! Но в этот раз ошибка была слишком очевидной, и вот она – четверка.
Я стою у раздевалки уже одетая и знаю, что снаружи меня ждешь ты. Как тебе сказать про четверку? Может, не говорить? Но ты увидишь ее в дневнике. Ноги ватные, и тут я вижу Юльку. Ее мама тоже ждет во дворе школы. Мы выходим вместе и вчетвером идем к метро. Ты не спрашиваешь меня про диктант, и от радости я несусь с Юлькой наперегонки. Мы затеваем с ней прятки, и, убегая за трансформаторную будку, я неудачно падаю на левую руку. Что-то больно пронзает ладонь, я поднимаюсь, просто зажимаю кулак и стремглав бегу к тебе. Не глядя на руку, разжимаю пальцы и вижу ужас на твоем лице. Алая кровь пульсирует из раны на ладони. Оказывается, я упала рукой на торчащую крышку консервной банки и порезалась довольно глубоко. Ты, ничего не говоря, вынимаешь и прикладываешь платок, чтобы кровь не капала на одежду, берешь меня за правую руку и быстро тащишь в медпункт ЦСКА. Доктор, систематически имеющий дело со спортивными травмами, настолько мастерски латает мне порез, что шрам сейчас можно разглядеть только в лупу.
Домой едем молча, ты лишь немного поворчала, что теперь мы не сможем ездить в музыкалку целый месяц и что ты сто раз просила меня беречь руки. Ведь я музыкант. Мне приятно думать о себе как о музыканте. Здорово, что не спортсмен: музыка мне нравится больше. Правда, немного непонятно, почему, если я уже музыкант, мы все еще ходим на тренировки.
Вечером ты рассказала папе о том, как я неуклюже упала и тебе пришлось очень быстро бежать и очень сильно просить, чтобы мне зашили руку. Папа жалел тебя. Когда ты вышла в ванную, он заглянул в мой закуток и спросил, как рука. Я показала, он подул и пообещал, что так заживет быстрее.
Почему-то папа старался меня жалеть, когда ты этого не видела. Я его понимаю, ему тоже иногда доставалось от тебя. Не то сказал, не так сделал, сделал так, но не вовремя – причин было много. Но папа всегда извинялся, шутя: «Виноват, исправлюсь» – и ты переставала злиться. Я так не могу. Я почему-то сильнее обижаюсь, мне все время хочется плакать, когда ты ругаешься, мне кажется, что ты не всегда справедлива. Хотя ты каждый раз объясняешь, что виновата именно я. И вроде все сходится, только все равно обидно.
ДЕВЯТЬ
Я вернулась из школы и застала тебя на общей кухне с ножом в руках.
Теперь я учусь в другой школе, рядом с домом. Мне уже девять. Ты перевела меня кататься в «Олимпийский», и ходить в эту школу удобнее – я могу это делать самостоятельно. Переходить в новый класс было страшновато, но обычные ребята – не спортсмены – мне понравились даже больше. У меня появилась подружка Дана, с которой мы сидим за одной партой. Дана – дочь генерала, ее родители мне кажутся бабушкой и дедушкой. Они живут в старинном доме со статуями. Однажды Дана предложила мне зайти к ней домой. Как же я удивилась, что в квартире, где шесть комнат, живет всего одна семья. В гостях было не по себе. Но мама Даны была очень дружелюбна и угостила нас чаем с конфетами. Она как будто никуда не торопилась – странно, ведь ты всегда торопишься. Точнее, ты все делаешь быстро, и я никогда не успеваю за тобой. А здесь, на огромной кухне с высоченными потолками и лепниной вокруг люстры, хотелось пить чай, смеяться и никуда не торопиться.
Я стою у входа на кухню, а ты с остервенелым лицом и ножом в руке подходишь к клетке с попугайчиком.
Оле завели волнистого попугайчика, и она мечтала научить его говорить. Но попугайчик оказался самкой, а самки, как известно, почти необучаемы. Поэтому попугайчик только издавал громкие свистящие звуки. В этот день утром Оля вынесла клетку на кухню и, видно, забыла ее там. Попугай радовался присутствию людей, свистел, чирикал и цокал.
Когда ты просунула лезвие ножа в клетку, попугайчик отодвинулся вглубь и замолчал. «Мам, что ты делаешь?» – ты резко обернулась и разразилась тирадой о том, как эта чертова птица не дает тебе спокойно готовить, орет, не затыкаясь, и что у тебя от этого голова раскалывается. После чего повернулась к попугаю и угрожающе прорычала: «Еще раз заорешь – убью!» Ты положила нож возле клетки, словно напоминание, и повела меня в комнату. Я испытала облегчение, что досталось попугаю, а не мне, – хотя мне вроде было и не за что.
На всякий случай я села сразу за уроки, чтобы просьба передохнуть тебя не разозлила.
ДЕСЯТЬ
Мне десять, и осенью меня приняли в пионеры. Это было так торжественно и красиво! Нас пригласили в папину академию, где мы произносили клятву и получали алые галстуки в обмен на свои звездочки. Я видела, как папа мной гордился. Он был такой красивый в военной форме. И нам было так здорово идти вместе, держась за руки, по бульвару, усыпанному шуршащими под ногами разноцветными листьями. Счастье!
В середине февраля нашу учительницу попросили подготовить двух учеников для поздравления членов политбюро на трибунах Мавзолея. Для школы это было событие вселенского масштаба. И в список возможных участников вошли я и Дана! Я ликовала, ведь это означало, что меня признали лучшей в классе, да что там в классе – в школе. Меня покажут Девятого мая по телевизору: я буду вручать цветы какому-то очень важному дяденьке или заслуженному ветерану. От этих мыслей кружилась голова. Тебя, правда, это не слишком волновало, но я думала, что, когда ты увидишь меня по телевизору, ты точно обрадуешься.
Фамилии несколько недель согласовывали. И сегодня объявили, что выбрали Дану – пойдет только она. Дома я с горечью рассказала тебе, что меня вычеркнули из списка. Ты ухмыльнулась: «Конечно, ведь твой папа лейтенант, а не генерал, как у Даны». Ты равнодушно отвернулась к плите, а я прошмыгнула в комнату. Слезы душили, и я тихонько поплакала, пока ты не позвала за стол.
В тот же день в музыкальной школе за плохо отработанную пьесу и невнимательность учительница влепила мне четыре с тремя минусами. Имея в виду крепкий трояк, но зная, что я плохо переношу низкие оценки, она написала огромными буквами: «ДОУЧИТЬ!», подчеркнув это трижды. Когда вечером я выкладывала из портфеля дневник, меня било мелкой дрожью. Услышав твои приближающиеся к комнате шаги, я в смятении сунула дневник в щель между балконными дверями, которые запирались осенью до весны. Через два дня перед очередным уроком фортепиано ты решила проверить дневник – мне ничего не оставалось, как промямлить, что я его потеряла. Странно, но ты меня за это не отругала, скорее удивилась. Так дневник остался между балконными дверями до конца марта. Страх разоблачения рассеялся, и мне казалось, что я смогла-таки обмануть судьбу.
Однажды, вернувшись из школы, я не услышала обычных звуков с кухни – это означало, ты в комнате, что было совсем необычно. Сердце затрепетало в предчувствии ужасного. Я заглянула в комнату – ты сидела спиной ко мне. «Заходи, – сказала ты металлическим голосом, не оборачиваясь. – Ложись на диван и снимай штаны», – прорычала ты, теперь уже глядя прямо мне в глаза, не мигая и покрываясь багровыми пятнами. «За что? Мамочка, за что?» – я повторяла это, пытаясь не захлебнуться слезами. Ты победно схватила со стола мой «потерянный» дневник: «Ты что, меня за дуру вздумала держать?!» Дальше ты повалила меня на диван, взяла заранее приготовленный папин ремень с огромной бляхой, дождалась, пока я сама стяну штаны, и отходила меня этим ремнем так больно, что, когда ты закончила и скомандовала одеваться, я не смогла сесть и сползла боком. Кое-как, натянув на ноющее тело штаны, сгорбившись и на трясущихся ногах, я ушла в свой закуток. Я не помню ни вечера того дня, ни что и как говорил папа, ни твоих дальнейших угроз – все застилали боль и обида. И отчаяние. Отчаяние оттого, что теперь я никогда не смогу заслужить твою любовь и это уже никак не исправить.
ОДИННАДЦАТЬ
Какое же славное изобретение – телефон. Я разговариваю с Ленкой уже второй час.
Ленка – моя подружка в новой школе. Да, я в пятом классе, и у меня снова новая школа. В этот раз меня перевели, потому что мы переехали из коммуналки в свою отдельную квартиру. В ней мне выделили целую комнату. В школе я освоилась быстро – отличниц, спортсменок и безотказных очаровашек принимают хорошо. Я нравлюсь мальчишкам, учителям и тем девочкам, которые не стремятся командовать всеми в классе. Остальные скорее завидуют. Ленка полная, от этого уже с грудью, веселая и любознательная. Однажды она совершенно беззлобно заявила мне, что если бы только захотела, то тоже училась бы на отлично. Так-то она с тройки на четверку. Когда я пересказала разговор тебе, ты презрительно улыбнулась: «Вот дура». Вообще, я рассказываю тебе все – ты требуешь полного отчета. И я настолько привыкла, что не могу скрыть даже то, что очень хочу. Мне кажется, что ты как рентген – видишь все, что происходит в моей голове.
По телефону Ленка трепется обо всем подряд, и с ней страсть как интересно. Она знает миллион разных вещей. Например, сегодня мы обсуждаем, как вызывать духов и правда ли, что, написав определенный код на руке, можно вызвать у себя температуру.
Ты открываешь дверь в комнату без стука и начинаешь говорить нарочито громко, чтобы Ленка услышала: «Опять со своей толстухой разговариваешь? Ты уроки сделала? Тебе на тренировку через час!»
Ленка не обидчивая, хотя мне хочется провалиться под землю. Полная девочка по фамилии Толстова. Почему ты так беспощадна к ней? Это единственный человек, с которым мне не нужно стараться. Стараться делать правильно, стараться отвечать на отлично, стараться, стараться, стараться… Все – учителя, тренера, а главное, ты – всегда ждут, что я буду стараться. Ленка не ждет, ей главное, что я слушаю ее и понимаю. Ей, кстати, тоже дома невесело – папа-алкоголик, а мама работает на двух работах. На Ленку она никогда не орет, на нее матерится отец. А мама жалеет. Вот бы мне такую маму.
Я извиняюсь и прощаюсь с Ленкой. Начинаю делать уроки. Геометрия не дается. Снова не могу решить задачу. К тебе точно не пойду. Последний раз я обращалась к тебе полгода назад – ты так обзывала меня. Я поняла, что тебя бесит, когда я обращаюсь за помощью, ведь у тебя полно хлопот на твоей новой работе. Когда мы переехали, ты устроилась на работу в архив. Я часто хожу к тебе по вечерам помогать заполнять карточки, ты хвалишь меня за почерк и сетуешь, что сама пишешь не так разборчиво. Это фантастически приятно – ты хвалишь, и я готова написать тысячи таких карточек для тебя! Моей помощи недостаточно, ты все равно сильно устаешь и, когда приходишь с работы, требуешь принести тебе чай и что-нибудь поесть. Я умею готовить только бутерброды, хотя другие девочки в одиннадцать лет уже умеют, например, варить картошку и макароны. Ты не учишь меня, но злишься, что я приношу вместо нормального ужина бутерброд.
Однажды я решила научиться сама! Я знаю, что ты любишь блинчики. Я нашла рецепт в твоей поваренной книге, замесила тесто и поставила на огонь сковородку. На раскаленную сковородку я бросила кусок сливочного масла, и она загорелась. Валил черный дым, я заливала плиту водой. Кое-как я справилась с огнем, открыла форточку. И тут домой пришла ты. Наверное, у тебя было хорошее настроение, и ты не стала меня наказывать. Сковородку выбросила со словами: «Кто ж так сильно разогревает? Смотри, с такими умениями замуж-то не возьмет никто!» – и засмеялась. И я тоже засмеялась.
ДВЕНАДЦАТЬ
Я в раздевалке. Мне двенадцать. Сегодня соревнования на второй юношеский разряд. Сердце бешено колотится, я только откатала школу. Школа – это система обязательных упражнений на скольжение (например, восьмерки, петли). И я получила неслыханно высокие для себя баллы – вошла в тройку лидеров! Я ликую. Даже сложно поверить, что впервые за все годы я смогла добиться такого результата. Ты сидишь на трибунах. Конечно, хочется, чтобы ты спустилась, мне так важно поделиться с тобой своей победой. Пусть впереди еще прокат программы, но высокий результат школы резко увеличивает мои шансы на успех. Ты не спустилась. Наверное, неудобно прервать беседу с другими родителями. Я понимаю.
Время проката. Я стою за бортом и наблюдаю поклон предыдущего спортсмена, тихий шелест бумаг и переговоры судей. Наконец они поднимают оценки. Ожидаемо. С трибун раздаются редкие хлопки, и диктор начинает объявлять мой номер. В этот самый момент ко мне подходит тренер. Она шепчет мне прямо в ухо, что произошла какая-то проблема с моей фонограммой, но я, как настоящий профессионал, должна кататься независимо ни от чего: «Услышишь музыку – начинай!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.